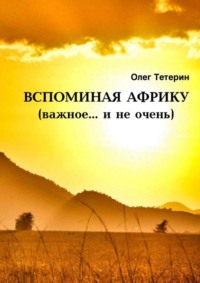Читать книгу: «Вспоминая Африку (важное… и не очень)», страница 9
С другими, по-моему, был «на равных». Это – Лия Турусова с экономического факультета; Гиви (грузин, с юридического) и Наташа (филфак) Яковлевы – муж и жена; Наташа Зимянина с филфака (дочь секретаря ЦК КПСС М.В.Зимянина, удивительно скромная девушка). И… Саша Дубянский! Тогда студент ИВЯ с тамильским языком, ныне доцент, кандидат филологических наук, преподает в ИСАА.
Саша тоже учился в школе им. Гнесиных! Об этом узнал летом 2012 года на… встрече «выпускников» Фортепианного класса МГУ, устроенной у себя в квартире Ирой Черкашиной (уже очень давно Дунаева, по фамилии мужа, Владислава Ивановича, журналиста-международника с японским же языком31).

Елена Фабиановна Гнесина (в центре) в своем кабиннете и ее сестра Ольга Фабиановна (слева) с учениками музыкальной школы-семилетки.
Среди них Саша Дубянский (стоит справа) и автор (слева), в середине – наверное, Володя Петров.
Нас, к сожалению, собралось всего пятеро: включая Иру – Лия, Дима, я и Саша. Он показал пожелтевшее фото: группа учеников – мальчики и девочки (многие с пионерскими галстуками) – вокруг сидящих в креслах Елены Фабиановны Гнесиной и ее младшей сестры Ольги. Среди них, сзади, и мы с Сашей: стоим бок о бок, нам – лет 14—15.

«Ветераны» Фортепианного класса МГУ.
Слева направо: Лия Турусова, Саша Дубянский, автор, Ира Дунаева
и Дима Гальцов. 2012 г.
И вспомнил – была и у меня такая фотография! Но куда-то и давно затерялась. И вот – она снова передо мною, спустя более полувека! Удивило и то, что Саша помнил: моим педагогом была Софья Ивановна Апфельбаум. Признаюсь, то, что Саша Дубянский – мой «однокашник» по музыкальной школе, для меня стало приятным «открытием». По «Гнесинке» его я не запомнил…
В нашем классе занимался и Марк Подберезский. Встретишь такого, как он, и невольно скажешь про себя – «не от мира сего». Именно таким его запомнил. Как пианист-исполнитель был слабым; мне говорили, что играть на пианино он научился, придя к Ундине Михайловне в класс. Но Марк стал композитором, писал музыку. И однажды на концерте фортепианного класса – и не где-нибудь, а в Малом зале Консерватории – исполнил пьесу собственного сочинения! На занятиях у У.М. видел его редко, но регулярно – на наших концертах.
Что-то нашла в нем Ундина Михайловна и была внимательна к нему, как и ко всем своим ученикам. К каждому из них у неё был свой подход, сужу об этом хотя бы по себе. Внимание Ундины Михайловны я всегда ощущал. Как опытный педагог и профессиональный музыкант, зная мои способности и возможности как исполнителя, она удивительным образом подбирала такие произведения, которые, в конечном счете, у меня получались совсем неплохо, например, «Вальс» Шуберта-Листа. И при этом даже не замечал свой «природный» недостаток, играя, в частности, «Революционный этюд» Шопена.
* * *
В Гугле есть исполнители «Вальса» Шуберта-Листа (каприс, Венские вечера, №6). Разные, и их немного. Послушайте. Какая-то «девчонка» – не в счёт. Мне комментировать даже не хочется, отсебятина какая-то. У неё не было такого педагога, как у меня! Видимо, она плохо представляла, как танцевали ВАЛЬС на балах в веке XIX-м. Если бы представила (как удалось мне), играла бы по-другому…
Об исполнении Котляревского, профессора, – он «так» слышит и играет (его право). Наибольшее впечатление произвел Владимир Горовиц. Мастер! По исполнению – тонкому (хотя я, местами, и не со всем согласен с его исполнением, но это – тоже моё право). У меня неплохо получалось (запись – есть)…
Из письма в Таиланд:
19 апреля, 62 – …29 марта играл «Вальс» Шуберта-Листа во II отделении афишированного концерта, посвященного Листу в Клубе МГУ, а также играл его 24 марта, и 6 апреля – на «капустнике» ИВЯ.
…Вошел «в контакт» с преподавателем английского языка на почве музыки. «И все-таки, вы молодец!» – сказала Муза Николаевна. Но на её занятиях «молодцом» бываю редко – «пятёрок» почти нет, чаще «4», а то и «тройки». Она брала у меня интервью для стенгазеты. Ей поручено написать о «капустнике» ИВЯ 6 апреля, на котором получил 9 баллов (из 10). Играл очень хорошо в начале, самому даже понравилось. Как потом сказали из класса нашего музыкального, «звучало фундаментально, чувствовалось, что пьеса все-таки сделана».
Однако играл с таким чувством – трудно передать, чем оно было вызвано, – что где-то должен быть срыв, ошибусь, подзабуду. И действительно, под самый-самый конец, где, казалось бы, и ребенку трудно ошибиться, неудачно взял пассаж, палец у меня соскочил с правильной ноты. И пока «пыркался», всем стало ясно, что все-таки играл с ошибкой в этом месте. В итоге – 9 баллов…».
В Доме звукозаписи
На втором году занятий в классе Ундина Михайловна организовала запись одной из пьес моего репертуара – «Среди долины ровныя… Вариации на русскую народную песню» Михаила Глинки» Глинки – в Доме звукозаписи на ул. Качалова (сейчас Малая Никитская). Хорошо помню, как проходила эта запись, а её «детали» – в моем письме в Таиланд:
10 января, 62 – 4 января записывались на радио в Доме звукозаписи. Из 6 человек из нашего класса трое прошли наверняка, как сказала Ундина Михайловна, в том числе и я.
Полутемное помещение, небольшой зал. В центре – рояль, крышка – поднята, освещение сверху. Поодаль, в стороне, за широким стеклянным экраном – звукооператоры и У.М., перед ней – микрофон.
Сел за рояль, поправил стул, попробовал педали, клавиши, а потом сыграл какие-то гаммы, пассажи, аккорды. Это заняло минуты две-три. И слышу моего педагога: «Олег, давайте начнем».
Запись – дело сложное: малейшая неточность – всё начинается сначала. Вообще же, записываться очень интересно. Сидишь один у рояля, ты никого не слышишь – полная тишина. Ты и рояль, да еще микрофон, из-за которого у некоторых нервы не выдерживают. Говорю это не про себя. Волнения я не испытывал – публики-то нет рядом! Сыграл Глинку. По ходу исполнения У.М. несколько раз меня прерывала, подсказывала где, что и как сыграть иначе, лучше, тоньше.
Вторая попытка оказалась, видимо, лучше – Ундина Михайловна ни слова не сказала. Но по окончании снова сделала какие-то замечания. Наконец, слышу: «Ну, а теперь запишем. Олег, соберитесь, учтите, что я говорила».
Чем чаще исполняешь эту пьесу, тем больше находишь что-то новое, так и здесь.
Когда записывались, нас прослушивала какая-то контрольная комиссия. О ней мы ничего не знали, когда играли, наверное, чтобы не волновались. На недавнем уроке Ундина Михайловна сказала, что мою игру, в частности, признали хорошей, «стильной» (т.е. в стиле Глинки, очевидно)».
«Вариации…» Глинки в моем исполнении не раз звучали в те годы, например, по «Маяку» (заполняя паузы музыкой, как и сейчас на FM 91,6 – «Радио-культура»). Звучали они по московскому радио и 25 января в передаче о Фортепианном классе МГУ, которую я записал тогда на свой магнитофон. И папа мой слышал её по радио, когда лежал в больнице осенью… 1962 года!
Как говорила Наташа Яковлева, работавшая тогда в Доме звукозаписи, «моя» запись хранилась в «золотом фонде», но я так и не переписал ее на память для себя. И хранится ли она?..
С музыкой и на Занзибаре
Мой педагог заметно сокрушалась, что я уезжаю на Занзибар, предполагая верную утрату мною пианистических навыков. Но нет!
…Однажды, на втором-третьем месяце после приезда, направляясь по каким-то делам в Генконсульство, иду по переулкам и слышу… звуки музыки из окна продуктового магазинчика, куда часто заходил за покупками. Кто-то играл на фортепиано! От удивления остановился, послушал несколько минут.
А дальше – небольшой фрагмент из упоминавшейся выше книжки (с. 174—175):
«…Зашел в магазин, игра прекратилась, выходит знакомая хозяйка – индуска средних лет, в сари. Спрашиваю: «Кто играл?» – «Я» – ответила она, слегка смутившись. Рассказав ей вкратце, что я тоже пианист со стажем, играю с детских лет, попросил показать инструмент. В свою очередь удивившись, хозяйка провела меня в комнату. Там не рояль и не пианино, а старенький, видавший виды клавикорд! Похожий на пианино, но миниатюрнее – пониже и поуже любого из знакомых мне. И клавиатура показалась поменьше – на пол-октавы в басовом и скрипичном ключе. Оказалось, я посчитал: 88 клавиш, как и полагается. На таком инструменте мне играть не доводилось.
С позволения хозяйки я «попробовал» его: клавикорд хорошо держал строй, будто был настроен недавно, да и клавиши упругие. Спросил, можно ли, не обременяя её, иногда заходить поиграть. Она любезно согласилась. И какую-то часть свободного времени от работы я занимался музыкой в её доме…».
В дополнение к этому воспоминанию процитирую письмо Ундины Михайловны (от 16 ноября 1965 г., пожелтевшее, храню его), которое получил на Занзибаре. Почерк – красивый, слегка размашистый, но «твердый», отчетливый, и обращение ко мне на «Вы»:
«Дорогой Олег! Примерно месяц назад получила Ваше письмо. Хотела тут же Вам написать, но обстоятельства сложились против моих намерений. За 2 месяца, прошедших с начала учебного года, у меня было лишь 3—4 выходных дня. Университет (фортепианный класс) занимает не только все будние дни, но и часто воскресенья.
Уже 14 октября у нас был первый в этом сезоне классный концерт в Доме дружбы (на Арбате. – О.Т.) по приглашению польско-советского общества. Программа посвящалась годовщине смерти Шопена. Вступительное слово сделал один из наших крупнейших музыковедов проф. И.Ф.Бэлза32.
Был полный зал. Весь концерт записал Радиокомитет и 3 раза передавали по Московскому радио. Кроме того, запись концерта была передана в Варшаву…
В конце сентября – начале октября прошел новый прием в класс. Записавшихся было больше 100 человек. Слушала в несколько приемов. Приняла 8 человек! (Как видно, уважаемый читатель, мне в 1960-м крупно повезло! Наверняка и тогда «записавшихся» к Ундине Михайловне вряд ли было меньше). Несколько человек числятся в кандидатах. Они регулярно напоминают о своем существовании и довольно нетерпеливо спрашивают: «Может быть, вы кого-нибудь отчислили из класса?»
…Готовлю совершенно новую программу: 1-е отделение посвящается фортепианным транскрипциям (от Глюка до Листа), 2-е, задуманное мною еще в прошлом году, состоит из произведений молодых Ленинградских (так в тексте. – О.Т.) композиторов. Все ноты я получила в рукописях лично от авторов. В Москве эти произведения будут исполняться впервые. Я ездила в Ленинград (у меня ведь там старые знакомства) и отобрала то, что мне понравилось. Но рукописи не так просто было получить! Произведения трудные и написаны современным музыкальным языком.
Основная работа уже позади. 20-го и 27 октября были первые закрытые концерты. Главный, открытый афишный концерт состоится 30 ноября у нас, в Д/К на Манеже. По-видимому, вызовет интерес у уважаемой прессы. Посмотрим! Конечно, очень волнуюсь. Не жалею себя в работе, но и с учеников требую много. Впрочем, Вы знаете (выделено мною. – О.Т.).
Теперь о новостях лично-индивидуального порядка. Ира Черкашина работает на своем факультете педагогом, ее пригласил деканат. Приходится ей очень трудно: аспирантура, работа, маленький ребенок. У Наташи и Гиви будет прибавление семейства. В таком же примерно положении Люда… и Оля… Но все приходят в класс и, как ни странно, занимаются! Дима Гальцов в аспирантуре, как говорит, «на физ-факе и в аспирантуре у У.М.Дубовой в классе». Так же, как и Лия Турусова…
Ну, вот, как будто бы обо всех «стариках» написала. Вам все шлют большой, большой привет, желают успехов в работе и успехов в борьбе с комарами!
…Вам, Олег, за успехи прошлого года преподнесли бинокль (красивый, в футляре). Это – по линии Университета. Горком Союза за участие в смотре (Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. – О.Т.) наградил Вас грамотой и 10-ю рублями. Все это Вы получите, когда вернетесь.
Напишите, удается ли Вам заниматься? Каковы теперь Ваши взаимоотношения с занзибарцами? Какая там сейчас у Вас погода?
Как-то в Б. зале Консерватории встретила Ваших маму и папу. У обоих цветущий вид
…Да, забыла. Из ИВЯ у меня новый ученик (индийский факультет) Саша Дубянский (выделено мною. – О.Т.). Безусловно, способный человек. Если получите это письмо до 30-го ноября, думайте о нас. Все очень волнуются… Пишите о себе подробно. О делах, людях, стране. Как Вы себя чувствуете?
Обнимаю и целую Вас. Желаю здоровья и благополучия.
Ваша Ундина Михайловна.
P.S. Лев Александрович хотел бы приветствовать Вас на языке суахили, но пока еще его не изучил. Поэтому шлет Вам азербайджанский салам и русский привет».
На мой взгляд, это письмо позволит читателю составить более полное впечатление об этом неординарном человеке, что, быть может, не удалось автору этого эссе.
«Концертштюк» Вебера
Вернувшись из Занзибара, я продолжил занятия в Фортепианном классе МГУ. Играя дома и разучивая новые вещи, заметил – как ни странно было для меня самого, после Занзибара пальцы стали «бегать» быстрее! Наверное, это заметила и Ундина Михайловна.
…Осенью 1966 года на одном из уроков Ундина Михайловна сказала: «А давайте-ка попробуем с вами выучить „Концертштюк“ Вебера» – и передала мне ноты33. Посмотрев на обложку, обратился к ней: «Но здесь написано – для двух фортепиано» – «Если всё получится, аккомпанировать буду я». И, сев за рояль, сыграла с листа некоторые фрагменты этого произведения. Музыка мне понравилась, и выучить у меня «получилось».

Ундина Михайловна включила меня в состав участников концерта по случаю 30-летнего юбилея Фортепианного класса МГУ. Концерт был афишированный, он состоялся в начале 1967 года в голубом Октябрьском зале Дома Союзов. Вместительный зал был полон. Я открывал второе отделение, играл Вебера – искрометное произведение, музыкальный шедевр, крайне редко исполнявшийся у нас тогда, да и сейчас. Аккомпанировала Ундина Михайловна.
Очень требовательная, она редко раздавала похвалы своим ученикам, и я не был исключением. Но на этот раз, собрав после концерта всех его участников, Ундина Михайловна сказала: «Вы, наверное, заметили, что в зале присутствовал Арам Ильич Хачатурян. Мы давно знакомы, и я пригласила его на наш юбилей. Так вот, когда спросила, кто ему больше всех из моих учеников понравился, знаете, что он ответил? – Олег Тетерин», и с улыбкой посмотрела на меня.
Такая оценка дорогого стоит. Так было, я это помню…
* * *
В Интернете нашел я «своего» Вебера. Но все исполнители (и их немного в Гугле) играли с оркестром! Но откуда в ДКГФ МГУ на Моховой, в начале 60-х, свой оркестр? Потому и играли на двух роялях (т.е. «в переложении» для них). Конечно, не мне тягаться с Клаудио Аррау, которого я прослушал. Однако исполнение одной пианистки (молодой девушки «в белом», почти моего возраста тех лет) мог бы сравнить со своим собственным (по памяти, конечно же, ибо у меня нет моей записи). И всё же, читатель, – послушайте: виртуозная вещь! Что и понравилось, наверное, Хачатуряну в моем исполнении…
«Музыка – дело тонкое»
Я не самонадеян, отнюдь. И вовсе я не «Рихтер», «Гилельс» и другие великие и знаменитые. Но и совсем уж «средним» себя не считаю. Что мог, что любил (при тех технических возможностях, что имел, отнюдь не беспредельных) – получалось…
Вообще же (перефразируя известное): «Музыка – дело тонкое».
Особенно мне по душе Шопен. Еще со времен учебы в «Гнесинке». Его произведения «малой формы» – ноктюрны, вальсы, полонезы, экспромты. Но более всего – в минорной тональности, например, «Ноктюрн» фа минор. Именно поэтому среди исполнителей полюбилась Белла Давидович (р. 1928 г.). Побывав впервые на её концерте в середине 1950-х, в программе которого были исключительно произведения Шопена, старался больше не пропускать ее концертов, и не только в Москве. Так, отдыхая с родителями в Сочи в 1956 году, узнал из объявлений, расклеенных по городу, о ее выступлении в летнем театре, под открытым небом.
Родителям в Осло писал:
3 мая, 59 – …Сегодня вечером намереваюсь получить удовольствие: иду на фортепианный концерт Беллы Давидович. Она играет Шопена. В том числе и мой «Ноктюрн». Очень интересно, как она играет его? Это имеет для меня большое значение, т. к. Апфельбаум и Бунакова советуют играть по-разному. Мне больше по душе совет (конечно, не совет, а игра) Софьи Ивановны.
Могу лишь согласиться с теми, кто считает Б. Давидович лучшей из современных интерпретаторов Шопена.
В 1960-е годы в Зале им. Чайковского слушал Леонида Зюзина (1916—1986). Поражался, КАК играл этот незрячий (с рождения) музыкант!
* * *
C той поры, как жил в Венгрии, а потом в Норвегии (в летние каникулы вместе с сестрой в 1957 и 1958 годах), и по сей день – в моих ушах фокстрот, свинг и буги-вуги, король твиста Чабби Чеккер (его «Twist again»), Тони Бенетт – его «In the middle of an Island» (1957), например. Нравились и блюз, и джаз, не говоря о рок-н-роле в исполнении Билла Хейли (его «Round around the clock») и, конечно же, Элвиса Пресли. Вообще – синкопированная музыка, ритмичная, с «переходами» из мажора в минор, и наоборот.
Тогда же на одной из пластинок услышал «You are my destiny» Пола Анки. И музыку, и слова он сам написал! А как исполнил! И всё это – в 17 лет!!! (почти мой ровесник – р. 1941 г. Пожалуй, с тех лет стал я «отслеживать» своих ровесников в разных областях и сферах). А как он пел «Diana» и «Crazy love»! Тоже в 1957 году. После него ставлю «на равных», пожалуй, только Тома Джонса с его «Дилайлой» (впервые услышал Тома, когда работал переводчиком-диктором в Отделе вещания на суахили Московского радио в конце 60-х).
А Дорис Дей (р. 1922)? Или Пэт Бун (р. 1934) – «Tutti Frutti» (1956), например, в его исполнении; «Anastasia» (1957) – памяти Анастасии, одной из дочерей Николая II, – слезы наворачиваются! А также – «Bernadine» (1957), «A wonderful time up there», «It’s too soon to know» и «How Deep is the Ocean» (1958). Или дуэт «The Lips» (две очаровательные девчушки-американки), и многие другие «американцы с англичанами».
На Занзибаре, где тогда (в 1965-1966-м) можно было заказать-купить всё, что по душе, приобрел пластинку произведений великого Моцарта в джазовом, блистательном, исполнении! И впервые услышал, как поёт Нэт Кинг Коул, его удивительный, «бархатный» голос. Очень жаль, что он так рано умер.
Классика, одним словом, – на все времена. Как и «Биттлз» позднее. В этом ряду не по мне «…камни» с Мик Джаггером – ну, очень похожий (или – наоборот, что, думаю, вернее) на нашего «неувядаемого» Леонтьева.
Не скрою, была «борьба» – с папой (с мамой у нас были одинаковые музыкальные вкусы: что нравилось мне, она любила, а что любил я – ей нравилось). Строгий, он был равнодушен к эстрадной (как тогда говорили), «легкой» музыке, и следил в мои юношеские годы, как бы увлечение «западной» музыкой не оказало на меня «тлетворного», по его словам, «влияния». Но я устоял! И приносил пластинки с проигрывателем в школу на вечера. Однажды дело дошло до «рукоприкладства» – проигрывая и отобрав пластинки, уже собирался уходить, как отец вдруг выхватил одну из них и в гневе грохнул об пол. Это была пластинка «Istanbul Konstantinople now». Её-то как раз я и обещал принести в школу. И что же? Папа ушел, а я взял клей «БФ-2» и склеил, как сумел. Получилось! Я обещал, я принес – пластинка «играла»…
Спрашивал себя: «Как музыка может „неправильно“ влиять? На что?» Музыка потому и называется музыкой, считал я, что она разная: может называться «классической», «западной», «восточной», современной-несовременной, ещё какой-то. Так что, и «классика», и другая музыка (ведь музыка же!) – всё это во мне. Многое принимаю, немало и того, что безразлично. При этом – никаких «авторитетов», предпочтения есть, но это – личное…
И в заключение

Играю «Вальс» Шуберта-Листа на «капустнике» ИВЯ. 6 апреля 1962 г.
Незабываемы ежегодные весенние «капустники», предтеча знаменитых КВН, – соревнования в остроумии и находчивости студентов гуманитарных факультетов МГУ (исторический, журналистики, филологический, ИВЯ, а также экономический – все они тогда располагались в старом здании МГУ на Моховой). На этих «капустниках» в ДКГФ, участвуя в команде ИВЯ в 1961—1965 и 1967 годах, я получал высокие баллы – «9», «9 с плюсом» и «10» – за исполнение «классики» на концертном рояле «Эстония». На этом рояле играл и великий Рихтер, регулярно выступавший с сольным концертами перед студентами МГУ по приглашению У.М.Дубовой-Сергеевой – его давнишней знакомой по занятиям в Московской консерватории в классе Г.Г.Нейгауза.
Так я пополнял «копилку» команды ИВЯ. На это обратил внимание и мой наставник Леонид Абрамович Фридман. В сентябре 1963 года вышла из печати его книга – «Капиталистическое развитие Египта (1882—1939)». В твердой обложке, форматом чуть меньше А4, 365 страниц (с илл.), тираж – 1600 экземпляров. В подаренном мне экземпляре он оставил такой автограф: «Олегу Тетерину, который с первых лет учения (надеюсь) твердо идет по избранному пути и не забывает об искусстве». Я храню эту книгу.
При мне в этих «капустниках», наверняка и раньше, ИВЯ неизменно занимал 1-е – 2-е места. Во многом это и заслуга Миши Мейера – студента-тюрколога, настоящего «заводилы» и худрука талантливой студенческой команды ИВЯ34.
…Работая в Уганде (заведующим Бюро АПН в 1985—1990 гг.), с прискорбием узнал, что моя учительница музыки У.М.Дубова-Сергеева скончалась в 1986 году.
Удивительная женщина! Энергичная и требовательная, замечательный педагог, беспредельно преданная музыке. После кончины Ундины Михайловны Фортепианному классу МГУ было присвоено её имя.
P.S. Это судьба выбрала, что стал я африканистом, а еще раньше (благодаря родителям) – и пианистом. А судьбу не выбирают…
ДМИТРИЙ САЙМС – США? НЕТ.
ДИМА СИМИС – СССР!
Из Занзибара я вернулся в Москву в разгар экзаменационной сессии, когда мои товарищи по группе суахили в ИВЯ, студенты VI курcа – Довженко, Макаренко, Пильников, Луцков и Ира Федосеева – сдавали госэкзамены. Для завершения учебы деканат предоставил дополнительный «академический» год, и Володе тоже, когда он вернулся в октябре. В 1967 году, получив диплом, поступил в аспирантуру Института Африки АН СССР. Со временем была утверждена тема моей кандидатской диссертации – «про Занзибар».
Работа над ней шла полным ходом, когда в начале 1970 года ученый секретарь института Игорь Валерианович Витухин (безвременно скончался в середине 90-х) предложил выступить с докладом или сообщением на общегородской молодежной научной конференции «Ленин, молодежь, современность», приуроченной к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Ее организовали МГК ВЛКСМ и Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР.
По словам Витухина, материалы конференции предполагалось издать под грифом ИМЭМО. Он намекнул, что лишняя публикация в научном издании не помешает при защите диссертации.
Конференция состоялась в апреле. Я выступил с докладом «Молодежь Занзибара» – как раз по теме моей научной работы. Когда закончил выступление, ко мне подошел, назвав себя, Дима Симис. Он сказал, что тоже участник конференции, учится в аспирантуре ИМЭМО, тоже будет выступать с докладом, но в другой секции (а их было две). Пригласив послушать, сообщил, что является ответственным секретарем сборника по итогам конференции, и попросил передать ему тезисы моего доклада. Что я и сделал через несколько дней.
В сентябре 1970 года сборник вышел. Дима позвонил мне. Я подъехал к ИМЭМО, он вручил мне экземпляр, в нем – тезисы моего доклада, а также и его – «„Новое левое“ движение в США и антимонопольная борьба». Сборник (храню в своем архиве) вышел небольшим, по тогдашним меркам, тиражом – всего 500 экземпляров, но главное – эта публикация пошла мне «в зачет» при защите кандидатской.
Те две встречи с Димой Симисом мне запомнились.
Но вот прошло почти 30 лет. И как-то однажды, в конце 90-х, в ток-шоу на одном из наших телеканалов на тему российско-американских отношений, проходившим в интерактивном режиме и в прямом эфире, на экране в телестудии появляется некий американский политолог, вещавший из Вашингтона.
Он прекрасно говорил на русском, без какого-либо акцента, словно этот язык для него родной. Эту передачу я включил, видимо, с некоторым опозданием, и фамилию оратора произнесли в самом ее начале.
Я продолжал слушать американца, и вдруг он показался мне знакомым, прежде всего – черты его лица и глаза, хотя он был в очках, и еще что-то узнаваемое. Какие-то сомнения были, но все же подумалось, что где-то когда-то я этого человека уже видел. Когда же ведущий программы снова обратился к нему, на экране появилась фамилия – «Дмитрий Саймс, президент Фонда Никсона». Да, это был тот самый Дима Симис! Манера речи осталась прежней, что тоже помогло его вспомнить. Словом, я его узнал.
После той, первой для меня, передачи с участием Д. Саймса видел его по телевизору много раз. Но почему он стал американцем, особо не интересовался: уехал, ну и уехал. Как и о том, кто и почему из наших телевизионщиков «вышел» на него. Интернетом тогда, признаюсь, не пользовался, в конце 90-х еще не обзавелся компьютером, да и на работе особой нужды в нем не было.
В последние годы Дмитрий Саймс был постоянным «гостем» у В. Соловьева в давно надоевшей лично мне передаче «Воскресный вечер с…» на телеканале «Россия», в которой он, Соловьев, – самый умный, всезнайка, постоянно прерывает выступающих, а иногда просто игнорирует их. Да еще с набившим оскомину «юмором» (острослов, одним словом, или юморист, как в телепередачах Евгения Петросяна), по поводу которого зрители в телестудии, как по команде, шумно аплодируют (платят им за это, наверное). Как ни странно, Соловьев не прерывал Дмитрия Саймса, слушать которого интересно, разумный человек.
Еще хуже обстоит «дело» с другой передачей в прайм-тайм на том же канале – «60 минут», с ведущими этого ток-шоу: некоей Скабеевой с мужем. И откуда взялась эта ведущая? Озабоченная (чем?), с умным видом (всё понимает?), ей ничего не стоит талдычить и талдычить «о своём» (особенно – «про Украину»), когда говорит (а она и слушать не желает) достойный оратор, ими же (т. е. Скабеевой с мужем) приглашенный в передачу. Но я отвлекся…
Когда начал готовить эти воспоминания, эпизод, о котором рассказал, как-то возник сам собою. Мне стало любопытно: а есть ли что-то о Саймсе в «мировой паутине»? Есть, и немало. Поэтому для более подробного знакомства с Дмитрием Саймсом, как он оказался в Америке и т.д., отсылаю читателя в Интернет.
Помнит ли он нашу встречу в ИМЭМО? Вряд ли. Помню я. Тогда он показался мне дельным, толковым парнем. Я стал африканистом, Дима Симис – американским советологом. Так сложились наши пути-дороги…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе