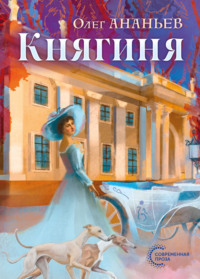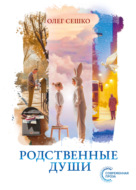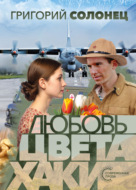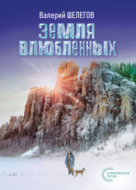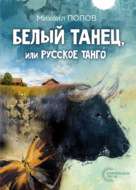Читать книгу: «Княгиня», страница 3
Глава 10
Жаркий июль обнял землю и окутал своим дыханием, в котором истома, сожаление и ожидание смешались красками и ароматами. Княгиня любила эту пору. Знакомые стихи любимых поэтов вдруг становятся смутными, рождаются свои… И Ирина Ивановна собралась в таинственную Волотову.
В рессорной коляске с поднятым верхом было душно. Княгиня уже пожалела, что отправилась в дорогу в такую погоду, когда солнце сделало воздух вязким и липким. Лучше бы она сейчас сидела в беседке на берегу Сожа. Так нет же, надо вместе с другими повозками поднимать сухую серую пыль! По Румянцевской улице, ведущей к городу, растянулась вереница телег. Ирина Ивановна ощутила, о чём упреждал дворецкий: Ильинская ярмарка в день Ильи-пророка – большое событие, на неё съезжаются крестьяне из окружных деревень. Повозки, гружённые товаром, тянутся княгине навстречу, на Базарную площадь.
В городе было в основном четыре базара: большой – в центре, конный, или сенной, – у Мохова переезда, Рогачёвский, а ещё в Белице, на другом берегу реки.
На три ежегодные ярмарки свозилось товаров более чем на миллион рублей. Хлеб – из Украины; бакалейные товары – из Москвы, Петербурга, Риги, Киева; мануфактура, галантерея – из Петербурга, Москвы, Польши; меха – из Нижнего Новгорода. Порядка полутора сотен гомельских купцов занималось скупкой пеньки, льна, конопли. После отмены крепостного права Гомель по торговому значению прочно первенствовал в губернии.
К базарным площадям примыкали торговые ряды из лавчонок. Здесь же ютились мастерские, где работали, а порой и жили сапожники, парикмахеры, ювелиры, модистки, пекари, токари, галантерейщики. Рядом с базаром жили и трудились грузчики, коновалы, мясники и колбасники. Даже из окон жилых домов, прилегающих к базарам, хозяйки продавали только что испечённые пирожки, булочки, маковники, карамельки.
Площадь у Петропавловской церкви называлась Соборной. Но с тех пор, как на ней три раза в неделю начал проходить большой торг, стала именоваться Базарной. Крестьяне везли сюда живность, продукты и разные кустарные изделия. Площадь запружена возами и лошадьми. В сухую погоду поднималась ужасная пыль, а в сырую – по колено липкая грязь…
На ярмарках Гомель был сплошным базаром, напоминал кипящий котёл. Княгиня не любила ярмарки за шум-гам и за грубые, пошловатые «чудеса», которые показывали в балаганах – передвижных театрах. Она не могла радоваться кукольным представлениям и скоморошьим потехам, а выступления цыган с медведем вызывали у неё только жалость.
Ехавшие и идущие на ярмарку крестьяне чем-то привлекли её внимание. Нарядно одетые, они имели не просто благообразный вид. Княгиня не могла оторвать взор от этого шествия, не сразу поняв, чем оно её заворожило. Она не могла наглядеться на его пышность и великолепие. Откуда в этом шествии торжественная красота?
Ответ она прочла во взглядах женщин. Они рассматривали её, догадываясь, что в коляске, едущей им навстречу, новая владелица гомельского имения. Молодая княгиня поняла, какие думы светятся в их подсознании: позади – дни, месяцы тяжёлого труда, впереди маячила радость празднества. Этот редкий огонёк предстоящего веселья искрами мелькал в их взглядах, улыбках и шутках.
На крестьянках пестрели цветные юбки, отороченные яркой тесьмой, светились белые фартуки и рубахи, вышитые алым орнаментом, сарафаны, золотистые шнуровки.
Девчат выделяли венки или головные повязки. На замужних женщинах – в большей части белые намитки. Чем-то похожие на корону, эти древние головные уборы придавали им сакральный вид. Казалось, они сами понимали исключительность происходящего – шли плавно и величаво.
Мужики были разряжены в светлые холщовые зипуны, расшитые рубахи и придающие солидность чёрные картузы.
Ко всеобщему говору шедших и ехавших присоединялось гоготание гусей, высовывающих свои длинные шеи из корзин, ржание лошадей, мычание коров, блеяние коз, которых гнали по обочинам дороги.
А всему этому вторил колокольный звон, продолжавшийся в такие дни обыкновенно до самого полудня. И редкий спешащий на ярмарку не побывал перед тем в святом храме: помолиться не только для того, чтобы торговля была удачной, но и «душу поправить».
Шествие впечатляло некоей затаённой силой. Людской поток напоминал пёструю полноводную реку жизни, в которой сливались голоса и краски, чувства радости и горести, удали и робости, надежд и неизъяснимой тревоги…
Наконец свернули в Прудок, куда шла уютная дорога, обсаженная стройными липовыми рядами. Княгиню и раньше удивляла тишина и пустота на этой аллее. Но сегодня, в ярмарочный день, особенно.
– Почему на этой дороге нет телег? – спросила Ирина Ивановна у сопровождавшего её управляющего имением.
– Однако крестьянам пользоваться сей дороженькой не велено, по этой аллее могут ездить лишь барин, Вы, Ваше Сиятельство, да я – по делам имения или с детьми в костёл и гимназию.
– И как же крестьяне из Прудка со своим товаром добираются в город, на базар?
– Так по узкой тропке, что тянется по окраине меж топями Бурого болота. Ваше Сиятельство, не душно?
Тёмный полог был свёрнут – стало легче дышать, повеяло ароматами, в которых угадывались и травы, и яблоки. Отрадно, что кружевные кроны деревьев вдоль аллеи не просто укрывали от солнца – навевали романтическое настроение…
В душистом мареве послышалось пение… Звуки женского голоса разливались в воздухе, будто их рождала природа. Певицы не было видно. Догадавшись, что княгиню заворожило пение, управляющий дал знак вознице остановиться – смолк скрип колёс.
– И кто же это так дивно поёт? – задумчиво спросила княгиня. Она не ждала ответа, но он всё же последовал от кучера:
– Лукерья, знамо дело, она всегда починает. Чуток погодите – другие подхватят. Вишни собирают.
Ирина Ивановна и сама догадалась, отчего пение исходит из вишнёвого сада: туда просто так зайти никакой крестьянин не смеет – значит, велено урожай собирать. Девчат не было видно, но пение их становилось всё более отчетливым. Многоголосно зазвучала песня…
– До чего ж красиво! Я их слушаю – будто некое целебное зелье принимаю, – вырвалось восхищение у Ирины Ивановны.
– Песня – она и есть лекарство, – управляющий проговорил это тихо, не для княгини: дал и своим сердечным думам выйти из груди.
Как бы вторя ему, продолжил возничий:
– Песня лучше любого снадобья от печали. Когда суженого Лукерьи взяли в рекруты, – а это ж на двадцать пять годков, – она умом тронулась. Знахарка сказывала её матери: «Пусть она поёт». Вот Лукерья больше всё поёт, нежели говорит.
Услышав горькую историю, княгиня вздохнула: «И всё-таки надо образовать женский хор». Представила этот хор в церкви Петра и Павла. Церковное пение казалось ей самым благостным.
– Как слаженно поют – видать, от души, от избытка радостных чувств, – предположила княгиня. – Богатый урожай в этом году.
Управляющий в ответ промямлил что-то, а возничий повернулся к княгине, измерил её взглядом, будто впервые увидел, глухо произнёс:
– Петь их заставляют. Чтобы не съели ни одной ягодки, ни одной спелой вишенки… Моя двоюродная сестра с дочурками здесь работают. При этом за день детям платят пятнадцать копеек, а в ведомости ставят тридцать.
Управляющий в ответ засуетился сконфуженно. Ирина Ивановна, и до того невнятно слышавшая слова песни, вдруг перестала разбирать их вовсе. И уже не песня, а смутная мелодия вошла в её сердце.
Возничий вытаращил глаза. Но убоялся он не кулака управляющего. Увидев слёзы княгини, поспешил успокоить её:
– Ваше Сиятельство, помилуйте, Христа ради, за слова мои несуразные. Вы лучше песню слушайте: пение душу прогревает. Всем сладко.
– Так значит, мне надлежит этим заняться… Сама петь не буду. Не люблю делать то, что у меня хорошо не получится. А вот хор создать желала бы.
Княгиня спохватилась, что мысли о хоре она произнесла вслух.
– И не сумлевайтесь, Ваше Сиятельство, дело это весьма благородное и нужное людям. Особливо ежели хор в церкви, – вздохнул управляющий, радуясь, что намечавшийся нелицеприятный разговор погас, как сырая лучина.
Княгине расхотелось слушать грустные песни, приказала возничему:
– Трогай!
И вот они вскоре миновали поющий панский сад, вот уже замаячили детские фигурки при въезде в фольварк Паскевичей: крестьянские дети ждали её у ворот – когда приезжала Ирина Ивановна, она всегда бросала им конфетки, а дети наперебой подбирали их прямо с дороги.
Впрочем, детей жалели и возчики овощей: сбрасывали им пару лопат морковки, и босоногая детвора, почистив её стёклышками, с жадностью уплетала…
Глава 11
«Что за странное название Волотова́?» – заинтересовалась княгиня, и Ефим предложил ей наведаться к Пелагее, которая старше всех и помнит многое.
Новые и старые дома мало чем отличались. У совсем старых только верхушки соломенных крыш были тронуты гнилью. Немощёную улицу с покосившимися воротами оживляли копошащиеся куры и лающие собаки… Будто бы прочитал опасения княгини Ефим:
– Хорошо, что день солнечный. Осенью тут карета архиерея утопла в грязи: всем миром вытаскивали.
Раздавались редкие в этих местах звуки движущейся коляски – любопытная ребятня высыпала на улицу. Княгиня сожалела, что у неё уже закончились баранки, взятые для угощения.
– А что там за дерево такое странное?
Три ствола вытянулись вверх, как родные братья одной матери. Один из них был повреждён молнией, и на сломанной верхушке свили гнездо аисты. Уходящее солнце играло лучами на их белом оперении.
– Ну да, все дивятся: три ствола из одного места вверх! Ваша Светлость, черёмуха это. Там дом Пелагеи и есть, – вздохнул Ефим.
– Черёмуха? Это вроде ягода? И какая она на вкус?
– Не пробовали? Жаль. Вы всё к заморским ягодам привыкшие. А наши-то вкусом побогаче будут.
– И как же ягоды сорвать, ежели черёмуха такая высокая? – спросила княгиня, когда они уже подъехали к дому.
– Это тока у Пелагеи такая, с колокольню, – почему-то шёпотом ответил Ефим. – Дерево колдовское. И Пелагея из этих… Не бойтесь, никому зла не делала и Вас не тронет. А я поопасаюсь. Не простая она знахарка, наскрозь человека зрит. Вы-то – чистая душа, а у меня грехов с телегу. А она могёт всё прознать. Ну её к лешему!
Ефим постучал – ворота вмиг открылись: будто хозяйка стояла за ними. Непонятного возраста женщина была одета во всё чёрное, но голову покрывала шаль с алыми, как кровь, розами.
– Не глухая, слышу. И ведаю.
– Добрый Вам день, – робко произнесла княгиня.
– Ты с барыней-то попочтительней, – увещевал ведунью Ефим.
– А кого Пелагея хаила? Коли мне кто не угоден, так я без грубостей обхожусь, – ухмыльнулась ворожея. – Злом за зло не воздаю. Откуда вред, туда и нелюбовь.
Зыркнув на Ефима, Пелагея погасила искры в глазах, затуманила их сизой поволокой, мягко обратилась к гостье:
– Чую, оторопели. А ведь не из робкого десятка. И не из тех, кто с короной. Вы как рыба озёрная: всё в водовороты заглянуть тянет, – и повела рукой в сторону крыльца.
Княгиня под пристальным взглядом сделала шаг, другой – чувствовала: Пелагея видит её всю, будто она без одежды. Но платье её зашуршало, напомнив о своём присутствии. Ворожея продолжала рассматривать гостью:
– Да смелее ступайте, голубушка. Ангелам, входящим в дом, я всегда рада, – а перед носом Ефима одним махом закрыла дверь.
Вошли – сразу окутал запах сорванных трав: повсюду свисали связки корней, соцветий, лесных ягод в полотняных мешочках. Печь, стол, два табурета, скамья-лежанка да полка с горшками. «Ей, наверное, больше ничего и не надо», – подумала Ирина с чувством неожиданной для неё зависти этой уютной простоте.
Пелагея, приветливо улыбнувшись, молвила:
– У меня скромно, да не бедно.
При этих словах Пелагея ловко подцепила ухватом из печки чугунок. Огня не было видно, печь не топилась, но после того, как хозяйка отодвинула крышку, из чугунка пошёл сизый ароматный пар, который стал стекать вниз, на земляной, устланный соломой пол.
– Это чтоб твоим ножкам тепло было. Я-то привычная, а на земляном полу и летом зябко. Присядь, голубушка.
Княгиня ощутила, что и впрямь её ногам до сих пор было холодно. Увлечённая всем увиденным, она не заметила этого.
Пелагея обратилась на «ты». Ирину Ивановну это нисколько не задело: в таком обращении – луч доверия. Присели на табуретки.
– Чую, не надобно тебе ни зелье приворотное, ни снадобье от сглаза, ни от вражды, от козней людских. Почто ко мне наведалась?
– Говорят, только Вы знаете про места эти чудесные, откуда название – Волотова.
– Не так я стара, чтоб помнить, чего не при мне было. Но мать моя, ведунья, да и другие люди баяли: в стародавние времена жили тут богатыри: на древнем русском наречии «во́лоты»…
Пелагея устремила взгляд куда-то за пределы своего жилища, продолжила:
– Волотова – укромное пристанище средь дремучих лесов наших для во́лотов, то бишь богатырей… И когда они уходили в мир иной, то и хоронили их подобающе: курганы насыпали, вон их и ныне видать вкруг села. А когда пришло христианство, сносили языческие святилища. Так ведь диковинка: церкви возводят аккурат на руинах капищ, потому как с незапамятных времён они были родниками силы недюжинной. Вот и здесь деревянная церквушка на месте святилища бога Велеса стояла. Это потом уже Николай Петрович, сын генерала Румянцева, удумал поставить здесь каменную церковь. Все тогда дивились, почто церквушку барин учудил строить не в Гомеле, а в Волотове. Так тут всё чудом навеяно вдоль и поперёк… Освятили церковь в честь Николая Чудотворца…
Княгиня, продолжая осматривать жилище, увешанное пучками трав, произнесла:
– Ох и горькие эти травяные отвары!
– Слава владыке, что горькими врачеваниями даёт нам насладиться здравием! Травяные настои силу и радость дают. Сейчас угощу, – предложила было знахарка, но княгиня повела рукой: отказалась. – Неволить не буду. Все разумеют, что травы от земли и солнца силы берут. А мне мнится, они впитали песни косарей и жниц. Вроде и печали в них много. Но родились песни в труде, такмо сила в них превеликая. Я это чую, – отпив зелье из глиняной кружки, Пелагея продолжила: – Отвар какой затеваю, тоже пою. А коли зима кругом, а я вдохну пах цветов луговых – песня так и льётся.
Ворожея вдруг встала, раскинула руками шаль – алые цветы замерцали, будто травы ожили. Пелагея отступила на шаг, оказалась напротив окна, вдруг спросила:
– Вот сколько мне зим-лет, смогёшь сказать, Ваша Светлость?
Лёгким движением развязала ленточку сзади головы – волосы рассыпались по плечам, заискрились – будто звёздочки с неба запутались в её иссиня-чёрных завитках, лишённых и намёка на седину… В сияющем обрамлении не стало видно лица, только глаза светились…
Потом всё померкло: Пелагея присела, вернула шаль на голову, вздохнула.
– Молодая была, красивая: глаза цвета омута – то иссиня-синие, то болотно-зелёные; губы – спелая малина, брови горностаевы. Сказывали, не мог земной человек быть отцом такой красоты. Мол, зачала её мать от царя лесного, потомка во́лота. А на расспросы мать лукаво отвечала: «Завидно? А кто вам не велит попытать своего счастья, забрюхатить от месяца ясного? Только не обожгитесь!»
Княгиня сидела притихшая, оторопевшая: столько всего нового, сокровенного. «В Петербурге много загадок – оно и понятно, город большой, что ни дворец – тайна, и не одна. А тут: просто природа, лес и свои загадки…» Пелагея продолжила:
– Выросла я гордой и недоступной: глянуть желали многие, за сто вёрст женихи приезжали, да только подойти боялись. Вот и ходила дикой рысью по чащам лесным без опаски. Но раз встретила молодого статного охотника, вспыхнула, воспылала к нему любовью безмерной. Стояли мы насупротив друг друга и думу думали. Первый заговорил он: «Люб я тебе? И ты мне ох как люба. Да только разве ж ты променяешь владения свои лесные на семью такую, как у всех? То-то и оно. Не созданы птицы вольные и звери лесные в клетках на привязи жить. Ты – царица лесная, вот и оставайся такой». Сказал, как проклял. Я с тех пор ни о каком замужестве не помышляю, всё с травами да цветами, с кустами да деревьями беседу веду. Они понимают меня, я – их…
Ирина Ивановна ощутила, что ворожея коснулась и её сокровенных мыслей, переживаний. Вот и чаю она не испила, а будто из одной чаши хлебнула зелья некоего, которое сблизило её, сроднило с этой чародейкой.
Глава 12
Нет, не каждое лето Ирина Ивановна уезжала в гомельское имение. Иногда накатывала непреодолимая тоска по июньскому Петербургу.
В пору белых ночей Петербург, коночный, грохочущий и скрежещущий, вдруг становился похож на Петергоф с его мелодично журчащими фонтанами. Прогуливаясь в карете, порой до утра, по пустым улицам, княгиня любовалась ночной жизнью города, шедеврами зодчества, смотрела, как разводятся мосты и по Неве проходят корабли. Оттенённые таинственным сумраком и освещённые отблеском неушедшего солнца, улицы Петербурга будто приглашают вас к диалогу… Шёпотом…
На свидание с лошадьми Клодта княгиня на Аничков мост наведывалась не только в белые ночи. Эти животные, созданные гением, являли собой не реальных коней, а идеал красоты, силы, терпения и мудрости. Идеал, недостижимый в одном облике, но такой, какой можно было лицезреть в одном месте сразу. И восхищаться. Нет, скорее размышлять о трудностях воплощения идеала…
Она удивлялась, что её, женщину, пленили эти животные так, что бредила ими с детства. В карете ей доводилось ехать часто. Но вот верхом… «Рано ещё!» – в этом упреждении отца и матери сказывались их разумные опасения. Раньше неё верхом на лошади прогарцевал брат Илларион. Да, младше на два года, но он – мальчик. А представителям мужского роду-племени сие было позволительно довольно рано: для воспитания бесстрашия и выносливости. Для него же эти приключения детства обернулись увлечением на всю жизнь.
Получив, как и Ирина, начальное образование в родительском доме, Илларион поступил в Московский университет, но начавшаяся Крымская война побудила его прервать учёбу и определиться в лейб-гвардии Конный (!) полк… Пройдут десятилетия. За шестьдесят лет своей верной службы Илларион Иванович Воронцов-Дашков станет известен всей России. Но даже на склоне лет он считал признаком истинного дворянского достоинства не только езду в карете – он оставался всадником. Будучи уже на восьмом десятке лет, с чувством особой гордости Илларион Иванович в мундире, потяжелевшем от многочисленных наград, восседал на одном из любимейших своих коней.
А для Ирины Ивановны верховая езда так и осталась мечтой. Ещё и потому, что как-то во время прогулки её остановил пристальный взгляд благородно одетой незнакомки, напоминающей цыганку. Та словно заворожила её, подошла, взяла за руку, проговорила тихо, но внятно: «Кто-то из ваших кровей, женского полу, погибнет, упав с лошади. Прости, голуба моя, не могу сказать, кто и когда. Но непременно тому бывать. Так что поберегись. Может, это твоя горькая участь».
Княгиня не то чтобы испугалась: просто в её жизненных планах было столько намечено, что не хотелось бы не успеть. И уже много позже она получила доказательства давнего пророчества…
Когда недалеко от гомельского дворца в 1889 году наконец была возведена фамильная усыпальница, в ней нашли последний приют восемь Паскевичей: генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович с женой Елизаветой Алексеевной, родители генерал-фельдмаршала, а также две его дочери, сын. Последней в этом списке была внучатая племянница, фрейлина при императорском дворе. Именно она, Александра Николаевна Балашева (1877–1896) и погибла в возрасте девятнадцати лет, упав во время выезда с лошади… Воистину, пути Господни неисповедимы…
Глава 13
Библиотеки делали родными для Ирины Ивановны и Петербург, и Гомель. Несравнимо разные, эти города были близки княгине каждый по-своему. И тем, что в них находились дорогие её сердцу книги…
Книги – те кирпичики, которые лежали в «фундаменте» отношений супругов – Фёдора Ивановича и Ирины Ивановны Паскевич. У каждого были свои предпочтения. И они не раз обменивались мнениями о прочитанном…
– Кто-то из мудрых заметил: талант – вовсе не подарок в лукошке, это сноровистый конь. Надо уметь управлять им. Если дёргать повода во все стороны, конь перестанет быть породистым, превратится в клячу.
Они оба улыбнулись сравнению, которое Фёдору Ивановичу явно понравилось. Одобряюще кашлянув, он заметил:
– Как верно сказано: точно про Льва Толстого. Но думаю, он свою породу будет соблюдать. По крайней мере, в литературе. Его кавказские впечатления не просто с интересом прочитаны, они на многих произвели потрясающее впечатление.
– Очень мало можно назвать имён писателей, которые, прежде чем стать величиной в мире литературы, удостоились воинских наград. У Льва Николаевича их много.
– Я заметил, граф Толстой стал и Вашим кумиром. Не волнуйтесь, я об этом без ревностных чувств. И даже приветствую Вашу симпатию к храброму писателю. Он достоин этого, – обратился к супруге Фёдор Иванович. – Не сомневаюсь, Вам следующая новость о графе Толстом понравится. Представляете, он имел право на Георгиевский крест, однако в соответствии со своими убеждениями, так сказать, «уступил» орден сослуживцу, посчитав, что получение награды облегчит тому условия службы.
– Стремление к почестям и славе у каждого военного в крови. Так он сумел погасить своё тщеславие?! – удивилась Ирина Ивановна.
– Тщеславие, по-моему, это совсем иное. Чаще всего оно не связано с баталиями.
Ирина Ивановна признавалась себе: чем больше она читала произведения Льва Николаевича и чем больше слышала то, что о нём говорят в обществе, тем более он становился ей интересен. Человек, идущий к свету через мрак грехов и испытаний…
– А почему бы Вам не заняться этим истинным писателем более обстоятельно?
– Не совсем Вас понимаю…
– Сказывается, дорогая, что Вы недооцениваете свои способности. А ведь из прочитанных Вами книг можно составить целую библиотеку. И в ней превеликое множество романов, как на русском, так и на французском.
Ирина Ивановна ответила, чуть задумавшись:
– Вы имеете в виду заняться переводами графа Толстого на французский язык? Вы представляете сложность этого замысла? Художественные достоинства графа Толстого трудно воплотить во французском языке.
– Дело не в этом. Вам нужны сильные чувства для такого труда. Когда будете воспринимать Толстого и умом, и сердцем, у Вас всё получится…
Вскоре Фёдор Иванович принёс новость, услышав которую княгиня сказала себе: «Кто же осмелится перевести произведения этого писателя? А ведь его должны знать в Европе!»
Её супруг поведал о беспримерном случае: в июле 1866 года Толстому было тридцать восемь лет, когда он смело выступил на военно-полевом суде как защитник Василия Шабунина. Этот ротный писарь Московского пехотного полка ударил офицера, который приказал наказать его розгами за нахождение в нетрезвом виде. Толстой доказывал невменяемость подсудимого, но суд признал его виновным.
Искреннее благородство графа Толстого покорило Ирину Паскевич. Вместе с писателем она в который раз осознала беспощадную силу власти, основанной на насилии. И всё же решила резко изменить тему разговора:
– Фёдор Иванович, а Вы знаете, что граф Толстой увлекается и музыкой? Его любимые композиторы – Бах, Гендель, Шопен.
– По-моему, эти имена в числе и Ваших предпочтений, – чуть удивлённо ответил супруг.
– Вы находите это странным? На мой взгляд, ничего удивительного. Гению нужны единомышленники…
Сказанная ею самой фраза её же и осенила: она ощутила долгожданное озарение, которое подвигло взяться за перевод на французский язык произведений кумира.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе