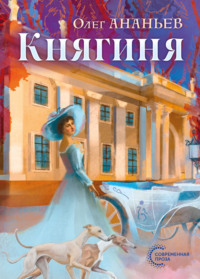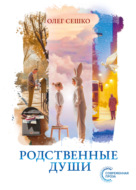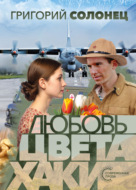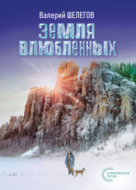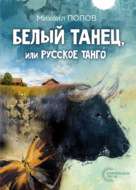Читать книгу: «Княгиня», страница 2
Глава 7
Чутко прислушиваясь к тому, о чём повествовал супруг, Ирина Ивановна поняла, что память настраивает его на беседу о дорогих ему людях.
Фёдор Иванович продолжил свои рассуждения:
– Думаю, Вы тоже будете восхищены богиней Мира в честь трёх мирных договоров, подписанных деятелями рода Румянцевых. Николай Петрович Румянцев заказал её итальянскому скульптору Антонио Канова.
– Так Румянцевы её не забрали? – удивилась Ирина Ивановна.
– Поясню. Николай Румянцев похоронить себя завещал в своём любимом городе, в Петропавловском соборе, что рядом со дворцом. Его покой и охраняет эта бронзовая копия богини… Вообще канцлер завещал Гомель брату Сергею. Но тот был занят реформами в своём подмосковном селе Троицком, влез в долги… В итоге казна приобрела ставший очень красивым Гомель в собственность.
– Да, мне известно, что усадьбу посчастливилось купить за восемьсот тысяч рублей Вашему отцу.
– Знаете, Иван Фёдорович был дружен с Николаем I. Государь трижды бывал в Гомеле. Он и велел проложить через город дорогу Санкт-Петербург – Киев. Мы по ней сейчас и двигаемся. А вскоре Гомель получил от императора и статус уездного города, и герб.
– И каков же этот герб?
– Уездным центром стал по воле Петра Румянцева город Белица, расположенный на противоположном берегу реки Сож. Герб, который в своё время Белица получила от Екатерины II, и достался в наследство Гомелю, когда в 1852 году отец мой перенёс сюда центр уезда.
– И как же он выглядит сейчас? – нетерпеливо переспросила княгиня.
– На голубом фоне возлегает рысь.
– Рысь? Это такая дикая пятнистая кошка? Не совсем понимаю. Обычно на гербе изображается то, чем богат край.
В который раз, взглянув на супругу, он отметил её безупречный, но строгий вкус. Её платья отличала изысканная красота: кружева – в меру, атласные ленты вторили золотистым пуговицам. Дорожный костюм подчёркивал достоинства её осанки, изящность фигуры. Никакой пестроты, оттенки любимого ею фиолетового цвета дополняли друг друга, играя фактурами разных тканей. Ощущение роскоши в одном цвете! Нельзя было не залюбоваться. Фёдор Иванович встрепенулся, продолжил:
– Душа моя, Вы удивлены? Напрасно: такого зверя в окрестностях сего города много и поныне. Только уверяю Вас: охотиться на эту, как говорите, «кошку» – всё равно как сражаться с очень хитрым, коварным неприятелем.
Супруга недовольно нахмурила брови, и Фёдор Иванович понял, что тема охоты ей неприятна:
– Не волнуйтесь, дорогая, я не собираюсь тратить время на такое развлечение. Даже если будет помогать егерь, на охоту может уйти пять дней. Такого времени у меня нет.
Недовольство растаяло на лице юной княгини, и супруг оживлённо продолжил:
– При Иване Фёдоровиче гомельский дворец местами стал похож на музей: военных трофеев у фельдмаршала было превеликое множество. Истины ради, мой отец приглашал польского архитектора Адама Идзковского. Зодчий достроил южную башню, спланировал парк, сделал его необычайно красивым. Убедитесь в этом сами – прибыли…
Дворец, мелькавший сквозь ажурную вязь деревьев окружавшего его парка, явился как чудо, сотворённое артелью волшебников. Подъехав к нему, княгиня не переставала восклицать: «Чудо! Сказочный замок!»
В детстве она любовалась дворцами в стиле барокко. Повзрослев, она ощутила, что эти архитектурные шкатулки делают человека маленьким и безвольным. Ей же хотелось не только предаваться грёзам, но и воплощать свои мечты, быть деятельной. Здания классицизма более всего подходили таким натурам.
Двухэтажное, на высоком цоколе здание было возведено не только для проживания, но и для любования природой. Княгиня вспомнила: «прекрасный вид» – так с французского и итальянского переводится слово «бельведер». Кубоподобный, увенчанный куполом бельведер завершал центральную часть. Над входом – четырёхколонный парадный портик коринфского ордера, что гостеприимно приглашал войти.
Но княгиня продолжала восхищаться видом дворца снаружи. По периметру здания прямоугольные оконные проёмы в два уровня чередовались с полуколоннами, выступающими из стен, что придавало дворцу величественность. От центральной части отходили две невысокие галереи, соединявшие её с левым и правым флигелями.
– Разве это здание в стиле классицизма?
– Когда-то оно более соответствовало названному Вами стилю. Но соавторы дальнейших перестроек внесли вольности.
– Отрадно, что эти вольности добавили величию дворца линии романтизма.
Княгиня обогнула правый флигель. Эта высокая квадратная башня с зубцами выглядела очень таинственно. Вообще всё здание побуждало мечтать, путешествовать по разным эпохам.
– Ну вот, что я Вам говорила! Разве Вы не видите здесь черты архитектуры времён Ромео и Джульетты? Есть сходство и с рыцарскими замками! И с дворцами сказок братьев Гримм.
Княгиню восхитила и обширная полукруглая веранда с шестиколонным портиком. Обрамлённая ажурной кованой решёткой, она находилась с противоположной от главного входа стороны. Отсюда открывался изумительный вид на заливные луга за рекой. Здесь же возвышались уникальные вазы, установленные ещё Иваном Фёдоровичем Паскевичем.
Оказавшись на крутом берегу широкой реки, созерцая и простор, и дворец, княгиня воскликнула:
– Никакого сравнения с дворцом на Английской набережной!
Парадно-помпезный петербургский дворец, зажатый соседними зданиями, теперь казался ей царственно-холодным. Здесь же не выглядела холодной даже бронзовая конная статуя у входа во дворец. И дело не в том, что бронза в лучах вечернего солнца горела так, словно подсвечивалась отблесками каминного огня. Всадник в римских одеждах и без солнечных лучей не выглядел величественным. Заблудившийся рыцарь всматривался вдаль и пытался что-то увидеть. Или что-то понять…
Гомельский дворец полюбился Ирине Ивановне:
– Как будто я здесь родилась!
Пытаясь погасить ликование своего сердца, Фёдор Иванович ответил сдержанно:
– Я рад, что Вы так восприняли… Усадьба всегда была родиной каждому дворянину…
«Родина – это место, где человек родился? Или обитель, где чувствуешь себя как птица в родном гнезде?» – Ирина Ивановна спрятала свои раздумья, а вслух произнесла:
– Если бы здесь прошло моё детство! Я была бы особенно счастлива!
– Увы, милая, даже если бы это было так, в детство невозможно вернуться. Три вещи невозможно вернуть: камень, если он брошен, слово, если оно сказано, и время, которое прошло…
– Но я хочу здесь провести всю свою жизнь. Можно?
У кого она спрашивала? У супруга? У неба? У судьбы?..
Глава 8
Дворец впечатлял и изнутри. Основная его часть состояла из двух этажей. В центре главного корпуса – парадная зала в виде квадрата с симметричными нишами, в которых были боковые арки, украшенные мраморными скульптурами. Парадный зал обступали шестнадцать белоснежных колонн. Всё это придавало пространству романтический облик эпохи Возрождения. Такое впечатление усиливал второй этаж колонного зала, ограждённый балконами и мраморными балюстрадами.
В целом план дворца был основан на отсутствии тёмных коридоров. Достраивать или перестраивать не имело смысла: всё сияло великолепием и богатством. На первом этаже находились парадные покои, на втором – жилые комнаты. Цокольный этаж предназначался для подсобных помещений и прислуги.
Вскоре стало ясно, что порядок и чистота во дворце соблюдаются достаточно прилежно: ведь прислуга предшествующего владельца гомельского имения была воспитана требованиями Ивана Фёдоровича Паскевича, отличавшегося решительностью и беспощадностью.
Победы развивают личную храбрость, но смелость порой принимает вид грубости, которая рождает ненависть. Немудрено, почему крестьяне Ивана Фёдоровича Паскевича недолюбливали своего хозяина.
Воинственного фельдмаршала, ставшего в 1834 году владельцем Гомеля, тешила не только былая слава, но и негасимая страсть к лошадям. Для разведения этих гордых символов мощи в 1840-х под Гомелем, в деревне Прудок, основанной бежавшими из России старообрядцами, построили кирпичные конюшни с манежем. И с животными, и с людьми князь был очень вспыльчив. Но если лошади стойко выносили грубость хозяина, то у крестьян терпение в 1841 году лопнуло: в имении вспыхнули массовые волнения. Крепостные вознамерились сбежать от пана на вольный юг.
Восстание подавили быстро. В местечковом бунте, конечно, не сыскать было главаря величины Стеньки Разина или Емельяна Пугачёва. Но зачинщика выявить полагалось – вот и посчитали таковым Петьку Горькую Редьку. Так прозвали бездомного побирушку. Он был всегда всем доволен, светился улыбкой каждому встречному да ещё при этом шутками-прибаутками сыпал. Встретит мужиков, идущих с панского зернотока, пропоёт:
– Живём не тужим, бар не хуже: они – на охоту, мы – на работу, они – спать, мы – работать опять, они выспятся – да за чай, а мы – цепом качай.
А при виде идущих косарей:
– Хвали рожь в стогу, а барина в гробу!
Управляющему фольварком в Прудке Богуславскому пропел:
– На одно солнце глядим, да не одно едим.
Богуславский-то и выдал Петьку Горькую Редьку как козла отпущения, рассчитывая, что за этого простофилю никто не заступится и вытерпит он порку на псарне: не чувствует Петька боли – сколько раз его палкой ни огревали по разным поводам, он всё долдонил, хихикая:
– Хлоп-хлоп, заработал чирей да третий горб.
Однако после порки у Петьки пошла изо рта кровь – к утру помер.
Таких историй на всём пространстве Российской империи было превеликое множество…
Коли для подавления смуты местных стражей порядка не хватало, привлекали царские войска. И всё же обошлись без царёвой дружины.
Иван Паскевич был строг, порой безмерно, как судия. Став супругой его сына, Ирина Ивановна ощутила, как непросто разделять судьбу с наследником и воинской славы, и обширнейшего имения…
Благосостояние супругов Паскевичей позволяло им (когда вместе, а большей частью – порознь) наведывать и Париж, и Баден-Баден, и другие заграничные города и курорты. В Гомель они спешили в летнюю пору, а Ирина Ивановна – с особым удовольствием: насладиться общением с природой, которая удивляла сменой настроений, красок, звуков и ароматов…
Гомельский дворец дарил свежесть впечатлений своей уникальностью. Прилегающий парк, дополненный мостиками и ажурными оградами, напоминал райский сад. Прогулки по его аллеям княгине никогда не наскучивали. Усаженный разнообразными родными и заморскими деревьями и кустарниками, парк не был похож на театр, как во многих дворянских усадьбах того времени, где, как на сцене, показывают парадную выдумку. Со всеми его декоративными вазами и скульптурами парк при дворце был не приглаженным – открытым пространством, обителью самой природы.
Непросто оказалось Фёдору Ивановичу и Ирине Ивановне вступить во владения гомельским поместьем, богатым не только угодьями, но и крестьянскими волнениями, которые не преминули себя ждать. Смерть Ивана Фёдоровича вызвала почему-то слухи о свободе, об отмене барщины и оброков. «Авось послабление будет, прежний-то Паскевич уж больно суров был». С такими надеждами воспрянули духом с приходом нового князя крестьяне.
В рапорте могилёвского губернатора Николая Александровича Скалона министру внутренних дел о волнениях селян «маёнтка» князя Паскевича 26 октября 1856 года говорилось: «При содействии местной полиции и увещании приходских священников благоразумными мерами внушить крестьянам должное повиновение экономии и восстановить надлежащий порядок и спокойствие…» После принятия надлежащих мер крестьяне присмирели.
Новый хозяин имения Фёдор Паскевич был личностью со своими особенностями, которые выглядели как странности. Он мог ходить в старых латаных сапогах, что даже крестьянами расценивалось как скупость. А барин просто радовал себя и свои ноги полным комфортом, которым ни одна пара новой обуви не могла его одарить.
В его натуре было проявлять и непонятную щедрость: широким жестом мог бросить крестьянам что-нибудь с барского плеча. А они потом эти подарки князя надевали только по особо торжественным дням и по великим праздникам, передавали по наследству детям и внукам.
Неудержимо горяч был Фёдор Иванович в охоте на лис и волков с борзыми собаками. Псовая охота в бешеной скачке по полям и оврагам среди густого кустарника и редколесья была его любимым занятием.
Поскольку пожары восстаний не стихали, молодой царь Александр II затеял реформу с освобождением крепостных и объявил конкурс на лучший проект её реализации. В комитете по подготовке реформы участвовал и Фёдор Паскевич, как крупный землевладелец. Совместно с графом Петром Шуваловым он направил свой проект аграрной реформы, который предусматривал освобождение крестьян без земли: она целиком и полностью переходила в руки помещика (такое «освобождение» уже практиковалось польскими помещиками в Царстве Польском).
Александр II отклонил проект полукрепостнической реформы Паскевича – Шувалова (как и иные предложения) и выбрал золотую середину. Паскевич получил медаль за работу над «Положением об освобождении крестьян» и подал в отставку.
И вот 19 февраля 1861 года император подписал Манифест об отмене крепостного права, согласно которому крестьяне получали личную свободу.
Длившееся в России почти три века крепостное право было отменено. Казалось бы, долгожданное освобождение должно принести радость. Но нигде такого не наблюдалось. На волю крестьян отпускали «поэтапно». Сначала они переходили во «временнообязанные» и продолжали нести прежние повинности, а землю должны были выкупать за большие деньги, в несколько раз превышавшие реальную рыночную стоимость. Но и при таких условиях помещикам не хотелось делиться угодьями со своей вчерашней «крещёной собственностью».
Не желал этого и князь Паскевич. К примеру, из трёхсот девяноста пяти человек, проживавших в Поколюбичах, на пятьдесят пять душ он вообще не выделил земли. Крестьяне возмутились такой «отменой» крепостного права. Разлетелись слухи, что это «подложная грамота», а «настоящую волю» помещик спрятал.
Подозрения в нечистоплотности Паскевича укрепились, когда он со своими слугами заставлял крестьян подписывать какие-то бумаги. Отказавшихся пороли розгами, даже старикам доставалось по семьдесят ударов.
Привыкшие к безропотной покорности, селяне смолчали бы и на сей раз. Да вернулся с военной службы отставной солдат, который за четверть века пребывания в царской армии обучился грамоте. Не раз на полях сражений смотревший смерти в лицо, он не убоялся свирепой расправы – растолковал односельчанам, что Паскевич с землёй их обманул. Смелый вояка написал от их имени жалобу и отправил её на имя самого царя-батюшки. «И избавь нас от телесного наказания и тиранства», – умоляли царя в своём прошении жители Поколюбичей.
В 1866 году жалоба ушла в Петербург, а оттуда её переслали для дальнейшего разбирательства… князю Фёдору Ивановичу. Паскевич и «разобрался»: наиболее активных жалобщиков подвергли всё той же порке на княжеской конюшне.
А вот лошадей и собак князь любил и пестовал неимоверно. Большая псарня под названием «Собачий хутор» находилась между нынешним Речицким шоссе и проспектом Октября. В описи имущества гомельского дворца обозначены и выполненные художниками портреты любимых псов Паскевича. Многим гомельчанам известны могилы княжеских любимцев Лорда и Марка в парке. Князь устроил своим собакам настоящие похороны.
В воспоминаниях старожилов остались и такие факты: забравшихся в парк в неурочный час, в том числе и детвору, княжеские слуги травили этими самыми псами…
Глава 9
Знакомство с обширнейшими угодьями, полями, садами и фольварками заняло у Ирины Паскевич не один день.
Первое, с чего она начала, – это посещение вместе с супругом каменной церкви во имя святых апостолов Петра и Павла, которая находилась рядышком с левым флигелем дворца. Возвели её на средства и стараниями Николая Петровича Румянцева, о чём граф писал: «Сим исполнив свой обет, я удовлетворяю лучшему желанию моего сердца». Для проектирования православного храма был приглашён англичанин Джон Кларк. Румянцев в архитектуре любил строгость и простоту, но и величественность, поэтому и дворец, и Петропавловская церковь создавались под влиянием классицизма – неслучайно своим обликом она напоминала Казанский собор в Петербурге.
Ирину Ивановну восхитило, что при всей кажущейся простоте храм поражал замечательной гармонией частей. В основании церкви высотой двадцать пять метров – четырёхконечный крест; снаружи четыре портика с колоннами. Окружённый ими со всех сторон, храм казался застывшим между небом и землёй. Это впечатление усиливал барабан с многочисленными вертикальными окнами, которые венчал купол.
Петропавловская церковь была освящена в мае 1824 года протоиереем Иоанном Григоровичем – исследователем истории, профессором Казанского, Московского и Новороссийского университетов.
По желанию Румянцева иконостас украсили колоннами и иконами, пожертвованными графом. Внутри храма были размещены полотна европейских художников на библейские темы, что придавало всему внутреннему убранству торжественный и строгий, но одновременно дворцовый вид.
Именно здесь Николай Петрович Румянцев желал быть похороненным. И хотя смерть застала графа в марте 1826 года в Петербурге, прах его перевезли в Гомель и предали земле в построенном им храме Святых апостолов Петра и Павла, в левой стороне от главного престола.
Соборную церковь посещали императоры, заезжавшие в гости к Паскевичам, знаменитые люди, философы и литераторы.
В 1872 году храм стал собором, а в 1875-м был освящён придел в честь Святителя Николая…
Николай Петрович завещал храму частицы мощей святителя Николая Чудотворца и других святых – они хранились в перламутровом ковчеге, оправленном золотом. С этими святынями связывают множество исцелений и чудес.
И внешний облик, и внутреннее пространство храма, пронизанное светом и воздухом, вызывали у Ирины Ивановны чувства восхищения и почтения. Но для сакрального диалога с Богом и молитвенного покаяния душа просила уюта и полумрака. Его как бы создавала дворцовая церковь. Однако порой в молитве хотелось ощутить гармонию с окружающим миром, внутренний покой и радость. Княгиня прознала, что есть церковь Николая Чудотворца в окружении Природы…
Возвёл её вдали от дворца, на высоком берегу старицы реки Сож, тоже Николай Петрович Румянцев по проекту того же архитектора – Джона Кларка. Тогда это была первая каменная церковь в Гомеле.
Вообще-то, воздвигли её в 1805 году не в черте города, а в селе Волотова. Храм состоял из колокольни, молитвенного зала и апсиды, которые располагались на одной оси, с запада на восток, по старинному русскому типу православных храмов. Эта церковь с высокой колокольней виднелась издали, как огромный белый корабль, бросивший якорь и замерший от восторга перед былинной красотой.
Взойдя на высокий берег, княгиня тоже не могла сдержать восхищения: по ту сторону реки вставал дремучий лес. Из-за того, что только на лодке можно было попасть туда, мало кто бывал в нём. Но для княгини организовали переправу – без особой охоты, с обязательным условием, чтоб далеко не заходила, даже со старожилом Ильёй, местным вещуном, травником.
Величественные дубы в три обхвата вызвали трепет и желание прикоснуться, ощутить дыхание старины… Что-то вливалось целебными токами – дарило благость, какая приходит в храме после сердечной молитвы…
– Ваша Светлость, да вот она, стежка-то. Христа ради, вглубь – ни-ни. Лишь бы не привиделся кто.
– Леший, что ли?
Княгиня легонько засмеялась, но, увидев осуждающее лицо Ильи, застыла. Тот, озираясь по сторонам, зашептал:
– Христа ради, княгинюшка, не смейтесь… Не буди лиха, пока оно тихо.
Страха у княгини не появилось, но некое странное чувство мохнатым паучком пробралось в сердце. Она стала озираться кругом, рассматривать поросшие мхом кряжистые деревья. Увиденный ею остров навеял княгине пушкинское Лукоморье.
Через несколько дней она опять устремилась в Волотову. Когда-то от центра Гомеля до этого села Румянцев организовал водный путь по реке Сож для прогулок с гостями, чтобы пассажиры парохода любовались живописными окрестностями.
На сей раз она решила заглянуть не на пушкинский «остров Буян», а войти в заметно обветшавший храм.
Княгине было уже ведомо, что Николаевской церкви многое пришлось пережить. Немногочисленный приход в деревушке на окраине не мог обеспечить её содержание. В 1819 году Румянцев положил в банк немалые по тем временам деньги – шесть тысяч рублей, распорядившись проценты с этой суммы выплачивать церковным служащим.
Однако новый владелец гомельских поместий Иван Фёдорович Паскевич церковь закрыл, а жителей Волотовы переселил в Ивановку, а на месте их жилищ построил конезавод. После этого начались загадочные происшествия: настоятеля храма убил собственный дотоле кроткий конь, конезавод сгорел в одночасье, а переселённые жители умерли от неизвестной болезни. Паскевич всё понял и исправил, что натворил. Новый конезавод Иван Фёдорович построил в другом месте, в Прудке. Волотова вновь заселилась, но церковь ещё не открыли.
Желание Ирины Ивановны самой поучаствовать в наведении порядка в имении было велико. Чтобы Фёдору Ивановичу замолвить слово о возобновлении службы в церкви, стоило посмотреть, в каком она состоянии.
Хранителем ключей был местный староста Ефим, которому велели сопровождать княгиню… Обитые железом дубовые двери двигались тяжело, как бы нехотя: хранители тайны и красоты не спешили пускать праздных гостей…
Святое очарование заворожило юную княгиню. Удивительной красоты алтарь был творением крепостного Василия Сазонова. Для его росписи Румянцев специально отправлял местного мастера-иконописца учиться в Италию. (Потом за картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле» Василий Сазонов был удостоен звания академика.)
Созданные бывшим крепостным росписи могли оказать честь кафедральному собору любого крупного города. Библейские персонажи перенесли во времена Ветхого Завета, напомнили о райском саде. Росписи возносились как святые хоругви. Слов для выражения впечатлений не хватало. Преисполненная светлыми чувствами, княгиня вышла из храма, по-новому глянув на него, ощутила духовную мощь православной веры. Словно почувствовала любовь ко всему, ко всем и вся, будто вознеслась над суетой сует…
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе