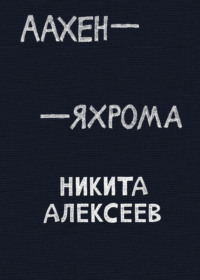Читать книгу: «Аахен – Яхрома», страница 4
41. Барселона
1990

С тех пор я в Барселоне, к сожалению, не бывал. А поехал туда с парижской приятельницей Джудит Бизо – ей почему-то очень хотелось посмотреть выставку калифорнийских художников мексиканского происхождения, которую делал в Барселоне какой-то ее знакомый. Предложила съездить вместе, я с радостью согласился – очень хотелось увидеть каталонскую столицу.
Выставка оказалась интересная. Но куда любопытнее мне был город. Жалко, что провел там всего два дня и наверняка увидел очень мало, хотя и возвращался в гостиницу только переночевать.
Гостиница, где мы остановились, находилась на Рамблас. В кишение этих пешеходных улиц я и окунулся сразу же. Воздух там был густым от запаха анаши – кажется, ее только что легализовали. Мне страшно понравились маленькие темные бары, где за стойкой с потолка свисали вяленые окорока, наливали в зеленоватые стаканчики херес, а на закуску подавали толстыми ломтями порубанную колбасу чоризо и острый сыр.
Слонялся по узеньким полутрущобным улочкам Барри-Готико и Барри-Чино, по идее они были с односторонним движением, но машины там бодались, как бараны, – побеждал самый упрямый, а побежденный пятился.
Удивился собору, обсаженному пальмами: готический стиль очень непривычно выглядел рядом с субтропической растительностью. Потом набрел на еще одну церковь. Ее барочный фасад закрывал беленький классицистический портик, дальше, ближе к трансепту, шли готические контрфорсы, а апсидная часть этой базилики, обстроенная трухлявыми сараями, была романской, а то и чуть ли не вестготской.
Что же касается сооружений Гауди – посмотрев на них в натуре, я утвердился во мнении, что это противно. Надеюсь, Саграда Фамилию никогда не закончат: в недостроенном виде она лучше, чем так, как ее задумал автор. Каса Бальо и Каса Мила? От них веет не только дурным вкусом, но и сумасшествием. А вот парк Гуэль понравился: среди сочной зелени бесконечная скамейка, уделанная мозаикой из битых тарелок, и даже знаменитые покосившиеся колонны выглядели весело.
Перед отъездом обедали в рыбном ресторанчике рядом с портом, ели мрачного вида, но очень вкусную паэлью с чернилами каракатиц, потом я пошел посмотреть стоявшую в гавани, рядом с памятником Колумбу, реконструкцию «Санта-Марии». Поразительно, как на такой посудине можно было отправиться в неведомое плавание?
42. Барынино
1960, 1961, 1962, 1975

Воюхино – родная деревня моей бабушки Веры, крошечная. Не знаю, как сейчас, а раньше там был всего десяток домов. Ближайшее село с магазином и автобусной остановкой – находящееся километрах в трех Барынино. Насколько помню, ничего интересного там не было. Правда, места красивые: волнистые холмы, поля, прозрачный светлый березняк, куда мы ходили по грибы.
Если свернуть с пути в Воюхино на почти заросшую дорогу в лес, можно прийти в Побоище. По преданию, там когда-то случилась битва с татарами. Почему-то вдоль этой лесной дороги часто можно было найти белемниты, окаменелые раковины мезозойских головоногих. Местные называли их «чертовы пальцы» и «татарские стрелы», а я-то уже лет в семь, страшно интересуясь палеонтологией, знал, что ни к чертям, ни к татарам они не имеют отношения.
Бабушка рассказывала, что во времена ее детства в Побоище было богатое поместье какой-то генеральши. Барыня была добрая и привечала крестьянских детей. Самое сильное впечатление бабушки: она с генеральскими детьми каталась на тележке, в которую был запряжен огромный сенбернар.
В начале 60-х от поместья оставался только заросший тиной пруд и темная липовая аллея. Сейчас, наверно, нет ничего.
43. Бассум
1992

Забавно, когда зачем-то попадаешь в место, куда не собирался, о котором раньше не слышал и посещение которого не оставило почти никаких следов в памяти. Так и Бассум, расположенный километрах в тридцати к югу от Бремена.
Мы с Сережей Воронцовым выставлялись в кунстферейне в Гандеркезее, который находился даже не в самой деревне, а на отшибе, на хуторе, на чердаке огромного фермерского дома, где жил местный архитектор, председатель этого культурного учреждения. Один из членов его попечительского совета, адвокат, живший в городке Бассуме, пригласил Сережу и меня к себе поужинать. Поужинали – он накормил нас отличной малосольной селедкой со сметаной и яблоками и вкусным запеченным палтусом. Поговорили о чем-то. Он отвез нас обратно в Гандеркезее. Вот и всё.
44. Бахмач
1977, 1978, 1979, 1982

Я никогда не бывал в Бахмаче и не знаю, каков он. Только несколько раз проезжал мимо бахмачского вокзала (вокзал как вокзал) на поезде по пути в Карпаты или обратно. Но меня покорило сочетание звуков в слове «Бахмач» – очень сочное. Названия соседних станций тоже отзываются в сердце: Конотоп, Нежин, Кобыжча, Бровары…
45. Бахчисарай
1983–2008

Хотя Крым я знал с детства, в его западную горную часть впервые попал в конце 70-х благодаря Сереже Рыженко, у которого были друзья в Крымской обсерватории, в поселке Научный – это рядом с Бахчисараем. Мы гуляли по окрестностям, ходили на Тепе-Кермен, и я сразу полюбил эти края. Потом, с начала 80-х, с Андреем Филипповым, Димой Мачабели, другими друзьями я каждое лето посещал Бахчисарай. Мы приезжали туда на поезде, ели казавшиеся очень вкусными пельмени в привокзальном заведении, запасались вином, ехали на автобусе мимо Ханского дворца до Староселья, поднимались на плоскогорье напротив Чуфут-Кале и устраивали там стоянку. Несколько дней бродили по горам, потом спускались к морю.
Сначала Ханский дворец меня обескуражил, я еще вовсе не понимал сути исламской архитектуры. Да и вообще, он казался маленьким и провинциальным. И что это такое «Фонтан слез»? С какой стати Пушкин про него стихотворение написал – глупость какая-то! Но постепенно я проникся настроением бахчисарайского сераля и, когда увидел в Стамбуле колоссальный дворец султанов, смотрел на него через оптику бахчисарайской бледной реплики османского величия.
В 80-е городок был обшарпанным и по-советско-крымски нищим, туристы там появлялись редко, Ханский дворец-музей обветшал. Еду раздобыть было трудно – имелся один ужасный ресторан и одна чебуречная. Но была там нежная элегическая атмосфера.
Потом я уехал во Францию и до начала 90-х, кажется, не бывал в Бахчисарае. Город сильно изменился, начали возвращаться татары, с минаретов зазвучала молитва. Пооткрывались кафе и рестораны, шла бурная торговлишка. В 1995-м мы сделали во дворце забавную выставку «Сухая вода» – исключительно акварели, а акварелью из ее участников мало кто умел работать. Из Москвы туда приехала толпа друзей и знакомых, человек сто, заселили всю полуразвалившуюся бахчисарайскую гостиницу. Жители, по-моему, не понимали, что творится. Но не возражали.
Потом я не возвращался больше десяти лет. Поводом приехать снова оказалась подготовка большой русско-греческо-турецко-украинской выставки, о которой Андрей Филиппов мечтал много лет. Первыми в июне 2008 года в Бахчисарай из Москвы на рекогносцировку приехали Оля Лопухова, Андрей и я, из Стамбула – турецкая кураторша Берал Мадра, из Салоник – Мария Цанцаноглу. Потом, в сентябре, все уже собрались на выставку.
В 2008-м Бахчисарай я, естественно, узнал. Но изменения были огромные. Повсюду лавки и рестораны, шумная торговля сувенирами и татарскими сладостями, множество новых домов, а дворец весь отреставрирован и вылизан, причем по большей части плохо, в духе восточного ресторана. И толпы туристов. Все это отлично: город живет. Но я с долей ностальгии вспомнил его былой облик.
Перед открытием выставки случился скандал – нас обвинили в чем-то вроде разжигания религиозной и национальной розни. По-моему, глупость полная, но было противно. Остался тяжелый осадок.
Вернусь ли я снова в Бахчисарай? Вряд ли. И бродить по горам я уже не состоянии, и любоваться городом не смогу. Я его вспоминать буду.
По еще такой очень важной причине. Когда я в третий раз читал то, что написал про Бахчисарай, позвонила Саша и сказала, что Оля Лопухова умерла – как-то совсем странно: от последствий операции наподобие вырезания аденоидов. Я помню, как в один из бахчисарайских дней солнечная Оля, осатанев от бахчисарайской бессмыслицы, рано утром забралась на плоскую гору напротив Ханского дворца, – снизу видна была череда крошечных телеграфных столбов и согнутые ветром, словно трава, сосны. Рассказала, что там было прекрасно.
Оля в раю – неважно, есть он или нет. Я – в долине памяти.
46. Безенелло
2006–2008

Слева, если смотреть в сторону гор, течет река Адидже. Справа – коническая горка, на ее вершине под облаками виднеется замок Безено. Посматривает на округу. Между ними, обрамленная виноградниками и яблочными садами, лежит деревня Безенелло.
Именно лежит. Безенелло спит. Просыпается к Рождеству, и его обитатели строят на повороте узенькой via Bolzano великолепный пресепио. Тут мраморный фонтан, из пасти глуповатого льва тихо струится ледяная вода, и в летний зной так хорошо утолить жажду. А к Рождеству на его чаше жители Безенелло сооружают из дощечек и прутиков водообильную Палестину. Вода из пасти льва – и Средиземное море, и Иордан, и Генисаретское озеро, и Мертвое море; и стоят над зыбью пастухи, овцы, ослы и волы, грядут на верблюдах три волхва, а в шалашике из сухой травы сидит фаянсовая Мария, лелеет беленького младенца.
47. Бейт-Шемеш
2000, 2003

Совершенно случайно мы с покойным Даней Филипповым в 2000 году отправились в Израиль: в «Иностранце» мне предложили поездку на неделю в Эйлат на двоих в дорогой отель all inclusive. Саша по какой-то причине поехать не могла, я позвонил Андрею Филиппову, мечтавшему еще раз попасть в Израиль, он тоже отчего-то не мог. А Даня с радостью согласился.
И я, и он отправлялись в Израиль в первый раз. Прилетели в Тель-Авив, нас прокатили по нему на автобусе, потом прогуляли по Яффе, отвезли в Иерусалим, а на следующее утро мы заехали на полчаса в Вифлеем и отправились мимо Мертвого моря в Эйлат. Гостиница оказалась действительно хорошей, море тоже, но тут же стало ясно, что невозможно торчать на этом курорте, больше ничего не увидев в Израиле. На второй день я позвонил Володе Рубинчику, которого шапочно знал по Москве, в городок Бейт-Шемеш («Дом Солнца») – это километрах в тридцати от Иерусалима. Володя очень обрадовался и потребовал, чтобы мы тут же ехали к нему. Он и его жена Саша приняли нас фантастически радушно, водили по Иерусалиму, рассказали массу всего интересного.
А в 2003-м снова появилась в «Иностранце» возможность даровой поездки в Израиль. Я позвонил Рубинчикам, они вновь очень обрадовались. Это был март, как раз накануне начала второй войны в Ираке. Я был уверен, что будет уже жарко, но, когда прилетели с Сашей, нас встретил дождь и пронизывающий холод. Израильтяне радовались: редко столько воды проливается на их сухую землю.
Как дурак, я привез Володе бутылку какой-то дорогой водки. Мы ее выпили, а на следующий день пошли в книжный магазинчик, который он держит в Бейт-Шемеше. Дверь в дверь там продовольственный, и Володя затащил меня в него. На полках стояли всевозможные водки, в том числе точно такая же, какую привез я, молдавский коньяк, грузинское вино и пиво из Сум, Ярославля, Харькова, Питера, Курска, Нижнего Новгорода; разумеется, горы сала и колбас.
В Бейт-Шемеше половина жителей – выходцы из СССР. Вторая половина – крутые ортодоксы, в свою очередь делящиеся пополам: одни из Магриба, другие из Америки.
Мы каждый день ездили в Иерусалим. Володя и Саша предупредили, что к их остановке подъезжают два вида автобусов: один «нормальный», второй «американский», то есть на нем ездят американские религиозники. В таком ни в коем случае мужчине нельзя садиться рядом с женщиной, а женщине – с мужчиной. В первый же раз мы угодили на «американский» автобус, где одетые в черное пассажиры, болтавшие на американском английском по мобильным телефонам, смотрели на нас с омерзением.
В один из дней мы с Володей и его престарелой собакой, слепым черно-седым королевским пуделем, отправились погулять по окрестностям Бейт-Шемеша. Проходили мимо микрорайона, построенного как социальное жилье, но заселенного самозахватом этими самыми американцами. Двери были заложены шлакоблоками, жители попадали к себе через окна, по приставленным доскам. Возле домов ни деревца, хотя вокруг тщательно возделанная зелень, и, что самое удивительное, весь микрорайон огорожен мощным железным решетчатым забором. Я спросил у Володи: «Кто забор поставил?» – «Да сами и поставили», – ответил он.
Что же, хочется людям самим себя загонять в гетто, их дело.
Там по голой земле слонялись два маленьких мальчика. Увидели собаку, подбежали к забору, ухватились ручонками за железные прутья и начали тявкать: «Ав! Ав! Ав!» Вот событие – собака прошла!
Израиль той весной выглядел удивительно. Холмы, будто где-нибудь в долине Луары, были покрыты сочной травой, в ней сверкали яркие цветы. Были ли там «лилии полей»? Должно быть, были.
48. Белгород
Начиная с 1956-го

В Белгороде я никогда не бывал. Но проезжал мимо с тех пор, как себя помню. И он для меня начало юга. Пока едешь на поезде в сторону Крыма, Орел и Курск – это еще Россия, а Белгород, стоящий у границы с Украиной, уже – по ощущению юг. И недаром граница пролегла именно там. Россия по преимуществу северная страна, Украина и географически, и культурно тяготеет к югу.
Особенно ясно, что в Белгороде юг приближается все ближе и все быстрее, когда едешь в Крым весной, в апреле. В Белгороде деревья еще только-только, как и в Курске, начинают распускаться. Но точно знаешь: еще несколько часов – и будет настоящая весна.
Эту уверенность укрепляют окружающие Белгород белые меловые горки, точно южные по очертаниям.
Такие горы можно найти и в России, но там они выглядят странно.
49. Белогорск
1983, возможно

Ак-Сарай («Белый дворец») был столицей ханов Гиреев, пока они не утратили вкус к кочевой жизни на плоской местности и не переселились в предгорья, в Бахчисарай («Дворец-сад»).
Когда татар в 1944 году депортировали из Крыма, городок переименовали в Белогорск. Переименования – странное дело. «Бело» оставили, видимо, потому, что для славянского сознания белизна – это синоним чего-то хорошего. Хотя красное все же лучше, могли бы и Красногорском назвать, в СССР все равно уже было несколько Красногорсков. Здесь «-горск» – очевидное преувеличение. В Белогорске гор нет – ни белых, ни других. Там холмы, да вдали виднеются отроги Восточной гряды. Весной они зеленеют травой, а в прочее время цвета выгоревшей гимнастерки.
В Белогорск попадаешь, когда следуешь из Симферополя в Судак. Позади горизонтальность Центрального Крыма, впереди горы, а потом море. Белогорск – это всего лишь точка между городами, которую я всегда проезжал. Однажды, не помню уже почему (автобус сломался?), я застрял там на два часа. Заняться было нечем. Палило солнце, по площади ветер гонял пыль. Торчали контражуром в бледно-голубом небе пирамидальные тополя.
Наверно, сейчас в Белогорске интереснее. Наверняка построена мечеть; возможно, даже медресе. Наверняка украинцы, татары и русские делят между собой что-то и никак не могут поделить.
Еще в Ак-Сарае (Белогорске) я почему-то несколько раз видел в небе продолговатый аэростат, наподобие тех, что во время войны поднимали в целях заграждения от вражеских аэропланов над Москвой. В Белогорске так боролись с НАТО? Или это для красоты?
Такой же аэростат я заметил как-то над низкими Арденнскими горами в Бельгии, и это было очень красиво.
50. Берлин
1988–2004

Я попал в Западный Берлин весной 1988 года благодаря Лизе Шмитц, затеявшей проект «ИсKunstво», первый, где художники из Москвы выставлялись вместе с немецкими, и это же был мой первый выезд из Франции в какую-то другую страну. Незадолго до того я посмотрел «Небо над Берлином» Вендерса, фильм мне очень понравился, поэтому многое в городе я узнавал. Или видел город через кино.
Перед Берлином я заехал в Кёльн к Гройсам. В Берлин почему-то отправился самолетом, он на подлете очень круто взял вниз (заложило уши) и приземлился в аэропорту Тегель. Меня встретила Лиза, по дороге к ней мы проезжали французский военный городок: обычный французский поселочек, главная улица называлась avenue Général Leclerc.
Я жил у Лизы в Крейцберге, на Таборштрассе. Рядом Ораниенштрассе, где немыслимо перемешались турки и левые берлинские интеллектуалы, кебабные харчевни и самые модные галереи, анархисты и строгие мусульмане. В каком-то кафе сидели пожилые трансвеститы с набеленными лицами, с вурдалачьими алыми губами. В другом кафе, на Кантштрассе, чудом уцелевшем во время бомбежек, все сохранялось в неприкосновенности, будто на дворе 30-е годы, а в загончике рядом с кухней на потеху посетителям содержался огромный боров.
На путях разбомбленного в 45-м вокзала панки устрашающего вида, но совершенно безобидные жгли среди бурьяна костры. По огромному блошиному рынку возле Бранденбургских ворот ветер гонял тучи пыли, торговали там черт знает чем, в том числе слежавшимся советским военным обмундированием, пластами сложенным на земле.
Торчала занозой стена. Мне понравилось прогуливаться вдоль нее, разглядывать граффити. Кое-где возле стены были смотровые площадки, поднявшись на которые можно было увидеть другую сторону. Как-то мы ужинали на террасе кафе возле стены, а гэдээровский пограничник смотрел с вышки в бинокль в наши тарелки.
Мне очень полюбилось одно место на берегу Шпрее – туда можно было пробраться через дыру в изгороди из колючей проволоки. Горы песка, лопухи, кусты акации (как у Генриха Сапгира: «У черты цивилизации расцвели кусты акации…»). Я брал с собой бутылку вина, смотрел на воду, на лебедей, плававших вдоль берега, на гэдээровский сторожевой катер, курсировавший туда-обратно по фарватеру, и на другой берег, фланкированный пятиметровыми бетонными плитами с колючей проволокой поверху. Потом Лиза мне сказала, что по мудреной берлинской политгеографии место моего отдохновения принадлежит ГДР и находиться там небезопасно.
Я вернулся в Берлин через несколько месяцев, на выставку, вместе с Николой Овчинниковым. Из Москвы прибыли Сережа Волков, Сережа Воронцов, Свен Гундлах, Ира Нахова, Сережа Ануфриев, Д. А. Пригов, Вадик Захаров, Володя Сорокин, Иосиф Бакштейн, потом откуда-то из Австрии подтянулись Костя Звездочётов и Герман Виноградов. Почти для всех это был первый выезд за границу.
В это же время в Берлине оказались питерцы: Новиков, Африка, Курёхин. Началась короткая эпоха моды на всё Made in USSR и постоянных вояжей наших художников по заграницам.
Жили мы там же, где давалась выставка, – в реконструированном личном вокзале кайзера в районе Шарлоттенбург. Выставка оказалась скорее хорошая, хотя никакого общего языка с нашими немецкими коллегами, довольно скучными художниками, не было.
Я собирался сходить в восточную зону, но так и не собрался.
В последующие годы я несколько раз бывал в Берлине – просто так или по каким-то художественным поводам. В 1992 году у нас с Сережей Воронцовым была выставка в маленькой галерейке Ирены Налепы. Одновременно там оказались Маша Константинова и Коля Козлов. Мы с Колей почему-то всю ночь бродили под моросящим дождиком по Крейцбургу, время от времени отхлебывая из бутылки виски. Забрели во двор, выходивший на реку. Там на пинг-понговом столе спал промокший пьяный Йорг Иммендорф, он мутно посмотрел на нас и снова заснул.
В 1988-м я видел, как он куролесил в снобском Café de Paris.
Мы зашли в распахнутые двери его мастерской, там штабелями стояли картины стоимостью несколько сотен тысяч марок каждая и ящики с пивом. Мы достали одну бутылку – виски у нас закончился. Пиво оказалось безалкогольное.
Я вернулся в Берлин только в 2004-м, на выставку коллекций Вадика Захарова и Харалампия Орошакова в Kupferstichkabinett и не узнал города – не понимал, где нахожусь.
51. Берново
1978

Как хорошо, что по молодости мы много и бесцельно путешествовали, – в меру наших возможностей. Так мы почти случайно оказались с Машей Константиновой в селе Берново Тверской губернии. Туда ранее попал Пушкин. Ему, я считаю, вообще везло: он попадал, и не всегда по своей воле, в разные места, но они никогда не были безнадежны. Пушкин не попал, например, в рудники под Иркутском или на линию атаки на Кавказе.
Я думаю, Бог, в которого не верю, его справедливо спасал. Нельзя не спасать такого гения.
В Бернове – усадьба семейства Вульфов, в которой росла Анна Полторацкая, будущая Керн. У Вульфов в Бернове Пушкин написал «Анчар», беспросветное стихотворение. А мы с Машей – что же? – решили, что следующий Новый год надо встретить в Бернове. Обсудили эту мысль с друзьями, и они согласились, что идея хорошая.
Каким образом мне удалось найти телефон сельсовета в Бернове, не помню, но это было трудно. Я провел несколько часов за аппаратом, добиваясь через Тверь – Калинин кого-нибудь из райцентра Старица, чтобы дозвониться до села Берново. Удалось. Выяснилось, что там даже гостиница есть, а в ней – телефон. Я позвонил. Спросил, можно ли у них остановиться.
Переполошенная женщина у телефона сначала не могла понять, чего от нее хотят, а потом радостно сказала: «Приезжайте, конечно!»
Мы в Москве запаслись едой и выпивкой (даже какие-то маринованные шашлыки с собой в кастрюле везли), отправились в Берново. Путь неблизкий: до Калинина в вымерзшей электричке, потом часа полтора на обледенелом автобусе. Добрались – нас встречает старушка, хотел бы я сказать в повойнике, но она была в ситцевом белом в синенькую крапинку платочке, а поверх – в завязанном на спине сером шерстяном платке. «Здравствуйте, гости».
Гостиница выглядела так, как, наверно, когда-то выглядели хорошие постоялые дворы. Длинный, составленный из срубов дом. Натоплено жарко, и очень чисто. Беленькие занавески и обои в мелкий цветочек. «Если что приготовить, то там кухня, вы печку-то топить умеете? Водички попить – в сенях кадка». Вода была вкусная, в жестяной бочке, под коркой льда.
Это была одна из лучших встреч Нового года. А с утра мы пошли в усадьбу Вульфов, она почему-то была открыта 1 января. Там не было никого, кроме нас. Мы посмотрели на штофные обои, старую мебель и какие-то memorabilia, я уставился в окошко. По косогору над речкой в сторону черного елового леса мела метель.
Вернулись в гостиницу забирать вещи, прошли мимо странного здания, оказавшегося винокурней. Не знаю, как она выглядела при Пушкине; надеюсь, приблизительно так же. Потому что она была как на картине Брейгеля, а Пушкин, этого художника не знавший, его наверняка понял бы, если бы увидел. А понял ли бы Пушкина Брейгель?
Над берегом речушки стояло бревенчатое чудище, облепленное чуланами, похожими на оборонительные башенки, и увенчанное ржавыми металлическими трубами. Оно вдруг присело, ухнуло, из труб в морозное небо пыхнули облака пара, пахнувшие сивухой.
Окошки винокурни мигнули, и дико крикнула ворона, летевшая мимо.
Мы дождались на морозе автобуса и поехали в Калинин не через Старицу, а через Грузины.
Начислим
+24
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе