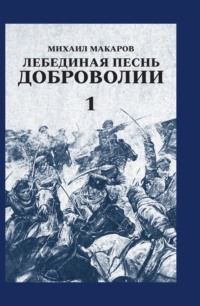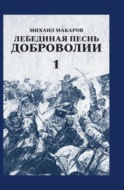Читать книгу: «Лебединая песнь Доброволии. Том 1», страница 7
13
26 декабря 1919 года
Нахичевань-на-Дону
Корниловская дивизия выступила. В Нахичевань был выслан конный разъезд. Части шли в обратном порядке, теперь колонну венчал первый полк.
Рядовые ударники плохо понимали смысл лихорадочных метаний по Придонью. Многие сердились на пустую трату сил.
– Лучше б к обороне готовились!
Росла тёмная злость на казаков. Их уже не только Львов с Риммером чихвостили, а половина офицерской роты.
– Не понимаю, почему начальник дивизии не приказал арестовать генерала Мамантова! – громогласно возмущался взводный Каюм. – Прямая измена!
Пулемётчик Морозов тихонько, дабы не заслужить нового упрёка в красной пропаганде, зудел, что в РККА для командира любого ранга подобный финт неминуемо бы закончился расстрелом.
Мобилизованные мысленно радовались, что избежали кровопролития.
– Суммарно… кх-кх… путь до Александровской и обратно короче, чем от Нахичевани до Новочеркасска, – у Кипарисова, как всегда, была собственная логика.
Один лапоть прапорщик уже посеял, но со вторым расставаться не спешил.
– Какая-никая, а защита основной…кх… обуви…
Ретивая молодёжь – Сверчков, Арсений и им подобные – жалела, что бой за Новочеркасск сорвался. Мальчишки мечтали отличиться на поле сражения.
Штабс-капитан Маштаков помалкивал, не выходя из загадочного образа. Словно зная страшную тайну, он терзался мыслью, стоит ли открывать ларец Пандоры96.
Разгулявшийся ветер с Дона порывисто бил ударников в спины, будто непрошеных гостей взашей выталкивал. Косо летели снежные заряды. Зловеще высвистывала позёмка, ровняя рытвины по обочинам тракта. Корниловцы нахохлились, скрючились, утеплялись, как могли. Все разговоры умолкли, движения стали скупыми. Бойцы экономили силы.
Скоблин ехал впереди офицерской роты, припав к запорошенной снегом гриве коня. В какой-то момент у полковника возникло ощущение, будто сквозь пургу он пробивается в одиночку. Оглянулся и обомлел. Безмолвная чёрная колонна, ползущая за ним, до боли напоминала похоронную процессию.
Обратная дорога обычно кажется короче. Сейчас это правило не работало. Конца и краю не предвиделось томительному движению. Вдруг в снежной мгле завиднелись всадники. Первые шеренги привычно взяли ружья наизготовку, но опустили, узнавая свой разъезд. Низенькая гривастая савраска, ходившая под начальником разведки Баранушкиным, была известна всему полку.
Разведчик чёртом подскочил к Скоблину. Его выдубленная ветрами физиономия имела непривычно смущённое выражение.
– Господин полковник, – удавленником просипел Баранушкин, – Нахичевань занята большевиками.
– Как – занята?! – обомлев на миг, Скоблин в следующую секунду взъярился. – Да вы пьяны, поручик!
– Никак нет, Нахичевань занята, – Баранушкин хрипел своё.
Прибабахнутый, с плавающим взглядом, потерявший голос, он действительно выглядел неадекватным.
– Быть того не может! Вам померещилось. Немедленно поворачивайте и проверьте, – обуздав эмоции, начдив заговорил в обычной своей манере – подчёркнуто спокойно, властно, с едва различимой усмешкой.
– Слушаюсь! – поручик вяло махнул рукой у виска, повернул и поскакал обратно.
За ним, перекрестившись, умчались разведчики – вольноопределяющийся Фокин, призовой стрелок, и разбойничьего вида кубанец Пащенко по прозвищу Кудеяр.
Скоблин знал Алёшу Баранушкина с Ледяного похода. Отчаянный малый, бессребреник, тот ни разу не замечался во вранье. Да и насчёт водки был аккуратен. Ума сроду не пропивал.
Полковнику стало стыдно, что он наорал на старого корниловца. Рефлексировать Скоблин не умел, но знал правило – командир обязан быть справедливым.
«При первой возможности извинюсь», – сделал зарубку в памяти и переключился на новую проблему.
Со стороны арьергарда, где шёл третий полк капитана Франца, послышалась яростная пулемётная стрельба. Объяснение этому напрашивалось одно – большевики из Новочеркасска догнали дивизию.
– Шире шаг, офице-ерская! – рявкнул Скоблин.
Авангарду надлежало скорее закрепиться на окраине города, пропустить полки, шедшие следом, став арьергардом, сомкнуть ряды и так причесать зарвавшихся «товарищей», чтоб у тех надолго отпала охота рыпаться. По крайней мере, до утра.
– Бего-ом арш! – донеслась следующая команда.
Корниловцы рванули наперегонки с повозками. Опять молчком, только сбивчивое дыхание, многоногий трудный топот, бряканье амуниции, шлепки вожжей по потным лошадиным спинам, храп…
Офицерская рота достигла Нахичевани. Равняя ряды, переводя дух, рукавами промокая сырые лбы, ударники втягивались в крайнюю улицу. Вразнобой застучали по булыжнику сапоги, защёлкали подковы. Полозья саней натужно скрипели, уродуясь о камни. Армянский городок выглядел мирно. Бледным светом делились фонари, в их мутных ореолах хаотично кружили белые «мухи».
У перекрёстка рота замедлила шаг. Впереди на мостовой валялись трупы. Распростёртую на боку лошадь отличала приметная масть, так называемая «дикая» – светло-жёлтая шерсть, длинная чёрная грива и хвост – вороная метёлка. Придавленный кобылой всадник разметал в стороны руки. Слетевшая со стриженой головы папаха укатилась аж на середину перекрёстка. Выпуклую скулу офицера разворотила пуля, из страшной раны торчал осколок кости.
– Наш разъезд перебили… – трагическим шёпотом высказал догадку Риммер.
– Поручик Баранушкин, – Белов опознал мертвеца.
Скомандовав «рота, стой», капитан отправил посыльного к начдиву. Быстроногий Сверчков не успел завернуть за угол, как на другом конце улицы из тьмы высунул угловатую морду бронеавтомобиль. Он походил на громоздкий брусок, склёпанный из грубых листов металла. Заднюю часть его венчала пара приземистых цилиндрических башен, из которых щерились курносые рыла «максимов». Чихнув карбюраторным двигателем, броневик бойко покатил вперёд, подпрыгивая на брусчатке. За ним, как цыплята за курицей, бежали пехотинцы. Станковые пулемёты загоготали хором, насквозь прошивая улицу свинцом. Офицерская рота в беспорядке хлынула назад.
То, что Нахичевань оказалась в руках врага, противоречило здравому смыслу. Откуда здесь было взяться красным?! Не с неба же они свалились! Скоблин, обладавший наибольшей оперативной информацией, предположил, что за те несколько часов, пока его дивизия возвращалась в город, на фронте разразилась катастрофа.
Так оно и было. Наличие у противника крупных конных масс позволяло им свободно гулять меж разрозненных очагов белой обороны. Нахичевань стремительно заняла четвёртая дивизия Оки Городовикова, а шестая дивизия Семёна Тимошенко ворвалась в Ростов. Оба соединения входили в состав конармии Будённого. Город праздновал Рождество, и появление красных некоторое время оставалось незамеченным гарнизоном и населением.
Впереди будёновской кавалерии двигались броневики «Остин-Путиловец». Их тяжёлые пулеметы выкашивали попадавшиеся мелкие подразделения добровольцев.
Корниловцы оказались между Сциллой и Харибдой97. Мосты в Ростове и в станице Александровской уже захватили красные. Сзади мощно напирала конница Бориса Думенко. Третий полк, пятясь, с трудом сдерживал её натиск. От разгрома бойцов капитана Франца спасали глубокий снег и ранние декабрьские сумерки. Противник давил по тракту, не решаясь обходить по целине.
Для большевиков столкновение с крупной воинской частью белых также оказалось неприятным сюрпризом. «Максимки» из башен броневика поливали наобум. Корниловцы отделались тремя легкоранеными. Схоронившись за домами, ударники в ответ палили из-за углов. С минуты на минуту ждали свою артиллерию.
Подлетели лёгкие сани, запряжённые резвой лошадкой. В них, держась за борт, на корточках сидел командир первого полка Гордеенко. Он высигнул из санок на полном ходу, только полы шинели взметнулись и опали крыльями. Козырнув, полковник предстал пред Скоблиным. Молодые отцы-командиры, порывисто жестикулируя, искали выход из ловушки. Судя по отсутствию распоряжений, тщетно.
Тем временем штабс-капитан Маштаков боком продирался сквозь сгрудившихся за укрытием однополчан. Прямо-таки толпа, а не офицерская рота, и реакция у неё соответствующая.
– Куда прёте, как медведь?!
– Осторожней со штыком, шляпа!
Приблизившись к начальству, Маштаков выкрикнул, обращаясь к Скоблину, который в этот момент удачно обернулся в его сторону.
– Господин полковник, здесь, это самое, понтонный мост через реку!
Начдив обладал отличным слухом и завидной реакцией. По-собачьи лязгнув челюстью, он радостно оскалился. Над верхней губой полковника встопорщились чёрные стрелки усов.
– Времянка! Ай, молодчага, капитан! Офицерская за мно-ой!
Скоблин во главе роты бросился к реке. Бежали гурьбой под откос, в сутолоке главной заботой было не споткнуться. Упадёшь – затопчут задние.
Тёмный дощатый настил, дугой соединивший берега Дона, контрастно выделялся на фоне заснеженного льда. Местные жители называли его «Таганрогский мост».
На противоположном пологом берегу суетилась кучка людей. Вероятно, они заметили катившийся с горы человеческий ком. Бабахнуло несколько выстрелов.
– Господин полковник! – не своим голосом заорал Львов, первым достигший настила. – Они солому тащат! Мост поджигать!
– Вперёд! – Скоблин взбежал на переправу.
Корниловцы ураганом пронеслись по мосту. Яростная дробь двух сотен сапог заставила жидкий настил ходить ходуном. Добежав до цели, ударники разметали горящую солому и с руганью набросились на поджигателей, оказавшихся мамантовцами. Командовавший ими бородач хорунжий растерянно оправдывался.
– Господин полковник, мы ж думали – краснюки! Да, рази ж мы стали б в своих пулять?
К переправе вереницей устремились подводы и артиллерийские запряжки. Скоблин лично регулировал движение, запуская на мост одновременно не более двух повозок и устанавливая между ними дистанцию в двадцать саженей98. Потом по зыбкому настилу пошла пехота.
Второй Корниловский полк, задерживая врага, принял уличный бой, куда более непредсказуемый и жестокий, чем любое сражение в чистом поле. Пули сыпались отовсюду – из-за углов домов, из подворотен, из чердачных окон, с крыш. Остроконечные кусочки свинца в мельхиоровой облатке, деформируясь при рикошете от камня фасадов и мостовой, наносили жуткие раны. В тесноте улиц невозможно было оценить силы противника и развернуться для контратаки. Фланги как таковые отсутствовали, завладевшие инициативой красные просачивались дворами, били в спину.
Сёстры милосердия не успевали перевязывать раненых. Лена Михеева, слабая после тифа, быстро выбилась из сил. Присев на снег возле прапорщика, поймавшего пулю в бедро, она с трудом смогла расстегнуть на нём брюки и спустить их до колен вместе с кальсонами. Тщилась остановить ручей артериального кровотечения. Офицер был в сознании, стыдливо прикрывал пах, потом он вдруг засучил ногами и затих. У отвыкшей от подобных шоковых сцен Лены защипало в глазах.
Жанна Баранушкина, стоя на коленях, бинтовала голову ударнику, лишившемуся мочки уха. Ранение было неопасным, но кровавым.
– Терпи… Ещё симпатичней стал! Кто б с тобой, лопоухим-то, под венец пошёл?
Оригинальная постановка вопроса рассмешила юношу, он затрясся всем телом. Жанна нервически булькала вместе с ним. О гибели мужа она ещё не знала.
К сёстрам с наганом в руке подбежал командир второго полка Пашкевич. Его костлявая физиономия имела недюжинное сходство с адамовой головой99, изображённой на шевроне корниловцев. Благодаря ей полковник удостоился прозвища Эмблема.
– Барышни, уходим! – свирепо рыкнул Эмблема, помогая Михеевой подняться на ноги.
С левого берега картечью харкнула артиллерия добровольцев, охлаждая прыть наступающих. В ту же минуту двуглавое чудище «Остин-Путиловец», увлекшись стрельбой с господствующей позиции, неосмотрительно выехало на край берега и поползло по обледенелому скату, стремительно набирая скорость. Внизу броневик неуклюже завалился на бок. Пользуясь дарованной передышкой, заслон совершил отчаянный рывок через мост. И сразу в ход пошли солома с керосином, заготовленные казаками. Доски и брёвна настила с треском занимались огнём. Ветер услужливо поволок толстый шлейф дыма к правому берегу, застилая глаза советским.
Третьему полку ударников пробиться к переправе было не суждено, ему предстояло переходить Дон по льду.
14
26–27 декабря 1919 года
Станица Александровская
Фортуна отвернулась от третьего Корниловского полка в тот самый день, когда от должности его командира со скандалом был отрешён есаул Милеев. Гордец, пьяница и бузотёр Милеев, помимо незаурядных организаторских качеств, обладал волчьим чутьём, позволявшим избегать капканов, расставленных судьбой на тропе войны. Его преемники таким талантом не обладали.
В конце октября, уворачиваясь от удара Эстонской дивизии, третий полк угодил в засаду и подвергся настоящему избиению в селе Заболотном. Затем понёс большие потери под Обоянью. После череды боёв часть истаяла до сотни штыков и была сведена в батальон. Кое-как пополнившись, полк вновь получил самостоятельную задачу на отшибе дивизии. И едва не погиб, окружённый в Мохначанских лесах северо-восточнее Змиёва. Прорваться удалось всего восьмидесяти шести ударникам, которые вынесли знамя части.
Остатки полка отправились на станцию Харцызск для пополнения. Туда вскоре прибыл запасной батальон, а на следующий день подоспели две роты, ранее выделявшиеся для охраны Харьковского железнодорожного узла. Полк вновь развернулся в три батальона и пулемётную команду.
Ситуация развивалась так, что назначенный вместо Милеева капитан Щеглов второй месяц не вступал в фактическое командование полком. Он обосновался в тылу, замкнув на себя проблемы формирования и снабжения части. Такой расклад, абсолютно нетипичный для корниловцев, выглядел странно. Удивляла и позиция начальника дивизии, который не торопил Щеглова на фронт.
Боевым ядром третьего полка временно руководил капитан Франц, являвшийся в стане ударников фигурой весьма неординарной. Хорват из Загреба, доброволец двух войн, он был ранен семь раз и оставался в строю. Правую руку капитана заменял протез, носимый на перевязи. Простреленная левая рука слушалась его не вполне. Ходил он с палкой, сильно припадая на искалеченную ногу. Смелость Франца в бою выглядела настолько естественной, что не отличалась от его обыденных поступков.
Однако при всей своей фантастической храбрости и дисциплинированности капитан Франц был негибок. Он умел лишь добуквенно исполнять приказ. Кругозора в вопросах тактики капитану недоставало. Негативную роль играло также слабое знание им русского языка. Его речь изобиловала малопонятными словами старославянского происхождения.
Зато в недостатке стойкости Франца было не упрекнуть. Долгие шесть часов его полк отбивал атаки превосходящих сил противника. Ближе к полуночи порыв конницы Думенко иссяк, она отошла в станицу Аксайскую. Самое время было перевести дух ударникам, но тут замаячили разъезды со стороны Нахичевани, захваченной будёновцами.
На фоне бескрайнего снежного покрова всадники казались фигурками, по контуру вырезанными из чёрного картона. Ветер стих, улеглась незаметно пурга. В проясневшем небе звёзды устроили иллюминацию. Они перемигивались и казались живыми в сравнении с плоской половинкой луны, мерцавшей чахло-лимонным фосфорическим свечением.
Отупевшие от усталости, голодные корниловцы карабкались на железнодорожную насыпь, откуда гуськом спускались на лёд. Переправа прошла без проволочек. Обоз, обуза полка, без которой никуда, перебрался на другую сторону Дона заблаговременно.
Франц со своим немногочисленным штабом дожидался подхода пулемётной команды, сыгравшей в сегодняшнем бою партию первой скрипки. Пулемётчиками командовал побратим Франца словенец Александр Трушнович, тоже капитан.
– Уходите брзо100, большевик догоняет! – Трушновича возмутил ненужный риск товарища, которого он окрикнул по-хорватски. – Игнатий, что ты сидишь, как пень?! Они уже здесь!
Франц беспечно пощипывал фатовские101 смоляные усики, казавшиеся приклеенными к верхней губе. Обоснованная тревога пулемётчика вызвала у него усмешку, совершенно непонятную. Медленно поднявшись, Франц похромал к своей лошади. Глядя на него, оторвали зады от борта повозки и остальные штабисты.
Трушнович решил подыскать позиции для своих пулемётов. В любую минуту большевики могли попытаться перескочить Дон, к их встрече следовало подготовиться.
Ординарец помог Францу вскарабкаться на лошадь. Левой рукой капитан взял поводья, приспособленные под него, укороченные и связанные между собой.
Младший адъютант полка капитан Ровный, его ординарец и писарь не сдвинулись с места.
– Дру́ги, проснитесь! – окликнул их Франц.
Красавец Ровный, закуривая, ответил со странным вызовом:
– Мы остаёмся.
– Измена! – утвердительно произнёс Франц.
Бросив поводья, он без малейшей суеты расстегнул кобуру револьвера. Словно реагируя на его действия, на правом берегу затрещал вражеский пулемёт. Одна из выпущенных им пуль стукнула Франца точно в висок, вызвав мгновенную смерть.
Успевший отъехать шагов на двести Трушнович резко обернулся. Там, где минуту назад стояли чины штаба, разбегались, болтая стременами и испуганно ржа, осёдланные лошади без всадников. Чуть поодаль кучковались пешие, Франца среди которых не было.
– Игнатий! – Трушнович пустил коня в карьер.
Приблизившись, пулемётчик узнал статного человека в офицерской шинели, с плеч которой волшебным образом исчезли погоны.
– Капитан Ровный, где Франц?! Што то значи?102
Вместо ответа адъютант одной рукой, как дуэльный пистолет, вскинул винтовку. Пуля мерзко взвизгнула над головой словенца. Произошло это так внезапно, что пулемётчик не успел испугаться. Капитан Ровный перехватил трёхлинейку двумя руками, клацнул затвором, прицелился и выстрелил опять. Новый промах!
Трушнович повернул коня и поскакал прочь. Он был настолько ошеломлен предательством тихони-адъютанта, что не обратил внимания на третий выстрел. Отъехав на безопасное расстояние, Трушнович начал озираться в поисках своих людей. Изменников нужно было покарать! Но пулемётная команда ушла уже далеко, а группу дезертиров во главе с Ровным окружили будёновские разведчики. Если они кинутся в погоню, Трушновичу на заезженной лошади нипочём от них не уйти.
Пулемётчик, понурившись, догонял свой полк, державший направление на станицу Ольгинскую. Тело бедняги Франца осталось на поругание врагу. Побратиму не суждено было увидеть великую славянскую державу, простирающуюся от родного Загреба103 далеко за Уральский хребет. Державу, за которую в рядах Белой армии дрались неисправимые мечтатели Игнатий Франц, Саша Трушнович и ещё несколько десятков их сподвижников.
Со стороны Ростова докатывался глухой бубнёж пушечной пальбы. Над станцией в полнеба багровело зыбкое зарево пожарищ. Пламя безжалостно уничтожало громадные запасы имущества в брошенных эшелонах и складах.
15
26 декабря 1919 года
Ростов
Выражение «словно с неба свалились» идеально подходило к появлению будёновцев на улицах Ростова. Белогвардейская пресса уверила горожан, будто генералы Мамантов и Топорков наголову разбили неприятеля в районе Генеральского Моста, взяли уйму пленных и отшвырнули врага далеко на север. Легковерный буржуазный Ростов беспечно справлял праздник Рождества Христова. Над городом плыл благовест, возвещая о скором начале вечернего богослужения. Размеренные гулкие удары большого колокола Александро-Невского собора вселяли надежду в сердца тех, кто радел за победу белого воинства.
Линия обороны была вынесена на дальние подступы к Ростову. На окраинах не имелось даже застав. Окопы, с таким трудом вырытые обывателями в порядке трудовой повинности, пустовали. Большой город, эталонная ловушка для атакующей кавалерии, оказался совершенно неподготовленным к уличным боям.
Стремительный отъезд за Дон штаба Добровольческого корпуса выглядел бегством. Получив известие о катастрофе на фронте, генерал Кутепов не шевельнул пальцем для объявления общегородской тревоги. Объяснить это можно было только полной растерянностью старшего добровольца. Подобная управленческая задача оказалась для комкора сложнее, чем развешивать смутьянов вдоль Большой Садовой улицы.
А ведь в городе находились сотни, если не тысячи офицеров различных штабов и тыловых учреждений. Эти люди умели обращаться с оружием, были приучены к дисциплине. Большинство из них не рвалось на фронт, но инстинкт самосохранения и тыловиков заставил бы оказать сопротивление. При наличии грамотного начальства, разумеется. Организованный отпор сохранил бы многие жизни и не позволил бы советскому вторжению в Ростов выглядеть триумфом.
Сутки назад белые действительно имели частный успех, общий ход сражения не изменивший. Утром двадцать шестого декабря кавалерия Будённого возобновила натиск, в результате которого стоявшая в центре добровольцев Терская пластунская бригада оказалась уничтоженной, а конная группа Топоркова – опрокинутой. Роковую роль для белой обороны сыграло малодушие генерала Мамантова. «Донская стрела» проигнорировал приказ Ставки о контратаке противника и увёл свой корпус через Аксай на левый берег Дона.
Целый день на фронте Добровольческого корпуса шёл жестокий бой, все атаки большевиков отбивались с большими для них потерями. Державшие левое крыло дроздовцы сумели даже перейти в контрнаступление и семь вёрст гнали врага по степи. Но со стороны сданного Новочеркасска во фланг и тыл корпуса Кутепова уже беспрепятственно выходила конница Думенко. Под угрозой окружения добровольцы начали поспешный отход за Дон, минуя Ростов. Спасаясь от разгрома, боевые части бросили на произвол судьбы сочувствующее им население, свои тылы и военное имущество.
Шестая кавдивизия Семёна Тимошенко входила в город с опаской. Сперва на несколько кварталов углубился разъезд. Бойцы держали оружие наготове, прислушивались к каждому шороху. Ждали подвоха, ан его не случилось. Один из разведчиков рысью вернулся к голове колонны, замершей на окраине, доложил.
Начдив скомандовал авангарду: «Вперёд, арш». Колонна – по четыре всадника в ряд – тронулась. Знамёна были свёрнуты и зачехлены. Эскадроны шли молча, команды отдавались вполголоса. Из всех звуков – мерное щёлканье сотен подков по брусчатке, отрывистое фырканье приморённых лошадей. Густая круговерть метели, ранняя декабрьская темень были в подмогу.
Чем ближе будёновцы оказывались к центру города, тем больше дивились выпавшему им фарту. На Большой Садовой погромыхивали трамваи, горели фонари, бурлила мирная жизнь. По расчищенным от снега тротуарам фланировала нарядно одетая публика, выглядевшая беззаботной. Встречавшиеся офицеры, вероятно, принимали красную конницу за кубанцев, козыряли Тимошенко, чьё обличье не уступало генеральскому.
Кинотеатр «Солей» сиял огромными арочными окнами второго этажа. С балкона над входом экзальтированная барышня в шляпке с перьями бросила всадникам букет цветов.
– Слава нашим доблестным защитникам!
Ординарец с ловкостью циркача поймал кувыркающийся букетик, протянул начдиву:
– Гля-кось, Семён Констянтиныч104, с цветочками нас встречают!
Тимошенко локтем оттёр букет. Отплясывать гопак105 было рано. Отступивший неразгромленным ворог в любой момент мог вдарить под дых. Настороженный взгляд начдива из-под папахи, глубоко насунутой на лоб, зыркал по окнам чердаков. Там мерещились рыла станковых «максимов».
Пулемётчик Божьей милостью, Тимошенко отлично знал, на что способен «максимка» (скорострельность шестьсот выстрелов в минуту) в умелых руках. Густая колонна текла медленно, с обеих сторон сдавленная каменным ущельем многоэтажных домов. Железные ворота во дворы закрыты были наглухо. Начнётся заваруха, не рассредоточишься.
У каждого перекрёстка начдив бросал через могучее плечо: «взвод» или: «полуэскадрон». Повинуясь команде, от колонны отделялась группа всадников, сворачивала в боковые улицы.
Тимошенко, статью – богатырь из древнерусской былины, выглядел грозно и солидно. Никто не давал ему его двадцати четырёх годов, всегда – много больше.
Родился Семён Тимошенко в Бессарабской губернии. В малоимущей украинской семье был он семнадцатым ребёнком. Образованием довольствовался начальным, на хлеб сызмальства зарабатывал тяжким батрацким трудом.
Солдатом хлопца сделала Мировая война. Призывная комиссия оценила стать и смекалку новобранца, направив в Ораниенбаумскую пулемётную школу. В императорской армии ремесло пулемётчика входило в разряд квалифицированных. Успешно окончив школу, Семён убыл на фронт. Воевал на совесть. К середине 1916 года просторную грудь старшего унтера Тимошенко украшали георгиевские кресты трёх степеней. Награды достались не задарма, на левом рукаве гимнастёрки три полоски рдели по числу ранений. И был бы полный бант «георгиев» у молодца́, бумага уж пошла наверх, но подсуропил буйный характер. Отстаивая солдатскую правду, Тимошенко поднял руку на офицера, приложил «их благородие» от души.
Военно-полевой суд учёл боевые заслуги и обошёлся с Тимошенко гуманно. Могли ведь и расстрелять, на беспрекословном подчинении старшему по чину зиждется армейская дисциплина. Семёна лишили звания и всех наград, приговорили к четырём годам каторги с последующей бессрочной ссылкой в Сибирь.
Отбывать срок Тимошенко начал в военном отделении Бобруйской тюрьмы, где не загостился. Обиженный на приговор, он по всякому поводу конфликтовал с надзирателями. Тюремное начальство от греха выхлопотало бузотёру перевод в каторжный централ города Николаева. Там ему обрили наголо половину головы, обрядили в грубый халат с нашитым на спине бубновым тузом и заковали в ручные и ножные кандалы, не снимавшиеся даже во время работ и короткого сна.
Срок нежданно-негаданно скостил февраль семнадцатого, причисливший каторжанина Тимошенко к «политическим». Месяцы, проведённые в царских тюрьмах, Семён вспоминать не любил. Любопытной Варваре нос мог оторвать ненароком.
Очертя голову ринулся Тимошенко в водоворот революции. Себя не жалел, золотопогонную контру – того пуще. За должностями не гонялся, они сами его находили. Службу в Красной Армии начал рядовым бойцом, а год спустя полком верховодил. При обороне Царицына от донских белоказаков свёл боевую дружбу с членом Реввоенсовета Сталиным. Немногословный башковитый грузин сколачивал подле себя дружину из отборных ухорезов пролетарского и крестьянского происхождения.
Знакомство это помогло Семёну стать начдивом‐6 в составе Первой Конной армии. Подобного формирования – мощного, маневренного – не знала ни одна армия мира. Во главе Первой Конной стояли драгунский вахмистр сверхсрочной службы Будённый и Клим Ворошилов, матёрый профессиональный революционер. Оба – близкие соратники товарища Сталина.
Нехватку, а честнее сказать, отсутствие военного образования Тимошенко компенсировал фантастической личной отвагой. Боевой опыт получал на полях сражений. Всегда сам водил бойцов в лихие сабельные атаки. Вооружённый длинным кавалергардским палашом, причинявшим страшные колотые и рубящие раны, наводил ужас на беляков, а в сердца революционной братвы вселял уверенность в победе. Ещё несколько раз был ранен, но строя не покидал. А уж коней под ним поубивало – бессчётно. По рекомендации Сталина начдив вступил в партию коммунистов.
Командовать пятью тысячами сабель – ответственность преогромная. Поэтому-то Тимошенко и не гарцевал, радуясь лёгкой победе, продумывал каждый шаг. Но, понаблюдав за жизнью ростовских улиц, мысли о западне отмёл. Как ни коварен генерал Кутепов, такого театра ему не устроить. Слишком мудрено.
Не артисты же мальчишки-газетчики, наперебой орущие звонкими голосами:
– Вечерние новости! Экстренное сообщение! Разгром красных под Генеральским Мостом! Большевики отогнаны от Ростова на сто вёрст!
Тяжеленек командирский крест, но душа молода, без куража ей тошно.
– Гуржий, – начдив указал командиру комендантского эскадрона на остановившийся трамвай, где беспечно веселилась компашка офицеров, явно подвыпивших, – проверь квитки106 у пассажиров!
Эскадронный рад радёшенек. С бойцами подскакали к вагону. Двое прямо из сёдел сиганули на подножку. Стоявшего спиной поручика сгребли за ворот, поволокли к выходу. Мощный рывок – и тот, ничего не понимающий, кулём шмякнулся на булыжник мостовой. За офицериком вылетел его костыль.
– Лови третью ногу!
Сапёрный штабс-капитан, только что в лицах рассказывавший пикантный анекдот, цапнул кобуру на поясе.
– Руки прочь, хам!
«Хам» рук не убрал, руки пришлось задирать в «гору» самому штабсу, беря пример со своих более понятливых приятелей.
– Выходьте, ваш бродья! «Зайцами» кататься не дозволяется! – язык у комендача́ острее бритвы.
На улице перелив копыт сменился дробным громыханием. В полном порядке шла гаубичная батарея – четыре орудия с зарядными ящиками. Выплеснувшееся из берегов красное половодье затапливало оплот русской контрреволюции, не оставляя старому миру ни малейшей надежды на спасение.
Общая картина стихии складывалась причудливой мозаикой из многих сцен. Для торжествующих победителей – комических, трагических – для побеждённых.
…Будёновцы ворвались в старинный особняк на Таганрогском проспекте. В просторном светлом зале играл оркестр, вокруг празднично убранной ёлки по навощенному паркету вальсировали пары – господа в чёрных фраках, офицеры в парадных мундирах, нарядные дамы в дорогих украшениях.
Буйная ватага до зубов вооружённых непрошеных гостей нарушила идиллию в момент. Здоровущие ставропольские парни, намёрзшиеся за сутки, проведённые в сёдлах, зверски голодные, радостно галдя, обступили стол, сервированный на тридцать кувертов 107. Тугие струи коллекционных вин хлынули в бокалы, выплёскиваясь через края. Бордовые, розовые лужи захлюпали на тиснёной скатерти, сливаясь в пахучее пенистое болотце. Выдержанные напитки проглатывались залпом. Опустошённый хрусталь будёновцы в азарте швыряли на пол, веерами разлетались блескучие брызги.
Спелая брюнетка с причёской «греческий узел» испуганно ойкнула. Склонив голову, приподняла подол крепдешинового платья, увидела алое пятнышко, расплывавшееся сквозь нежный шёлк французского чулка, побледнела, как мел. Осколок бокала поранил стройную ножку…
Кавалер южанки – тонный108 ротмистр со знаком лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка на груди подкусил длинный ус, противоречивые чувства вступили в борьбу в душе потомственного дворянина. Дама публично оскорблена «хамлетом», однако защита её чести равносильна самоубийству.
А в соседней комнате повскакавшие со стульев офицеры бросили карты, перевернули ломберный стол. Оглушительно грохнул револьверный выстрел, зазвенело стекло. Картёжники отбивались бутылками, подсвечниками, тарелками. Но силы были слишком неравны, сопротивлявшихся перебили за минуту, оставив валяться на ковре в нелепых позах. Лишь одному удалось выскочить в окно, с разбегу выбив раму.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе