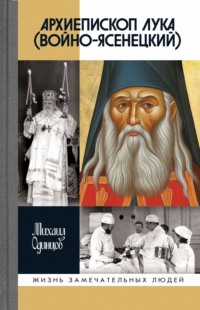Читать книгу: «Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)», страница 3
Пользуясь высвободившимся временем, Валентин Феликсович смог систематизировать накопленные материалы и рабочие записи, тщательно пересмотрел свои дела, делая на полях заметки, изучил новые медицинские книги и журналы, которые ему присылали отовсюду.
В Золотоноше в семье появилась дочь, причем обязанности акушерки при ее рождении исполнил сам отец. Несколько позже, уже находясь в Москве, в письмах супруге он предлагал назвать новорожденную Еленой или Натальей, поскольку дни памяти этих святых наиболее близки ко дню ее рождения. Как и желал отец, при крещении дочку нарекли Еленой.
Работа над диссертацией. Москва. 1908–1909
Понимая, что имеющихся знаний и опыта недостаточно, Войно-Ясенецкий решает поступать в экстернатуру хирургической клиники профессора П. И. Дьяконова (1855–1909), бывшего с 1901 года заведующим кафедрой госпитальной хирургии Московского университета.
В конце августа 1908 года он приехал в Москву. По правилам клиники все врачи-экстерны должны были писать докторскую диссертацию. Валентину Феликсовичу предложили тему «Туберкулез коленного сустава». Она не отвечала его научным интересам и практическому опыту, о чем он и сообщил профессору Дьяконову во время беседы. На вопрос профессора, что же предлагается взамен, экстерн назвал – «регионарная анестезия». Профессор дал свое согласие.
Так как утвержденная тема требовала анатомических исследований на трупах, пришлось перейти в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии, директором которого был профессор Ф. А. Рейн (1866–1925). Он был известным практикующим хирургом, доктором медицины. Позднее, в послереволюционные годы, занимал должность главного врача московской Первой Градской больницы, состоял членом ученого совета Наркомздрава РСФСР. Кроме того, являлся одним из основоположников высшего женского медицинского образования в Российской империи, возглавлял медицинский факультет Московских высших женских курсов, Правление Общества российских хирургов.
В ходе анатомических исследований необходимо было найти те нервные волокна, которые соединяли оперируемый участок тела с головным мозгом. Именно эти нервные волокна передавали болевые импульсы от больного участка в мозг. Для обезболивания именно в них делался укол, что позволяло безболезненно проводить операцию. При внешней простоте регионарных методов анестезии их сложность заключалась в том, что нервные волокна переплетались, и надо было блестяще знать анатомию, чтобы найти нужный нерв и попасть в него иглой. Подобная анестезия оказалась самой щадящей по последствиям в сравнении с обычной анестезией, но самой сложной по исполнению.
Находясь в Москве, Валентин Феликсович постоянно поддерживал связь с женой и детьми. Вот что он пишет Анне 8 декабря 1908 года: «Из Москвы не хочу уезжать, прежде чем не возьму от нее того, что нужно мне: знаний и умения научно работать. Я, по обыкновению, не знаю меры в работе и уже сильно переутомился. А работа предстоит большая: для диссертации нужно изучить французский язык и прочитать около пятисот работ на французском и немецком языках. Кроме того, много работать придется над докторскими экзаменами. Во всяком случае, стать доктором медицины нельзя раньше, чем к январю 1910 г., если все это время быть свободным от всяких других занятий. Зато потом будет мне широкая дорога»38.
В ответном письме Анна просила мужа забрать к себе семью. Но денег на съемную квартиру и проживание в Москве не было. Сам он оплачивал свое скромное существование за счет ночных дежурств в клинике. Семейные обстоятельства заставили сделать перерыв в научной работе, отложить на неопределенное время защиту диссертации и возвратиться в практическую хирургию.
Подстегнуло желание уехать и неожиданная смерть профессора Дьяконова. В его лице Войно-Ясенецкий потерял надежного наставника и своего рода опекуна. Мудрость и отзывчивость выдающегося хирурга оставила глубокий, незабываемый след в памяти Войно-Ясенецкого. В скором времени благодарный ученик посвятит московскому профессору первый отчет о самостоятельной хирургической практике: «в уважение к светлой памяти покойного Петра Ивановича, у которого… имел счастье столь многому научиться в последние месяцы его благородной жизни».
3 марта 1909 года на заседании Хирургического общества в Москве Войно-Ясенецкий сделал свой первый научный доклад, посвященный регионарной анестезии тройничного нерва и вызвавший неподдельный интерес и дискуссию39. Коллеги справедливо считали, что исследования, проведенные на трупах, не могут быть полностью доказательными для применения в клинике. Нужно было накопить практический материал, опровергающий сомневающихся.
Саратовская губерния. Село Романовка. 1909–1910
В начале 1909 года Войно-Ясенецкий обратил внимание на объявление в «Медицинском вестнике» о вакансиях в лечебных учреждениях Саратовской губернии. Требовались врачи, имеющие опыт практической хирургии. Его особенно привлекла больница на 25 коек в селе Романовка Балашовского уезда при станции Романовка Рязанско-Уральской железной дороги. Жалованье составляло 1500 рублей в год при предоставлении квартиры с отоплением и освещением; к тому же разъезды по службе оплачивались за земский счет. Более того, предусматривалась возможность научных командировок на три месяца с пособием в 200 рублей. Штат больницы составлял шесть человек.
В конце января Войно-Ясенецкий направил необходимые документы в Балашовскую уездную земскую управу и спустя пять-шесть дней решением Саратовского губернатора был утвержден в должности 1-го, то есть главного, врача Романовской больницы. Семья прибыла туда в начале апреля 1909 года.
Его врачебный участок по площади составлял около 580 квадратных верст, насчитывал двадцать сел и двенадцать хуторов, расположенных от центра, как правило, больше чем на 8 километров; здесь проживали около 31 тысячи человек. Участок в два раза превышал нормы того времени по площади и в три раза по населению.
Романовка – большое степное село на реке Хопёр с двумя храмами, четырьмя кабаками; население – шесть тысяч человек. Что ни праздник – на улицах пьянки, драки, поножовщина. Бытовавшие там болезни тоже имели огромный размах: пневмония, бытовой сифилис. Врачи, работая без передышки, едва-едва справлялись с наплывом больных. На прием в амбулаторию приходило до 150 человек в день. А после приемов надо было на телеге, а то и верхом ехать по деревням.
Приведем официальное свидетельство об условиях, в которых пришлось работать Войно-Ясенецкому в Романовке, из брошюры «Обзор состояния земской медицины в Балашовском уезде за 1907–1910 и частично 1911 гг.»: «Романовский участок. Принимая за час 25–30 больных, можно было уделить каждому не более двух минут. Тут и осмотр, и назначение. Приемы длятся по 5–7 часов в день… Только в 45 случаях из 100 можно поставить приблизительно точный диагноз, а 55 проходят мимо без диагноза. На долю одного врача нередко приходится принять до 200 человек… Помещение для амбулаторных приемов большей частью тесно и душно».
К этому можно добавить, что в одной комнате одновременно принимали два-три врача, совершались осмотры и самые различные медицинские манипуляции. А за стенкой, в коридоре, масса ожидающих, давка, шум, плач и крики детей, обмороки от недостатка воздуха. Понятно, что в таких условиях о каком-либо индивидуальном подходе к больному не могло быть и речи. А ведь нужно было еще делать операции, которых за год набиралось не менее трехсот! Причем они были самыми разными: на головном мозге, желудке, кишечнике, желчном пузыре, почках, позвоночнике.
В обязательном порядке врач Войно-Ясенецкий продолжал вести истории болезней, записывал результаты своих работ. Опираясь на них, составлял научные труды, которые публиковались в раздичных изданиях: «Труды Московского хирургического общества», «Труды Тамбовского физико-медицинского общества», «Хирургия», «Врачебная газета». И даже однажды смог выехать в Киев, где сделал большой доклад на заседании Хирургического общества.
Войно-Ясенецкий продолжал заниматься универсальной хирургической работой по всем разделам медицины, а также изучал гнойные опухоли. Когда ему отказали в покупке для больницы микроскопа для проведения исследований опухолей, он купил его на собственные деньги.
Главный врач занимался проблемами молодых врачей. В августе 1909 года в обращении в уездную земскую управу предлагал создать уездную медицинскую библиотеку, ежегодно публиковать отчеты о деятельности земской больницы и создать патологоанатомический музей для исключения врачебных ошибок. К сожалению, инициативы врача мало заботили тех, кто был далек от медицины, но распоряжался бюджетом. Из всех предложений «управленцами» одобрено было только формирование медицинской библиотеки, открывшейся спустя год, в августе 1910 года.
Стремление защитить докторскую диссертацию, достичь звания доктора медицины никогда не оставляло Валентина Феликсовича. Заочно обучаясь в экстернатуре, он продолжал собирать необходимый ему практический материал. Каждый свой отпуск проводил в московских библиотеках, анатомических театрах и на лекциях. Однако путь между Москвой и Романовкой был долог и неудобен, понапрасну терялись деньги и время.
Как только Войно-Ясенецкий узнал об отрывшейся вакансии главного врача в земской больнице в Переславле-Залесском Владимирской губернии, он сразу же написал письмо в земскую управу. Кандидатов на место заведующего было несколько, также имевших опыт, научные труды и известность. Но в пользу Войно-Ясенецкого высказался уходящий с поста заведующего больницы Ф. Г. Буткевич, и это стало решающим аргументом. Вскоре Валентин Феликсович получил положительный ответ.
…Спустя более чем столетие Романовка помнит своего земского врача. В романовском храме Рождества Христова находится икона с частицей мощей святого, переданная сюда в 2010 году из Донецкой епархии. На сохранившемся доме, где жили Войно-Ясенецкие, и на здании больницы, где работал будущий святитель, ныне установлены мемориальные доски. Бывшая Больничная улица переименована в улицу Войно-Ясенецкого. В библиотеке поселка открыт музей архиепископа Луки, где выставлены многие мемориальные предметы, переданные родственниками архиепископа. А еще планируется разбить мемориальный сквер и установить памятник Луке.
Владимирская губерния. Город Переславль-Залесский. 1910–1917
В ноябре 1910 года семья Войно-Ясенецких, в которой к этому времени родился уже третий ребенок – Алексей, переехала в Переславль-Залесский. Город этот был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В 1708 году приписан к Московской губернии, с 1778 года – уездный город Владимирского наместничества, а потом Владимирской губернии. В начале XX века в городе насчитывалось порядка 10 тысяч жителей.
В Переславле, древнем православном центре, было четыре монастыря и 28 храмов. Некоторые из них располагались относительно неподалеку от мест проживания Валентина Феликсовича и посещались как им, так и членами его семьи.
Переславская больница, устроенная еще в 1880 году, служила центром медицинской помощи для всего уезда, и поток госпитализированных был огромным. В ведении больницы находилось 442 населенных пункта с населением более 110 тысяч. В 1910–1912 годах Войно-Ясенецкий занимал должность главного врача, а в 1912–1914 годах дополнительно являлся руководителем земской больницы.
Больница была устроена не совсем благополучно. В штате кроме заведующего был еще только один врач-терапевт. Больница вечно переполнена. Недостаток во всем: хозяйственном оборудовании, медикаментах, инструментах. К тому же накануне приезда сгорели два барака, где располагались амбулатория и аптека40.
Оперировать приходилось при отсутствии электричества, канализации и водопровода не только в стационаре, но и в амбулатории и фабричной больнице, за которую Валентин Феликсович тоже отвечал. Не было и рентгеновского аппарата. Несмотря на эти тяжелые условия, Войно-Ясенецкий проводил уникальные операции, спасая тяжелобольных. Ежегодно он делал не менее тысячи операций различной сложности – на позвоночнике, больших суставах, желудке и селезенке, челюстно-лицевые и глазные, гинекологические и проктологические… Немало из них были новаторскими, ибо предлагали новые пути в лечении болезней.
Но не огромный объем работы, легший на его плечи, огорчал Валентина Феликсовича, а то, что пациенты поступали обычно в запущенном состоянии, слишком поздно попадали в больницу – либо добирались на телегах, по бездорожью, либо надеялись на российское «авось», когда болезнь «сама пройдет». В распоряжении больницы не было даже лошади, чтобы доставить врача к больному в случае острой необходимости.
Молодой хирург продолжал составлять истории болезней. За его медицинскую практику их сохранилось несколько сотен. Все они свидетельствовали не только о болезнях и пациентах, но еще больше о враче, для которого не было «медицинских случаев», а были живые страдающие люди.
Вот история болезни крестьянки Елены Я. из Смоленской губернии. Ей было 36 лет, но она уже десять раз рожала. Из десяти детей похоронила семерых. У пациентки был установлен туберкулез. Необходимо было срочное и длительное лечение. Но неожиданно она выписалась из больницы. Казалось бы, врач вправе поставить точку в этой истории, поскольку процент «беглецов» был устойчиво высок и они более в больнице не показывались. Но Валентин Феликсович не успокаивается. Ведь Елена специально добиралась до Переславской больницы, прослышав о хорошем здешнем лечении. И вот она пропала?! Врач наводит справки и спустя несклько дней вносит в историю болезни строку, впрямую не имеющую отношения к его профессиональному долгу, но зато имеющую прямое отношение к его долгу человеческому: «Елена Я. должна была выписаться из больницы потому, что находившаяся у чужих людей ее маленькая дочка умерла». Мать похоронила восьмого умершего своего ребенка и покинула город. Очевидно, теперь ее собственные жизнь и судьба стали ей безразличны…
Валентин Феликсович продолжал заниматься научной работой для решения проблем анестезии. В письме жене от января 1912 года из Москвы, где он находился в очередной научной командировке, писал: «Работа у меня идет отлично, уже исследовал около 25 трупов и нашел важнейший и верный способ анестезирования седалищного нерва. Скажи по телефону Иванову, что я прошу его, если встретится какая-нибудь операция на ноге (на бедре, на голени, на стопе), не делать ее до моего приезда, т. к. хочу испытать новый способ анестезирования седалищного нерва»41.
В 1912 году в годовом отчете главный хирург, хотя и скупо, но отмечает свой опыт регионарной анестезии: «Значительно чаще применялась регионарная анестезия, дававшая блестящие результаты». И приводит цифры, из которых следует, что он применял этот метод в стационаре – в 16 процентах случаев; в амбулатории – в 12 процентах.
Отметим, что Войно-Ясенецкий в Переславле-Залесском, вслед за сложившейся практикой в клинике Дьяконова, решил публиковать ежегодные годовые отчеты о работе в больнице отдельной книгой. Вместе с этими изданиями стали достоянием гласности несколько сотен составленных им историй болезни. Отчеты – несомненно, научный труд, дающий анализ жизни больницы за несколько лет. Не случайно впоследствии в приложении к своей диссертации «Регионарная анестезия» в списке трудов были указаны отчеты о деятельности Переславской больницы.
Но вместе с тем в отчетах как бы открывается для нас внутренняя жизнь страны, такие ее стороны, как самочувствие народа и его обывательская, ежедневная жизнь. Перед нами коллективный портрет в основном сельского жителя. Большинство записей обнажает быт российского мужика: «ушиб ногу упавшим бревном», «ударила в лицо копытом лошадь», «упал с воза», «свалился со стога»… И грыжи – бесчисленные пупочные и паховые грыжи, болезни тяжело работающих людей.
Вместе с тем выделяется и еще одна группа больных, чьи раны – следствие иных обстоятельств, к сожалению, тоже типичных для Российской империи. Читаем эти ужасные строки: «В праздник получил удар колом по голове», «тесть ткнул вилами в бок», «пьяный сам упал с крыльца», «на Петров день получил удар в грудь ножом», «ранен топором в голову»… Или так: «Егор О., 36 лет, из д. Большево Петровской волости. Сильно пьянствовал, но в последнее время бросил пить. Несколько дней был очень задумчив, тосковал, не спал по ночам… В шесть часов вечера перерезал себе горло кухонным ножом, затем бросился бежать по деревне и упал, истекая кровью».
За этими «колами и вилами», «ножами и топорами» проступает нечто страшное, омерзительное, пугающее в жизни народа…
В декабре 1912 года главный врач Переславской больницы докладывал о своих достижениях на IX съезде российских хирургов в Москве. Он представил научному сообществу свой метод блокады седалищного нерва, то есть указал точку, в которую нужно вводить анестезирующий раствор. Впоследствии ее стали называть точкой Войно-Ясенецкого.
Валентин Феликсович неустанно хлопотал о необходимых изменениях в состоянии больницы. В отчете о ее деятельности за 1912–1913 годы он указывал: «Электрическое освещение операционной… не является предметом роскоши, как может показаться на первый взгляд: освещение операционной керосиновыми и спиртовыми лампами подвергает большой опасности оперируемого больного, всех участников операции, т. к. от соединения паров хлороформа с газообразными продуктами горения керосина и спирта образуется очень ядовитый газ, хлорокись углерода, белые пары которого наполняют всю операционную, вызывают очень быстро у находящихся в ней тяжелую головную боль, кашель, обмороки, а иногда и смерть больного»42.
Ему удавалось буквально выбивать от земства деньги на нужды больницы, на увеличение штата, улучшение условий работы персонала и содержания больных, ремонт. Земская управа, хотя и не без упрямства, соглашалась с предложениями своего главного врача. Удалось построить инфекционный корпус, прачечную и дезинфекционную камеру, провели капитальный ремонт хирургического отделения и открыли рентгеновский кабинет.
В 1913 году Войно-Ясенецкий предпринял решительные действия для завершения процесса защиты диссертации на звание доктора медицинских наук. Сначала, в январе – феврале, свой отпуск он в очередной раз провел в Москве, работая в Институте профессора Рейна и профессора Карузина, исследуя 300 черепов и найдя очень ценный способ инъекции при обезболивании тройничного нерва. Затем, в конце года, получив трехмесячную командировку, направился в Киевский университет, чтобы сдать докторские экзамены. Возвратившись в Переславль, продолжил работать над завершением диссертации.
С началом Первой мировой войны (1914 год) к возглавляемым им городской, фабричной и уездной больницам добавился военный госпиталь, где лечили раненых пленных. В военное время стало не до изменений больничной жизни. Многое из планировавшегося приходилось откладывать «на потом», но было и то, что, по мнению главврача, необходимо сделать несмотря ни на что:
«Многие из тех нужд больницы, на которые указывали я и мои предшественники… остаются до сих пор неудовлетворенными, но по условиям военного времени не обо всех их уместно говорить. Есть, однако, одна нужда, поистине вопиющая и удовлетворить ее необходимо…
Я говорю о нетерпимом состоянии больничной ассенизации… абсолютно необходимо приобрести для больницы насос и пневматическую бочку, завести лошадь, которая, кстати сказать, и без того крайне необходима для больницы, и держать собственного рабочего ассенизатора.
…В больнице буквально нельзя дышать от зловония во время чуть ли не ежедневной… примитивной чистки ям и необходимости постоянно держать закрытыми окна терапевтического и хирургического отделения, выходящие на восточную часть двора»43.
К сожалению, и в этот раз положение не изменилось. К тому же военный ритм накрыл больницу. Несмотря на то, что ряд сотрудников был призван в армию, создан лазарет, через который прошло около ста раненых, в том числе и военнопленных.
…Летом 2022 года в период подготовки книги автор побывал в Переславле-Залесском, посетил места, связанные с пребыванием в нем В. Ф. Войно-Ясенецкого. К сожалению, бывшая земская больница, окружающие здания и территория оставляют впечатление заброшенности и неухоженности, запущенности и захламленности; чувствовалось, что здесь редко ступает нога человека. Почему-то в ближайшей округе нет никакого указателя, а расспросы встречных заканчивались одним и тем же: «не знаю». Хорошо хоть на стене здания в 2001 году установлена и сохранилась памятная доска, сообщавшая: «Здесь, в бывшей земской больнице, в 1910–1916 годах работал главным врачом и хирургом профессор медицины, святитель Лука, архиепископ Крымский (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий). 27.04.1877 – 11.06. 1961». Да-да! Всё с той же неверной датой рождения! Кстати, и работал-то он в больнице как минимум до февраля 1917 года! И покинул город в марте 1917-го!
Упорство и устремленность Войно-Ясенецкого завершились изданием в 1915 году в Петрограде его монографии «Регионарная анестезия», с авторскими иллюстрациями. Она не только знакомила хирургов с личным опытом врача, какого не было в этом виде обезболивания ни у кого из хирургов России, но и служила в качестве диссертационного исследования, что было обозначено на титульном листе части тиража: «Диссертация на степень доктора медицины».
В предисловии автор писал: «…Я хотел надеяться, что книга станет известной моим… товарищам и поможет им успешно удовлетворять те огромные запросы на хирургическую помощь, которые так настойчиво предъявляет им жизнь… Внимание земских врачей было бы для меня лучшей наградой за положенный на нее труд и важнейшим оправданием в большой трате времени на нее».
Публичный диспут по поводу защиты диссертации состоялся 30 апреля 1916 года в одной из аудиторий Анатомического института медицинского факультета Моcковского университета. Официальными оппонентами выступили профессора Московского университета А. В. Мартынов (1868–1934) и П. И. Карузин (1864–1939).
В отзыве первого оппонента говорилось: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе; и научная ценность их невелика. Но когда я читал Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее»44.
О впечатлении второго оппонента сам В. Ф. Войно-Ясенецкий вспоминал впоследствии: «профессор П. И. Карузин очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая мою руку, усердно просил прощения в том, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранятся черепа, и не подозревал, что там создается такая блестящая работа»45.
13 мая состоялось заседание Университетского совета, утвердившего решение медицинского факультета о присвоении земскому врачу Войно-Ясенецкому степени доктора медицины, а 10 июня Валентин Феликсович стал обладателем диплома, выданного Московским университетом. Он стал доктором медицинских наук, впервые в мире теоретически обосновавшим и успешно применившим в своей хирургической практике регионарную анестезию. Он же первым использовал местную анестезию в сложнейших нейрохирургических операциях на головном мозге.
И спустя полвека о диссертации В. Ф. Войно-Ясенецкого можно было прочитать в различных медицинских изданиях самые высокие отзывы. К примеру, доктор А. А. Зыков в обобщающей работе «Очерки развития местного обезболивания в СССР» (М., 1954) писал: «Во всех работах Войно-Ясенецкого подкупает математическая точность его исследований и наглядность доказательства, благодаря хорошим анатомическим иллюстрациям… Значение книги Войно-Ясенецкого для русской хирургии велико. Эта книга не только знакомила с существом регионарного обезболивания, но и давала правильную критическую оценку существовавших методов… Для практических врачей эта книга являлась руководством к действию».
Высоко оценил эту работу и Варшавский университет (с 1917 года Донской, поскольку в годы войны был эвакуирован в Ростов-на-Дону), который в 1916 году объявил конкурс на лучшее сочинение по популярной медицине. Монография по регионарной анестезии поступила в университет по обычной рассылке докторских диссертаций и была принята Советом университета для участия в конкурсе. Валентину Феликсовичу были присуждены золотая медаль и денежная премия имени Хойнацкого, которую обычно получали ученые, прокладывавшие новые пути в медицине. Правда, денег он не получил по совершенно нелепой причине: он не смог представить необходимое число книг (150 экземпляров), поскольку весь тираж составлял 750 экземпляров и все они были мгновенно раскуплены, а у автора осталось лишь несколько книг.
За время проживания в Переславле семья сменила несколько квартир. Наиболее известная – большой деревянный дом помещицы Лилеевой на улице Троицкой, недалеко от земской больницы.
Войно-Ясенецкий служил беззаветно своим больным, и времени на семейную жизнь у него оставалось очень и очень мало. Можно сказать, что «устав» семейной жизни был почти аскетическим. В восемь часов утра глава семейства завтракал в одиночестве. В половине девятого больничный кучер Александр подавал к дому главного врача экипаж. Расстояние до больницы небольшое – около версты, но и это время врач не упускал. Он брал с собой 15–20 карточек с немецкими и французскими словами и учил их по дороге.
На обед приезжал домой, чаще всего был молчалив или читал книгу. После обеда принимал больных на дому. После вечернего самовара уходил в свой кабинет, где работал: читал, пока весь керосин в лампе не выгорит. Бывало, Войно-Ясенецкого вызывали в больницу ночью. Он одевался и уходил.
Гости в доме бывали нечасто, да и сами Войно-Ясенецкие особенно не разъезжали. Пожалуй, чаще других приходили сослуживцы по больнице. Раз в месяц приезжала игуменья Феодоровского монастыря, как говорится, «чайку попить» и с благодарностью, поскольку Войно-Ясенецкий в 1911–1916 годах безвозмездно врачевал сестер, духовенство и членов их семей, проживавших в монастыре. Пройдут годы, десятилетия, но доброе дело не забудется. В настоящее время возле Феодоровского монастыря установлен бюст великого врача. А в Введенском храме обители размещена большая икона святителя Луки. Здесь благодарная душа может в молитве высказать свою любовь и почитание, зажечь памятную свечу.
Очень редко всей семьей, в которой в 1913 году случилось пополнение – родился сын, названный в честь папы – Валентином, удавалось выехать на природу, сходить в городской кинематограф. Эти счастливые дни, когда мама и папа были рядом, дети врача-епископа будут вспоминать со слезами на глазах всю жизнь.
Семья жила достаточно скромно. Вина, табака в доме не держали, особых сладостей тоже никогда не было. Единственное, на что денег не жалели, – книги, научные журналы, которых дома было много и с которыми главврач постоянно работал. Кстати, большинство книг в библиотеке врача были искусно переплетены руками Валентина Феликсовича.
В конце пребывания в Переславле Войно-Ясенецкому пришла мысль изложить в отдельной книге свой опыт изучения, диагностики и терапии гнойных заболеваний. Он придумал название: «Очерки гнойной хирургии», составил план книги и написал предисловие к ней. И тогда, к удивлению хирурга, появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Это было настолько несовместимо с той жизнью, которую он вел! Да и в мыслях в то время у Валентина Феликсовича не было становиться священнослужителем. Но все же отметим, что именно в последние годы пребывания в Переславле-Залесском врач Войно-Ясенецкий с большим трудом, но все же нашел возможность бывать в городском соборе, где у него появилось постоянное место. Многие годы историки и краеведы спорят о том, какой конкретно собор имел в виду Войно-Ясенецкий в своей автобиографии. К настоящему времени все большее документальное подтверждение находит версия, что речь шла о соборе Феодора Стратилата, находившемся в Феодоровском женском монастыре.
В годы работы в Переславле к Войно-Ясенецким постоянно приезжали родные и близкие: и в гости, и в связи с болезнями. Всем глава семьи стремился оказать необходимую помощь, некоторых даже сам оперировал. В начале 1917 года приехала старшая сестра Анны Васильевны, подавленная незадолго до этого случившейся смертью горячо любимой дочери. С собой она мало что привезла, пожалуй, лишь одеяло, под которым умирала ее дочь от скоротечной чахотки. Узнав об этом, Валентин Феликсович сказал супруге: «Анна, в этом одеяле она привезла нам смерть. Необходимо избавиться от него».
Трудно определить, совпадение это или нет, но вскоре после отъезда сестры Анна Васильевна начала недомогать: обнаружены были первые признаки туберкулеза легких. Создавалась опасность и для детей.
А тут еще и февраль 1917-го!
…Рубеж 1916/17 года – тягостное время для Российской империи: военные поражения, разрушение экономики, обнищание населения, нехватка продуктов питания, забастовки. Тягостным оно было и для Православной церкви. Вместе с ослаблением своего «исторического союзника» – монархии – угасала и она, ощущая на себе волны недовольства, озлобления и ожесточения верующих. По меткому выражению лидера кадетской партии П. Н. Милюкова, «атмосфера насыщена электричеством, все чувствуют приближение грозы, и никто не знает, куда упадет удар». И удар последовал и пал на лицо, которое многие считали одним из главных виновников маразма, разъедавшего царский двор.
В ночь на 17 декабря 1916 года был убит фаворит царской семьи старец Григорий Распутин. В обществе смерть «царского Друга» воспринималась как национальная победа, люди на улицах обнимались и поздравляли друг друга. В высших кругах, особенно в Государственной думе, в политических партиях, почти открыто говорили о зреющем дворцовом перевороте в пользу несовершеннолетнего наследника Алексея с регентством со стороны великого князя Михаила Александровича. И это воспринималось как второй возможный удар судьбы по дряхлеющему на глазах зданию абсолютистской монархии.
Почти физически ощущалось разложение власти, ее неспособность предотвратить надвигающуюся катастрофу, утрата ею остатков авторитета в российском обществе. В этой агонии власть лихорадочно искала «виновников» внутреннего разложения общества, тех, кто препятствовал, по ее мнению, укреплению патриотического духа в борьбе с внешним врагом – Германией и ее союзниками. По стране прокатилась волна погромов против еврейского и немецкого населения, «сектантов всякого рода», выходцев из стран, входящих в воюющий с Россией блок. Были арестованы или высланы из страны многие лидеры протестантских церквей и общин, закрыты молитвенные дома; вводился запрет на распространение неправославной религиозной литературы.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе