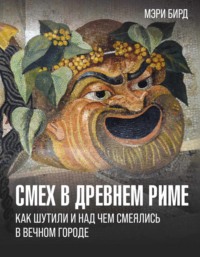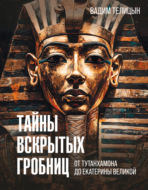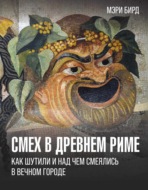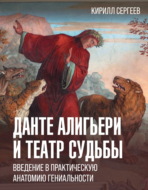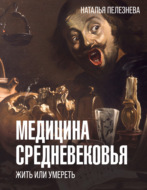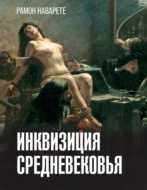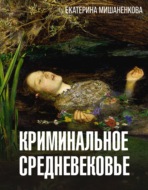Читать книгу: «Смех в Древнем Риме. Как шутили и над чем смеялись в Вечном городе», страница 6
Смех других
Еще одна сложность заключается в том, что объекты смеха, его характер и вкладываемый в него смысл разнятся от культуры к культуре. Какими бы универсальными ни были психологические основы смеха, представители разных сообществ в разных частях мира в силу своего воспитания смеются над разными вещами и в разных ситуациях (любой, кто пытался рассмешить аудиторию на зарубежной конференции, с готовностью это подтвердит). Важно и то, как люди смеются и какими жестами сопровождают свой смех. Нас вовсе не удивляет то, что люди другой культуры смеются иначе, – напротив, это часть наших стереотипных представлений о них. Даже самые искушенные теоретики склонны к скоропалительным выводам на этот счет. Ницше считал вполне естественным то, что Гоббс недолюбливает смех («очерняя его» или, в другом переводе, «приписывая смеху сомнительную репутацию»), – ведь Гоббс англичанин [77].
Классический пример из антропологии – смех пигмеев из леса Итури на территории Демократической Республики Конго. Как пишет Мэри Дуглас, пигмеи не просто «смешливы» по сравнению с другими более суровыми и церемонными племенами, но и сама их манера смеяться весьма необычна: «Они ложатся навзничь и сучат ногами в воздухе, пыхтя и сотрясаясь в пароксизмах смеха» [78]. Нам такое поведение кажется чересчур экстравагантным и наигранным, но оно так глубоко укоренилось в культуре пигмеев, что стало для них вполне «естественным».
Однако все не так просто. Это описание пигмеев ставит перед нами ряд каверзных вопросов о природе и культуре смеха, возвращая нас к проблемам анализа и интерпретации литературных источников, которые мы затронули в первой главе. Смех пигмеев и сопровождающие его пароксизмы – это излюбленное прибежище исследователей, наглядный пример культурного разнообразия в области смеха. Но какими свидетельствами мы располагаем? Насколько мне известно, есть лишь один источник этих сведений – бестселлер «Лесные люди» автора популярных книг по антропологии Колина Тернбулла. В нем он излагает весьма романтический взгляд на пигмеев: это счастливый, открытый, добродушный народ, ведущий безмятежную, идиллическую жизнь в гармонии со своим экзотическим лесом (в отличие от неприветливых, угрюмых горных племен центральной Уганды, о которых он пишет в другой книге). Безудержный смех – лишь одна из черт веселого нрава представителей этого народа. «Когда пигмеи смеются, трудно оставаться безучастным, – пишет он, – они хватаются друг за друга, как будто не в силах устоять на ногах, шлепают себя по бокам, щелкают пальцами, корчатся и бьются в припадках хохота. А если что-то особенно рассмешит их, то даже катаются по земле». Тернбулл был «субъективен, пристрастен и наивен», и вряд ли его взгляд на культуру пигмеев заслуживает доверия. Насколько он ненадежен в качестве источника, мы вряд ли когда-либо узнаем, но гораздо интереснее другое – почему на свидетельства Тернбулла о смехе пигмеев так часто ссылаются, причем даже ученые уровня Мэри Дуглас, которых вряд ли занимает мнение антропологов такого пошиба по другим вопросам [79].
Отчасти, надо полагать, это объясняется тем, что даже самые здравомыслящие из нас не желают расставаться с ярким образом счастливых малюток-пигмеев, брыкающих ногами в воздухе, несмотря на весь скептицизм в отношении этнографических наблюдений Тернбулла (между прочим, в своем описании он не упоминает о брыкании ногами). Но есть и другие причины, лежащие в плоскости научного дискурса. Дело в том, что рассказы о поведении пигмеев, многократно повторяемые и тиражируемые, уже не имеют почти никакого отношения к тому, как в действительности ведут или вели себя раньше реальные люди из леса Итури, и тем более – к причинам и следствиям их смеха. Их история стала литературным клише, стереотипным итогом наших опосредованных умозаключений о смехе, чрезвычайно наглядной иллюстрацией идеи о том, что иностранцы смеются иначе. Пигмеи занимают крайнее положение на шкале наших представлений о культурно обусловленном смехе, в то время как на другом ее конце располагается пресловутый лорд Честерфилд – воплощение идеи о тотальном контроле над смехом [80]. В представлении Ницше англичане тяготеют к «честерфилдовскому» концу спектра, из чего понятно, насколько культурно обусловлена сама эта градация. Поневоле напрашивается вопрос: что бы пигмеи сказали о Тернбулле и его манере смеяться?
«Смеются ли собаки?»: риторика и образность
Исследования смеха – как в наши дни, так и в прошлом – неразрывно связаны с литературной репрезентацией, дискурсивной практикой, образностью и метафорой. Они неизменно приводят нас к вопросу о том, где проходит граница между буквальным и метафорическим смехом, и о том, как первый соотносится со вторым. Иногда истолковать метафорическое значение относительно несложно. Если, к примеру, римский поэт называет «смеющимися» («ridere») блики солнца на воде или наполненный цветами дом, это обычно воспринимается скорее как метафора радости, которой лучатся эти образы, а не как изощренный намек на этимологию этого глагола или его греческого эквивалента [81]. Но метафорическую составляющую можно найти и в некоторых, казалось бы, сугубо научных и прикладных рассуждениях о смехе. Нигде это не проявляется с такой очевидностью (хоть часто и остается без внимания), как в старом вопросе, поставленном еще Аристотелем: действительно ли человек – это единственное животное, которое смеется?
Споры об этом не утихают в научных кругах по меньшей мере со времен Чарльза Дарвина, который по очевидным причинам настаивал на том, что реакция шимпанзе на щекотку напоминает смех. Исследователи более позднего времени отмечали характерную мимику – «расслабленно-открытый рот» и «игровую мину» – у развлекающихся приматов, а некоторые из них даже утверждали, что шимпанзе и гориллы способны шутить и «каламбурить» на своем рудиментарном жестовом языке. Некоторые биологи, не говоря уже об увлеченных собаководах, верят в существование «собачьего смеха» (именно это побудило Мэри Дуглас написать ее знаменитую статью «Смеются ли собаки?»). Другие же полагают, что попискивание, которое издают крысы в ответ на щекотку, – это зачаточная форма смеха (утверждается, что одна из наиболее чувствительных к щекотке зон – это область загривка, хотя крысы активно пищат и когда их щекочут «целиком») [82].
Неудивительно, что эти выводы нередко оспаривались с множества различных позиций. «Смех» приматов, например, отличается от человеческого с точки зрения артикуляции. Люди производят свое характерное «ха-ха-ха» на едином выдохе, за которым следует перерыв для вдоха. У приматов наблюдается нечто иное: они издают что-то вроде пыхтения, вокализируя его как на вдохе, так и на выдохе. Может быть, это, как считают некоторые, лишь один из вариантов той же реакции? Или все-таки мы имеем дело с принципиальным отличием и звук, издаваемый приматами, – это вообще не смех в нашем понимании? Писк крыс (частота которого в некоторых случаях так высока, что он неразличим для человеческого слуха) вызывает еще больше сомнений, и в этом случае многие специалисты вообще отрицают какое-либо родство с человеческим смехом [83]. Но даже если мы признаем, что во всех этих процессах задействованы схожие нейронные пути и что между попискиванием крыс и человеческим хихиканием по крайней мере есть эволюционные связи, остается гораздо более насущный вопрос, который почти всегда обходят стороной: если мы решим, что собаки, или обезьяны, или крысы «смеются», что это будет значить для нас?
Большинство из нас согласится с тем, что заядлые собаководы, обнаруживая у своих питомцев признаки смеха, склонны очеловечивать их и видеть в животных членов социума, проецируя на них ключевое свойство человека – способность смеяться. Как писал Роджер Скрутон, несколько иначе расставляя акценты, «смех» гиен друг над другом – это выражение не их веселья, а нашего собственного [84]. Но даже экспериментальная наука, с ее стремлением к строгим определениям, затрудняется сказать, где заканчивается смех как метоним человеческой природы и где начинается смех как физическая и биологическая реакция. Четкая граница между природой и культурой вновь оказывается размытой. Ведь утверждение о том, что крыса может «смеяться», всегда подразумевает нечто большее в отношении биологического вида в целом и наших взаимоотношений с ним, чем простое принятие факта, что нейроны в крысином мозгу работают как-то особенно. Любое исследование смеха неизбежно поднимает вопрос о языке смеха, о нашем культурном и социальном миропорядке, в котором смех играет столь ключевую роль.
Это лишь некоторые из тех загадок, которые, с моей точки зрения, делают изучение смеха вообще столь увлекательным занятием. Продвижение по этому пути одновременно обогащает и разочаровывает, открывает глаза и сбивает с толку. А уж когда мы обращаемся к исследованиям смеха прошлых эпох, отголоски которого едва долетают до нас, эти загадки становятся еще более интригующими. Каким образом спорные границы между природой и культурой, между риторическими и физическими проявлениями смеха влияют на наше понимание смеха в истории? И что, собственно, нас интересует? Вопрос о том, что заставляло людей смеяться? Или о социальных, культурных и политических следствиях смеха? О его функции? Или о том, как о нем рассуждали, спорили и чем объясняли его?
В следующей главе я очерчу круг вопросов, которые задают направление любому историческому исследованию на тему смеха, будь то смех римлян или кого-то еще, и поделюсь своими (критическими) размышлениями о наследии последнего в череде упомянутых в этой книге теоретиков – Михаила Бахтина. Автору книги, посвященной хохоту древних, просто непозволительно обойти вниманием этого ученого. Его идеи лежат в основе многих попыток рассказать историю о том, как эволюционировали культурные шаблоны в области смеха начиная со Средних веков. Однако наследие Бахтина повлияло и на изучение Античности. В главе 4 я продолжу разбор некоторых основополагающих принципов, которые определяют наши подходы к изучению смеха древних римлян. В частности, я остановлюсь на щекотливом вопросе о том, где проходит граница между греческим и римским смехом (gelos и risus).
Глава 3
История смеха
Существует ли история смеха?
Мы можем с уверенностью сказать, что человек смеялся всегда. Но допустимо ли предполагать, что люди прошлого смеялись иначе, чем мы? Если да, то как? И, что не менее важно, – как нам об этом узнать? Бегло познакомившись с двумя примерами из первой главы, мы имели возможность убедиться, сколь увлекательны, хотя подчас и бесплодны, могут быть попытки разобраться в причинах смеха римлян. В этой главе я более пристально рассмотрю обозначенные нами проблемы, опираясь на более широкий круг римских источников. Мы увидим, какую изобретательность проявляют ученые, внося коррективы в содержание римских шуток, чтобы они звучали смешнее (с точки зрения современного человека). А также вкратце остановимся на чрезвычайно сложной проблеме визуальных образов. Как распознать в том или ином изображении смеющееся лицо? Это отнюдь не так просто, как кажется. И как определить, какие картины могли рассмешить римлян и что это были за римляне?
В своих размышлениях я буду выходить за рамки античного периода и ставить более общие вопросы о том, как поместить в исторический контекст усмешки, ухмылки, хихиканье и гоготание наших предков. На самом деле, попытки проследить историю смеха предпринимаются уже очень давно. Еще в 1858 году Александр Герцен сделал замечание, которое любят повторять и современные исследователи: «Написать историю смеха было бы чрезвычайно интересно» [1]. Без сомнения, это так, но только предметная область такого исследования с трудом поддается определению. Идет ли речь о развитии теории смеха, о методологии и правилах, по которым (или вопреки которым) она складывалась? Или нам следует сосредоточить внимание на гораздо более зыбком и ускользающем из рук предмете – собственно на смехе людей прошлого? А может быть, надо рассматривать запутанный клубок из двух этих тем в совокупности? [2]
Какого рода исторические трансформации мы надеемся проследить? Здесь мы не можем обойти вниманием труды еще одного исследователя культуры смеха – российского теоретика Михаила Бахтина. По значимости и новизне своего вклада в изучение смеха Бахтин сопоставим с Зигмундом Фрейдом, но он, к сожалению, ввел в оборот ряд досадных мифов о смехе римлян, которые мне придется развенчать. В то же время наследие Бахтина ставит перед нами более глобальные вопросы о подходах к описанию и интерпретации долгосрочных исторических процессов в нашей предметной области. Что именно мы имеем в виду, говоря, что смех людей меняется от века к веку? Я полагаю, что мы вполне способны пролить свет на историю смеха, подойти к этому явлению с позиций исторической науки (иначе какой смысл в написании этой книги?), но при этом линейная история смеха – такая же утопия, как и универсальная теория смеха. Скажу больше – многие так называемые истории смеха на поверку оказываются тенденциозными рассуждениями о прогрессе человеческого общества и смягчении нравов. Размышляя о своих предшественниках, римляне нередко указывали на то, что в их смехе было больше грубости и скабрезности, чем в их собственном. Тем самым они создавали версию истории, в которой смех свидетельствовал о движении от варварства к цивилизованности. В этом отношении мы не слишком отличаемся от них.
За отправную точку я возьму знаменитую лекцию историка Кита Томаса о месте смеха в Англии в период правления Тюдоров и Стюартов. Эта лекция, прочитанная в декабре 1976 года и опубликованная лишь в одном еженедельнике, стала поистине программной и оказала огромное влияние на подходы к истории смеха, особенно в англоговорящих странах [3].3
Смех прошлого
Томас поставил фундаментальный вопрос: «Почему, – спрашивал он свою аудиторию, – смех должен занимать историков», а не только социальных антропологов, литературных критиков и психологов? По его убеждению – потому, что «изучать смех наших предков, вчитываться в их тексты до тех пор, пока мы не начнем слышать не только их голоса, но и их смех, – значит искать ключ к пониманию того, как меняется человеческое восприятие».
Задача, которую обозначил Томас, столь же важна, сколь и невыполнима. Невыполнима, разумеется, в том смысле, что как бы упорно мы ни читали классиков, мы не сможем «услышать их смех» (впрочем, как и их голоса), если речь идет о людях, живших раньше конца XIX века. Утверждая обратное, пусть даже в переносном смысле, мы рискуем впасть в самообман. Что касается важности этой задачи, она не менее очевидна. Само собой разумеется, что мы могли бы более точно и «смачно» описать любое общество прошлого, если бы понимали его правила и практики в области смеха. Кто, над чем и когда смеялся? Когда смеяться было непозволительно? А в каких случаях и по каким поводам вполне уместно было похохотать?
Давайте рассмотрим пару примеров из жизни римлян. Один писатель периода Империи, рассуждая о хороших манерах во время трапезы, признает, что потешаться над лысыми или носатыми не возбраняется, над слепцами – нельзя ни в коем случае, а люди с дурным дыханием или хроническим насморком попадают в промежуточную категорию. Делать какие-либо выводы о смехе реальных людей, в том числе и римской элиты, на основании подобных правил весьма рискованно. Мы знаем из опыта, что наиболее строгие запреты касаются вещей, которые в силу своей обыденности всегда попадают в поле зрения. Но при этом современные запреты вроде «Не выражаться!» или «Мусор не бросать!» отнюдь не свидетельствуют о том, как в действительности обстоят дела со сквернословием или порядком на улицах. И все же эти нормы ценны для нас как одна из версий этического стандарта римлян в отношении шуток над физическими отклонениями и недостатками – та шкала, с которой они сверялись, определяя, над чем смеяться уместно, а над чем – совершенно недопустимо [4].
Не менее богатую пищу для размышлений дают представления древних о «географии» смеха – различиях в смеховой культуре между разными народами. Подобно современным антропологам, которые приписывают пигмеям склонность к истерическому смеху, римские писатели изображали мир, в котором представители разных народов, стран и городов характеризовались тем, как они смеются, почему и насколько сами достойны осмеяния. Некоторых они раз за разом выставляли в качестве посмешища (такая доля выпала злополучным обитателям древней Абдеры в северной Греции, чья мифическая глупость – подробнее об этом в главе 8 – стала притчей во языцех); другим же вменяли в вину необузданную страсть к легкомысленному веселью и зубоскальству.
Жители египетского города Александрии (в основном греки по происхождению) – были как раз из тех, кто не знал меры в смехе. Оратор и философ Дион Хризостом (Златоуст), обращаясь к александрийцам в конце I или в начале II века н. э., не жалел красноречия, критикуя их пресловутую смешливость. «Будьте же, наконец, серьезны и сосредоточьтесь хоть на минуту, – говорит он вначале. – Ибо вечно у вас в голове одно веселье и легкомыслие; воистину, если и не достает вам чего, то точно не склонности к забавам, потехам и смеху». Далее Дион сравнивает александрийцев с «некоторыми варварами», чей одурелый смех вызывается, как он предполагает, дымом особых благовоний (еще один случай упоминания каннабиса в древнем тексте?). Впрочем, александрийцы достигают того же эффекта без помощи всякой химии, а просто подтрунивая друг над другом – «посредством речи и слуха», по выражению Диона. «Вы валяете дурака почище любых варваров, – бранит он их, – так, что вас даже шатает, словно вы нахлебались вина» [5].
Анализируя культуру германцев, римский историк Тацит, напротив, делает акцент на ее суровости, указывая на то, что некоторые поводы для смеха неведомы варварам. Он отмечает, что в Германии, в отличие от Рима, «nemo… vitia ridet», т. е. «пороки… ни для кого не смешны»17. Разумеется, это замечание – зеркальное отражение нравов и обычаев самих римлян. Подразумевается, что германцы в своей первобытной наивности воспринимают пороки слишком серьезно, чтобы относиться к ним как поводу для смеха [6].
Я далека от мысли, что в среде римской элиты существовал набор готовых клише о том, как смеются люди, живущие в разных областях империи и за ее пределами. Сильно сомневаюсь я и в том, что вообще возможно провести географические границы между смеховыми культурами народов римского мира. Однако очевидно, что смех был точкой привязки – надо признать, весьма зыбкой и ненадежной – в системе координат, с которой соотносились римляне, чтобы определять культурные различия и (порой критически) характеризовать самих себя.
В то же время, опираясь на эти «классические примеры», мы рискуем чрезмерно упростить историю смеха. Ибо по мере того, как мы отходим от правил этикета и моральных наставлений и становимся на шаг ближе к тому, что Томас определял как умение «слышать» смех древних, наш предмет становится все туманнее. Два эпизода, открывающие эту книгу, иллюстрируют мой следующий тезис. Попытки разобраться в ситуациях, шутках, эмоциях или словах, вызывавших (или возможно вызывавших) смех, неизбежно сталкивают нас с главной дилеммой любого исторического исследования: насколько мир прошлого чужд или близок нам? Насколько он нам понятен? Как сильно культурный опыт историка искажает его восприятие, заставляя видеть в реалиях чужой жизни слишком много знакомых черт? Когда дело доходит до изучения смеха, эти вопросы встают особенно остро: если смех наших современных соседей по ту сторону границы кажется порой столь непостижимым, то что говорить о смехе тех, с кем нас разделяют столетия?
Совсем необязательно углубляться в прошлое на два тысячелетия, чтобы эти проблемы стали очевидными. Любой, кому доводилось читать газетные репортажи XIX века о дебатах и заседаниях, знает, что журналисты того времени считали своим долгом методично протоколировать смех. Их отчеты пестрят ремарками вроде «Смех», «Продолжительный смех», «Приглушенный смех» и часто оставляют читателя в недоумении относительно причин веселья и колебаний его интенсивности. Проблема не только в отсылках к давно позабытому нами контексту или в невозможности оценить язык тела и визуальную составляющую шуток. Мы имеем дело с целым набором поразительно чуждых нам и порой весьма загадочных условностей, которые заставляли людей смеяться по определенным поводам и в определенных случаях.
Ранее мы убедились, что вполне способны сопереживать Диону, который давился смехом в Колизее много столетий назад. Шутки тоже порой доходят до нас сквозь века, и смысл некоторых из них относительно прозрачен – смех древних загадочен не всегда. Но как ни парадоксально, заезженность некоторых древних шуток – тоже своего рода загадка. В сатирическом романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) Марк Твен прохаживается по поводу допотопности древних анекдотов (нынешняя популярность романа забавным образом свидетельствует о том, что поднятая в нем тема остается актуальной и более ста лет спустя после его публикации). Герой романа, которого временной вихрь забросил на много столетий назад в легендарный Камелот короля Артура, слушая выступление придворного остряка, сэра Дайнадэна, выносит такое суждение: «Никогда в своей жизни я не слышал столько избитых шуток. <…> Как грустно было сидеть тут за тринадцать сотен лет до своего рождения и снова слушать жалкие, плоские, изъеденные червями остроты, от которых меня уже коробило тринадцать столетий спустя, когда я был маленьким мальчиком. Я почти пришел к убеждению, что новую остроту выдумать невозможно. Все смеялись этим древним шуткам, но что поделаешь, древним шуткам смеются всегда и везде, я уже заметил это много столетий спустя»18[7]. В конце этой книги у нас еще будет случай поразмышлять о способности (или неспособности) некоторых римских шуток, написанных более двух тысячелетий назад, вызывать смех. Значит ли это, что его психологические механизмы универсальны? Или мы просто научились смеяться в ответ на эти шутки? А может, мы унаследовали у древних – разумеется, на подсознательном уровне – некоторые из правил и условностей смеха?
Таким образом, вопрос не в том, понятен нам или чужд смех людей прошлого, а в том, как провести границу между понятными и чуждыми нам элементами, которые в той или иной степени присутствуют в нем. Мы постоянно рискуем впасть в одну из крайностей: либо преувеличить непонятность их смеха, либо поддаться соблазну увидеть в нем слишком много привычного.
В большинстве своем антиковеды всегда придерживались мнения, что пропасть между нами и древними вовсе не так велика, и всеми силами стремились ее преодолеть. Отсюда их неустанные попытки понять и объяснить комический эффект древних пьес, шуток, анекдотов и острот, разбросанных по страницам римской литературы. Порой им приходилось «поправлять» – и, что греха таить, фактически переписывать – древние тексты, чтобы донести до нас смысл содержащихся в них шуток. Не стоит осуждать их за эти отчаянные попытки. Значительные расхождения между древним оригиналом и многократно переписанной копией, дошедшей до современного читателя, практически неизбежны. Средневековые монахи, которые вручную переписывали огромное множество произведений античной литературы, могли допускать массу неточностей, особенно если не до конца понимали смысл того, что они копируют, и не осознавали важности этой работы. Как и сложные римские цифры, которые неизменно искажались при переписывании, шутки тоже были в зоне риска. Некоторые ошибки бросаются в глаза. Например, один особенно бестолковый переписчик, снимая копию с рассуждений о смехе во второй книге трактата Цицерона «Об ораторе», систематически заменял слово «iocus» («шутка») на «locus» («место» в книге). Одним росчерком пера он удалил все упоминания о смехе, но эта ошибка была настолько очевидной, что обнаружить и исправить ее не составило труда [8].
Однако в других случаях требовалась изрядная находчивость. В шестой книге «Наставлений оратору» Квинтилиан (писавший во II веке н. э.) также обращается к роли смеха в арсенале оратора. В тексте, который есть в нашем распоряжении, – это смесь из копий рукописи и накопившихся в течение веков редакторских правок – многие примеры острот кажутся в лучшем случае бесцветными, а в худшем – производят впечатление бессмыслицы, которая едва ли может принадлежать перу Квинтилиана. В своем примечательном исследовании Чарльз Мурджиа утверждает, что ему удалось до некоторой степени восстановить смысл некоторых ключевых мест. Благодаря его искусной реконструкции оригинала мы, хочется верить, вновь обрели утраченные шутки и каламбуры на латыни. Но мне вновь не дает покоя вопрос: чьи это шутки? Действительно ли Мурждиа привел римские остроты в изначальный вид или просто подредактировал латинский текст, чтобы шутки зазвучали современно? [9]
Хорошее представление о технических сложностях и многочисленных факторах неопределенности при реконструкции древних острот можно получить на примере отрывка из диалога, который Квинтилиан приводит в качестве примера удачной шутки. Он происходит между обвинителем и подсудимым по имени Гиспон, чья находчивость, по мнению Квинтилиана, должна восхитить читателя. В последнем английском печатном издании «Наставлений оратору» предлагается такой вариант: «Когда Гиспону предъявили обвинение в злодейских преступлениях, он сказал обвинителю: “По себе меня меришь?”» На латыни это звучит так: «Ut Hispo obicienti atrociora crimina accusatori, “me ex te metiris?”» [10] На самом деле этот «оригинал» – плод трудов современных исследователей, пытавшихся «улучшить» то, что сохранилось в рукописях. Слово «atrociora» («злодейских») заняло место бессмысленного в этом контексте «arbore» («дерево») из рукописных версий. «Metiris» («меришь», форма глагола «metiri») появилось взамен слова «mentis» (предположительно, искаженная личная форма глагола «mentiri» [ «лгать»] с буквой «n» в корне). И, наконец, фраза «me ex te» («по себе меня») добавлена редакторами, чтобы придать этому предложению смысловую законченность [11]. Однако приходится признать, что даже после внесения таких улучшений ответ Гиспона звучит не особенно смешно. В своем варианте Мурджиа не только возвращается к рукописной версии, но и достраивает ее. В его интерпретации прокурор излагает суть дела «на языке, исковерканном варваризмами» («obicienti barbare crimina accusatori» – Мурджиа заменяет «arbore» на «barbare», а не «atrociora»). Гиспон парирует безграмотное обвинение столь же безграмотным ответом (тем самым словом «mentis» из оригинальной рукописи), чем и вызывает хохот публики. «Твоя врать», – примерно так звучит его ответ в варианте Мурджиа. «Mentis» – намеренно неуклюжая форма действительного залога, тогда как в данном случае следует использовать форму страдательного залога – «mentiris». В таком виде ответ Гиспона звучит гораздо остроумнее: он бросает прокурору ответное обвинение, передразнивая при этом его корявую латынь [12].
Но это ли написал Квинтилиан? Трудно полностью избавиться от подозрения, что Мурджиа всего лишь ловко изменил традиционную версию текста Квинтилиана, чтобы сделать его смешным для современников. Слово «mentis» («твоя врать») соответствует рукописи и не вызывает сомнений, но что касается фразы «на языке, исковерканном варваризмами» – тут все сложнее. Единственный аргумент в ее пользу состоит в том, что она вписывается в шутку, которая звучит достаточно правдоподобно для нас с вами [13]. Может быть, даже чересчур правдоподобно. Возможно, шутка Гиспона действительно была плоской (по нашим современным понятиям), но при этом вполне могла вызывать смех римлян по причинам, нам не известным. А может, Квинтилиана подвело чувство юмора, и эта острота вовсе была несмешной для большинства его современников?
Вообще говоря, один из предметов, которые историки и теоретики смеха чаще всего обходят вниманием, – это «плохие шутки» (римляне обычно использовали слово «frigidus» – «холодная шутка»). При этом, как справедливо заметил Твен, в повседневной жизни преобладают именно они. Важно и то, что, отталкиваясь от них, мы определяем стандарты качества в области смеха, а значит, плохие шутки могут рассказать нам об истории и культуре самого явления ничуть не меньше, чем «хорошие».
В недавнем масштабном исследовании «смешных слов» в комедиях Плавта (знаменитого предшественника Теренция, который писал в конце III – начале II века до н. э.) Майкл Фонтейн поставил еще более амбициозные цели, чем Мурджиа [14]. Идеей Фонтейна было спасти от забвения каламбуры, разбросанные по этим пьесам; причем не только те из них, которые проглядели нерадивые средневековые монахи, но и те, которые, по его утверждению, потерялись еще во времена Античности – практически сразу после того, как пьесы были записаны [15]. Он воскрешает некоторые красочные – и, надо сказать, весьма забавные – моменты в комедиях Плавта. Приведем здесь один из самых простых примеров. В комедии «Канат» персонаж, который выбился из сил, пытаясь выбраться на берег после кораблекрушения, сетует, что «замерз» – «algeo». Фонтейн предполагает, что в этом восклицании содержится каламбур, в основе которого латинское слово «alga» – «водоросль». Оно намекает на то, что страдалец с ног до головы «покрыт водорослями», и Фонтейн высказывает догадку, что, возможно, для усиления комического эффекта актер был действительно наряжен в костюм из водорослей [16].
Кто знает? Как и многое другое в книге Фонтейна, эта догадка свидетельствует об обширных знаниях, живом воображении и остроумии автора. Но справедливо ли утверждать, что Фонтейн пробуждает к жизни шутки, которые (по выражению одного из критиков) «веками… пребывали в спячке» [17], или разумнее предположить, что все это выдумки, рассчитанные на современную публику? Трудно сказать наверняка. Замечу лишь, что это подводит нас к проблеме критериев, на основе которых мы могли бы определить, какие строчки древней пьесы с наибольшей вероятностью вызывали смех публики. Как часто смея-лись зрители римской комедии и почему? Ответы на эти вопросы отнюдь не очевидны.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе