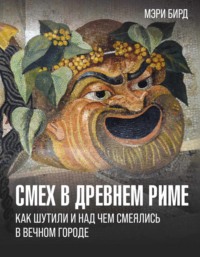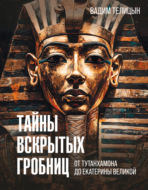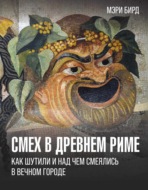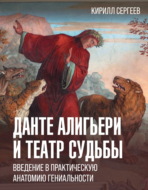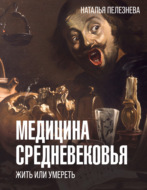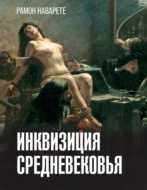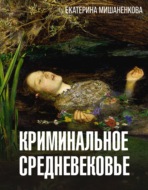Читать книгу: «Смех в Древнем Риме. Как шутили и над чем смеялись в Вечном городе», страница 5
«Три теории смеха»
Многообразие современной литературы о смехе поистине обес-кураживает. Только в моей университетской библиотеке содержится более ста пятидесяти англоязычных книг, изданных в первой декаде XXI века, в названиях которых так или иначе фигурирует смех. Даже если отложить в сторону многочисленные мемуары, романы и сборники поэзии, на обложках которых красуется это слово («Любовь, смех и слезы во всемирно известной кулинарной школе» и пр.), останется множество книг. Например, по популярной психологии, изданий из серии «помоги себе сам», трудов по философии и психологии юмора, монографий по истории хохота, фырканья, прысканья, хихикания всех времен и народов (вплоть до наших пещерных предков на заре человечества).
Помимо всего этого академического и популярного чтива есть еще масса научных статей и диссертаций, в которых детально разбираются совсем узкоспециальные темы. В их числе, например, «использование смеха в санитарно-просветительских фильмах голландскими колониальными властями на Яве», «звук смеха в романах Джеймса Джойса», «смеховые паттерны интервьюеров и респондентов в телефонных опросах» и, наконец, классика жанра – «когда и как начинают смеяться и улыбаться младенцы» [50]. Не говоря уже о трудах всех этих радикальных философов, политиков и феминисток, которые превозносят смех, оправдывая худшие опасения чопорного лорда Честерфилда, который, давая в 1740 году наставления своему сыну, говорил, что джентльмену ни в коем случае не следует громко смеяться [51]. Что бы он сказал, узнав про воззрения Уиндхема Льюиса и других вортицистов12, которые в своем манифесте 1914 года провозгласили, что смех должен быть «подобен бомбе»? Современные французские феминистки тоже сделали смех своим знаменем, спасая змееволосую гогочущую Медузу Горгону из классического мифа от враждебных выпадов Зигмунда Фрейда (и в пику ему превознося ее красоту и ее смех). Именно смех – ключевая характеристика той сложной амальгамы из женского тела и текста, которая получила название «l’écriture féminine» (едва ли перевод «женская литература» отражает смысл этого термина). Текст – это «ритм, который смеется внутри тебя» («le rythme qui te rit»), как эффектно, хоть и несколько туманно, писала Элен Сиксу [52].
О смехе уже написали – и продолжают писать – так много, что никому не под силу охватить этот предмет целиком… Да и какой в этом смысл? Но когда соприкасаешься с плодами многовековых трудов ученых и философов, которые со времен Античности бьются над загадкой смеха, возникает соблазн предположить, что, возможно, отличительной чертой человеческого вида является не сам смех, а, скорее, склонность дискутировать и строить теории о его природе.
Отчасти именно изобилие представлений о смехе в разных областях знания и породило типологию «второго уровня», в рамках которой теории смеха разделяются на три основные ветви, представленные именами ключевых теоретиков. Большинство авторов книг на интересующую нас тему – и я в этом смысле не исключение, – как правило, сначала знакомят читателя с этими теориями, объясняющими, что такое смех, каково его значение и что его вызывает. Я с куда бÓльшим скепсисом, чем многие другие, отношусь к такого рода типологиям и усматриваю в них опасность чрезмерного упрощения. При этом меня поражает тот факт, что в каждой из трех современных метатеорий более или менее отчетливо слышится эхо одного из направлений мысли древних (отсюда мое сравнение с «младшими сестрами»). Рассуждая о смехе сегодня, мы продолжаем использовать подходы, которые во многом были знакомы древним грекам и римлянам [53].
Первый из них мы уже затронули, говоря об Аристотеле. Это так называемая теория превосходства, которая утверждает, что смех по сути своей равнозначен осмеянию. Иными словами, у смеха всегда есть жертва: мы всегда с большей или меньшей толикой агрессии смеемся над предметом шутки, и наше веселье никогда не бывает безобидным. Смех – это всегда способ заявить о своем превосходстве. Если не брать в расчет древних авторов (в том числе Квинтилиана с его звучной фразой о том, что смех «недалеко отстоит от осмеяния»), наиболее известным приверженцем этой теории был философ XVII века Томас Гоббс. «Страсть смеха13, – писал он в “Элементах законов”, – есть переживание внезапной славы, которое вызывается внезапным осознанием собственного величия по сравнению с уродствами или недостатками других». Это высказывание часто цитируют, а не так давно вышла книга об истории смеха, автор которой использовал броскую фразу «внезапная слава» в качестве заглавия [54]. Но теория превосходства – это не только один из аспектов философии и этики смеха. Теория эволюции тоже берет ее на вооружение в попытках реконструировать происхождение смеха у первобытных людей: отсюда, например, возникла идея о том, что он зародился как «рев торжества над поверженным в поединке противником» или что прообразом смеха (или улыбки) можно считать агрессивный оскал [55].
Второй подход, известный как теория несоответствия, рассматривает смех как реакцию на нечто нелогичное или неожиданное. Аристотель приводит очень простой пример: «Он шел, имея на ногах отмороженные места». По его мнению, эта фраза вызывает смех, потому что вместо «отмороженных мест» слушатель ожидает услышать слово «сандалии» [56]. Помимо Аристотеля, на стороне этой теории выступает немало современных философов и критиков, хотя их трактовки и расходятся в нюансах и акцентах. Например, Иммануил Кант утверждал, что «смех – это аффект, возникающий из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто» (еще одно изречение, популярное среди исследователей смеха). Анри Бергсон полагал, что смех возникает, когда живые существа ведут себя подобно механизмам – действуя машинально, однообразно, косно. Позднее Сальваторе Аттардо и Виктор Раскин выдвинули идею о том, что именно разрешение несоответствия лежит в основе вербального юмора, например в каламбурах: «When is a door not a door? – When it’s a jar»14 [57].
Экспериментальная наука тоже не стоит в стороне. Один из самых известных экспериментов в истории лабораторных исследований смеха – это тест на несоответствие веса. Испытуемых просят поднять ряд гирек, одинаковых по размеру и внешнему виду и лишь незначительно отличающихся по тяжести, и расположить их по порядку – от самой тяжелой до самой легкой. Затем в эксперимент вводится еще одна гирька, похожая по внешнему виду на остальные, но значительно тяжелее или легче. Испытуемые регулярно смеются, когда поднимают ее, и психологи полагают, что причина смеха в несоответствии между ней и остальными. Более того, чем тяжелее или легче новый груз, тем сильнее они смеются: другими словами, чем больше несоответствие, тем интенсивнее смех [58].
Последняя в этом трио – теория облегчения, популяризатором которой стал Зигмунд Фрейд, хотя авторство принадлежит не ему. В своей простейшей, дофрейдистской форме эта теория рассматривает смех как физическое проявление высвобождения психической энергии или подавленных эмоций. Это своего рода эмоциональный предохранительный клапан. С помощью клапана мы сбрасываем давление в паровом котле, а смеясь над шуткой о гробовщике – «выпускаем наружу» сдерживаемый страх смерти [59]. Можно сказать, что примерно так же рассуждал Цицерон, защищаясь от нападок тех, кто упрекал его в неуместных шутках в разгар гражданской войны между Цезарем и Помпеем [60]. Фрейд предложил значительно более сложную версию этой идеи. В своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному» он утверждает, что энергия, которая высвобождается за счет смеха, – это не энергия подавленных эмоций самих по себе (как в модели «предохранительного клапана»), а психическая энергия, которую пришлось бы затратить на подавление мыслей и чувств, если бы шутка не позволила им реализоваться на сознательном уровне. Другими словами, в шутке про гробовщика находит выражение наш страх по поводу смерти, а смех – это выброс избыточной психической энергии, которая иначе была бы использована на его подавление. Чем больше энергии уходило на подавление страха, тем больше мы будем смеяться [61].
Три эти теории можно использовать как удобный конспект: они привносят упорядоченность в запутанную историю рассуждений о смехе и высвечивают удивительную схожесть ряда наших представлений о нем на протяжении веков. Однако при ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем серьезные изъяны как в каждой из теорий в отдельности, так и в общей структурной схеме всей предметной области. Начнем с того, что ни одна из теорий не рассматривает смех во всем его многообразии. Они пытаются объяснить, почему мы смеемся над шутками, но обходят вниманием смех, вызванный щекоткой. Фокусируясь исключительно на спонтанном и неконтролируемом смехе, они при этом упускают из виду другие его разновидности, не менее характерные для взаимодействия между людьми: ведь мы часто смеемся, отдавая дань приличиям, социальным условностям и традициям нашей семьи [62]. Иначе говоря, авторы этих теорий более озабочены смехом Диона, а не Гнафона, им не интересен акт смеха как таковой [63]. Первые две теории даже не пытаются объяснить, почему осознание превосходства или несоответствия вызывает физическую реакцию, известную нам как смех (характерный звук, сокращение лицевых мышц, колыхание грудной клетки). Теория облегчения задается этим вопросом, но концепция психической энергии, которая обычно используется для подавления эмоций и в момент смеха как-то преобразуется в движения тела, сама по себе вызывает глубокие сомнения [64].
На практике в большинстве своем попытки выдвигать теории смеха сводятся к обсуждению связанных с ним более узких и в определенном смысле более удобных категорий, таких как «комическое», «шутки» и «юмор». Это особенно очевидно, если вспомнить заглавия наиболее знаменитых книг на эту тему: Фрейд недвусмысленно назвал свою книгу «Остроумие и его отношение к бессознательному»; полное название трактата Бергсона – «Смех: Эссе о значимости комического»; недавнее великолепное исследование Саймона Кричли содержит много размышлений о смехе, но его заглавие – «О юморе» – говорит само за себя. Кроме того, существует общая закономерность: чем больше аспектов и разновидностей смеха пытается охватить та или иная частная теория, тем менее правдоподобной она выглядит. Если утверждение начинается со слов «Любой смех…», сразу возникают сомнения в его достоверности (а если оно и достоверно, то, как правило, слишком самоочевидно, чтобы вызвать интерес). Теория превосходства, например, весьма убедительно объясняет природу некоторых типов шуток. Но с ростом ее претензий на статус всеобъемлющей объяснения становятся все менее вразумительными. Нужна недюжинная изобретательность, чтобы с точки зрения теории превосходства объяснить, например, механизм каламбура. Неужели тот факт, что он используется в современных словесных дуэлях, как-то роднит его с ритуальными состязаниями наших первобытных предков? А может, играя словами, мы пытаемся заявить о своем превосходстве над самим языком? Мне это представляется малоубедительным [65].
Можно по-разному оценивать попытки Фрейда описать механизм смеха, вызываемого сальными шутками, но, когда на основании тех же принципов он пытается объяснить смех при виде, скажем, гротескных движений клоуна, результат получается весьма забавный. Так, Фрейд продолжает настаивать, что и в этом случае речь идет об экономии психической энергии; якобы, наблюдая за клоуном, мы сравниваем его движения с теми, которые делали бы сами в аналогичной ситуации (например, ходя по комнате). Нам необходимо генерировать психическую энергию, чтобы вообразить его движения, и чем они размашистее, тем больше будет вырабатываться психической энергии. Когда наконец мы приходим к осознанию, что движения клоуна явно чрезмерны по сравнению с нашими собственными, сэкономленная энергия выплескивается в виде смеха [66]. Надо отдать должное упорству и последовательности Фрейда, когда дело доходит до применения одних и те же научных принципов к самым разным формам смеха. Однако очевидное неправдоподобие его выводов заставляет задуматься о том, что вышло бы из попытки объяснить причины любого смеха в рамках общей теории. Надо признать, что, подобно Аристотелю, современные теоретики – какие бы далеко идущие цели они ни преследовали – почти всегда выдвигают наиболее плодотворные и остроумные идеи, когда рассуждают о самом смехе, не претендуя на создание всеобъемлющей теории смеха.
Тройственная теоретическая модель сама по себе тоже имеет недостатки. Она действительно удобна в качестве краткого изложения, но при этом таит в себе опасность чрезмерного упрощения и заставляет нас поверить, что мы можем втиснуть в ее прокрустово ложе развернутые, сложные, многогранные и не всегда последовательные идеи. Приходится признать, что на пути наших исследований лежит гораздо более пересеченный ландшафт, чем представленный на карте «теории трех теорий». Это видно уже из того, что одни и те же ученые упоминаются в современных обзорах в качестве ключевых представителей разных теорий. Бергсону, например, приписывают вклад как в теорию несоответствия, так и в теорию превосходства. В первую – из-за его утверждения, что смех возникает, когда мы усматриваем в поведении людей схожесть с действиями неодушевленных механизмов. Во вторую – из-за того, что, с точки зрения Бергсона, социальная функция смеха заключается в том, чтобы с помощью издевки над таким поведением отбить охоту действовать автоматически («Эта косность и есть комическое, а смех – кара за нее»15) [67]. Даже на Аристотеля навешивают разные ярлыки. Разумеется, его полумифическая «теория смеха» (или комедии) часто рассматривается как классический случай теории превосходства, но также древнего грека причисляют к сторонникам идеи несоответствия и, что еще более сомнительно, – теории облегчения [68].
На самом деле, на протяжении долгой истории изучения смеха труды «отцов-основателей» чаще подвергались скорее разграблению, чем внимательному анализу. Их выборочно резюмировали, стремясь отыскать исторические основания для самых различных утверждений, и раздергивали на цитаты. Последние, находясь вне контекста, редко передают рудиментарность, неопределенность и, в некоторых случаях, внутреннюю противоречивость идей источника. Нередко испытываешь шок, обращаясь к источнику цитаты и обнаруживая, что в действительности имел в виду автор. Например, знаменитая цитата из Гоббса о том, что «страсть смеха есть переживание внезапной славы, которое вызывается внезапным осознанием собственного величия по сравнению с уродствами или недостатками других», воспринимается совсем иначе, когда узнаешь ее продолжение: «или нашими собственными недостатками в прошлом». Это все та же теория превосходства, но речь идет не только о принижении других, но и о самокритике. Более того, Квентин Скиннер обращает внимание на то, что Гоббс, рассуждая о смехе в «Левиафане», с помощью, казалось бы, похожих доводов указывает на то, что хохот свидетельствует о чувстве неполноценности, которое испытывает сам хохочущий. «Эта страсть, – пишет Гоббс, – свойственна большей частью тем людям, которые сознают, что у них очень мало способностей, и вынуждены для сохранения уважения к себе замечать недостатки у других людей. Вот почему много смеяться над недостатками других есть признак малодушия»16. Это совсем иной взгляд на то, что Гоббс называет «внезапной славой». Выясняется, что он далек от упрощенной трактовки теории превосходства [69].
Фрейд, написавший сотни страниц о шутках, юморе и природе комического (многие из которых посвящены именно смеху), пожалуй, как никто другой пострадал от выборочных заимствований и тенденциозного цитирования. «Теория» Фрейда – это ошеломляющая и обескураживающая смесь, состоящая, с одной стороны, из последовательных научных доводов (они, как мы видели, заводят его в весьма сомнительные дебри), а с другой – из разного рода рассуждений, которые зачастую имеют весьма опосредованное отношение к основной аргументации, а иногда и прямо противоречат ей. Пример Фрейда со всей очевидностью показывает, на что способны пойти критики и теоретики, потроша труды предшественников в поисках «ключевых мыслей» для подтверждения своих взглядов. Нещадно эксплуатируется не только «теория облегчения». Один из современных исследователей римской сатиры делает акцент на замечании Фрейда о сложной психосоциальной динамике шутки (о взаимодействии между шутником, слушателем и жертвой шутки). Другой современный исследователь в работе, посвященной смеху в греческом театре, указывает на уверенность Фрейда, что «мы никогда не знаем, над чем мы смеемся». Еще один специалист, изучающий римскую инвективу, вспоминает о фрейдовском делении шуток на тенденциозные и невинные, а также о его рассуждениях о роли юмора в унижении; и т. д. и т. п. [70] Все эти аспекты действительно присутствуют в трудах австрийского психоаналитика. Но давайте на минуту задумаемся: что, если «Остроумие» Фрейда – как вторая книга аристотелевской «Поэтики» – вдруг потерялось бы? Какую реконструкцию можно было бы создать на основе сокращенных изложений и цитат? Рискну предположить, что весьма далекую от оригинала.
Одна из целей моей книги – поддерживать беспорядок, царящий в области исследований смеха: скорее внести свою лепту в создание хаоса, чем что-то прояснить. Поэтому теме трех теорий отведено в ней гораздо меньше места, чем вы, возможно, ожидали.
Природа или культура?
Надеюсь, что теперь читателю ясно, насколько коварен и каверзен смех в качестве предмета для изучения и почему на протяжении вот уже двух с лишним тысячелетий он не дает покоя исследователям? Один из наиболее сложных вопросов заключается в том, следует ли вообще рассматривать смех как единый феномен: есть ли смысл пытаться объяснить в рамках общей модели конечные причины (или социальные последствия) смеха? Особенно если учесть, что рождается он у нас в ответ на столь непохожие раздражители, как щекотка, хорошая шутка или вид безумного императора, потрясающего страусиной головой на арене цирка. И это не говоря уже про более управляемый смех, который мы регулярно используем для поддержания беседы. Добросовестный анализ заставляет нас признать, что это очень несхожие явления, с разными причинами и следствиями. И в то же время непосредственные ощущения, которые мы испытываем, смеясь или слыша смех, во многом всегда похожи при всем многообразии его проявлений [71]. Кроме того, часто невозможно провести границу между разными его видами. Смешки, которыми перемежается вежливый разговор, могут неожиданно перерасти в безудержный хохот. Многие из нас, окажись мы на месте Диона, не смогли бы с уверенностью определить причину своего смеха: был ли он вызван нервным напряжением или дурацкими выходками императора? А когда кого-нибудь щекочут, даже стороннего наблюдателя нередко разбирает смех. Но есть и еще более фундаментальный вопрос: насколько смех можно отнести к «природным» или «культурным» явлениям – или, точнее, применимо ли в случае со смехом это упрощенное бинарное противопоставление. Мэри Дуглас подводит итог: «Смех – это уникальное телесное извержение, которое всегда воспринимается как коммуникационное сообщение». В отличие от чихания или пуканья, смех всегда наделен некоторым смыслом. Плиний упустил из виду это различие в одном из своих наблюдений, которое я уже цитировала. Он ставит в один ряд Красса, «который никогда не смеялся», и Помпония, «который никогда не рыгал», смешивая «мух с котлетами». Даже отсутствие смеха может быть определенным образом истолковано, в то время как воздержание от рыгания (скорее всего) – нет [72].
Эта двойственность смеха как природного и одновременно культурного феномена оказывает огромное влияние на наши попытки уяснить то, как смех «работает» в человеческом обществе, а точнее то, насколько мы способны осознанно его контролировать. «Я не мог удержаться от смеха», – часто говорим мы. Это правда? Безусловно, иногда действительно возникает ощущение, притом вполне оправданное, что со смехом невозможно совладать, и не только в случае со щекоткой. Вспомним Диона, жующего лавровые листья в Колизее, или дикторов, которые корчатся от смеха в эфире, – бывают случаи, когда смех вырывается (или почти вырывается) помимо нашей воли, и мы совершенно не в силах его сдержать. Скорее всего, именно такие случаи представляла себе Дуглас, когда писала про «телес-ное извержение», которое «воспринимается как коммуникационное сообщение». Каким бы непреднамеренным ни был смех, наблюдатель или слушатель все равно спрашивает себя, над чем человек смеется и какой смысл несет в себе его смех.
Впрочем, идея о неконтролируемости смеха не столь проста, как кажется, что видно даже на этих незамысловатых примерах. Мы уже рассмотрели некоторые случаи из жизни римлян, которые демонстрируют способность людей сдерживать смех или давать ему волю более или менее осознанно: граница между непроизвольным и намеренным смехом бывает крайне размытой. Взять хотя бы историю Диона из предыдущей главы: при ближайшем рассмотрении мы обнаружим в ней немало нюансов, неочевидных на первый взгляд. Следует признать, что в большинстве случаев контролировать смех относительно несложно. Даже воздействие щекотки куда больше социально обусловлено, чем мы склонны думать: щекотка не действует, если щекотать себя самого (попробуйте, если не верите!), равно как не вызывает смеха и щекотка в угрожающих обстоятельствах – чтобы добиться эффекта, нужен игривый настрой. Мало того, в разных культурах и в разные времена не было единства в вопросе о том, какие места нашего тела наиболее чувствительны к щекотке. Мнение о том, что это подмышки, так или иначе разделяют все, но с подошвами ног все не так однозначно. Например, один из учеников Аристотеля – автор объемистого раздела на эту тему в сборнике научных трудов, известном как «Проблемы», – высказывает иную точку зрения: по его мнению, подверженное щекотке место нашего тела – это губы (он объясняет это их близостью к «органу чувств») [73]. Таким образом, вопреки нашим представлениям, реакцию на щекотку нельзя назвать полностью спонтанной и рефлекторной [74].
Тем не менее господствующий миф о «неуправляемости» во многом определяет наше отношение к смеху и стремление к контролю над ним. Представления о смехе как о дикой, необузданной и потенциально опасной стихийной силе уходят корнями в глубокую древность и служат оправданием множеству запретов и ограничений, которые традиционно накладывает на смех общество. Как ни парадоксально, миф о том, что смех – это неконтролируемая разрушительная сила, которая заставляет тела цивилизованных граждан корчиться в пароксизмах и смущает их рациональные умы, лежит в основе наиболее жестких механизмов социального контроля.
На практике в сознании большинства людей зачастую прекрасно уживаются две совершенно несовместимые противоположности: с одной стороны, вера в миф о неуправляемости смеха, а с другой – каждодневный опыт подчинения усвоенным культурным нормам. Любой, кому доводилось воспитывать маленьких детей, помнит, сколько времени и усилий уходит на то, чтобы научить их общепринятым правилам смеха. То есть объяснить, над чем можно смеяться, а над чем – нет (над клоунами – да, над человеком в кресле-каталке – нет; над мультяшными Симпсонами – сколько угодно, над толстой тетей в автобусе – ни в коем случае). Несоблюдение правил смеха нередко становится поводом для самочинной расправы детей над сверстниками, а сам смех – ее орудием [75]. Тема непреложных законов людского смеха находит отражение и в литературе – например, в фантастической поэме в прозе «Песни Мальдорора» граф де Лотреамон с болезненной живостью описывает, к чему приводит их непонимание. В первой песне поэмы ее герой Мальдорор – закоренелый мизантроп, которого едва ли можно причислить к роду людскому, – обращает внимание на смеющихся людей и пробует им подражать. Не понимая смысла происходящего, он надрезает ножом углы собственного рта, чтобы сымитировать «смех», но в итоге осознает, что лишь изуродовал себя, но не достиг желаемого. В этой кровавой сцене есть тонкий намек на то, что научиться смеяться и воспринять саму идею смеха способны лишь человеческие существа (человек ли Мальдорор?). А может быть, Мальдорор не так уж далек от истины, и нож, которым он «правит» себя, – метафора правил смеха, навязанных обществом, чтобы перекроить нас по своим лекалам [76].
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе