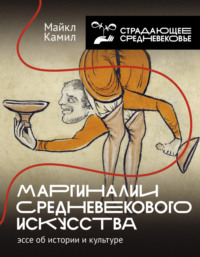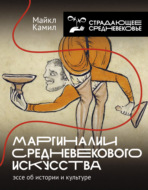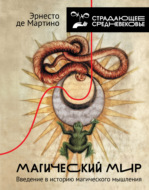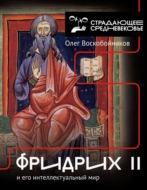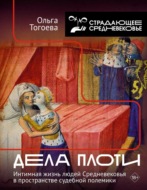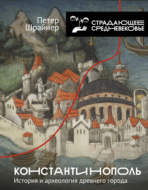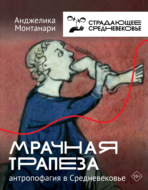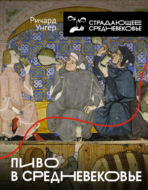Читать книгу: «Маргиналии средневекового искусства: эссе об истории и культуре», страница 2
Аннотация и происхождение маргинального искусства
Слово «глосса» означает «язык» (lingua), потому что оно как бы проговаривает (loquitur) значение слова под ним [17].
Как рассказывает нам Гуго Сен-Викторский, глоссы XI и XII веков часто были подстрочными. Втиснутые между строками текста, они «говорили» те же слова, только на другом языке, как, например, знаменитые англосаксонские глоссы в Евангелии из Линдисфарна. Маргинальные глоссы, напротив, взаимодействуют с текстом, который стал рассматриваться как фиксированный и завершенный, и по-новому интерпретируют его. В поэме Лэнгленда XIV века «Петр пахарь» встречается словосочетание «Marchauntes in the margins» (букв. «купцы на краях») [18]. Это характеризует как физическое место купцов в письменном документе, о котором рассказывается в этой части поэмы, так и примыкающее положение этого «нового» класса по отношению к традиционной трехсословной модели общества. Слово «margin», от латинского «margo», означающего край, границу, предел, и его родительный падеж «marginis» стали обыденными только с распространением письма. Как только страница рукописи становится матрицей визуальных знаков, а не текучей линейной речи, формируется основа не только для дополнений и аннотаций, но также и для разногласий и сопоставлений – того, что схоласты называли disputatio.
Glossa Ordinaria («общепринятая глосса»), большой комментарий к Библии, доведенный до совершенства в школах Парижа, и комментарий к псалмам Петра Ломбардского служат важными примерами подобного нового подхода к чтению в конце XIX века [19]. В рукописях глосс Питера Ломбарда фигуры и действия иногда изображаются на чистом пергаменте по бокам страницы не столько для иллюстрации, сколько для комментариев к соседнему тексту. В рукописи, подаренной Кентерберийскому собору в конце XIX века, изображен Августин, указывающий пикой на святоотеческий комментарий, где на него ссылаются, и он же держит свиток с надписью «non ego», как бы сообщая: «Я этого не говорил» (илл. 5). Глосса здесь буквально «говорит» в терминологии Гуго Сен-Викторского, высказываясь не за текст, а против него.

Илл. 5. Св. Августин не согласен. Комментарий Петра Ломбардского к псалмам. Тринити-колледж, Кембридж
Псалтирь Ратленда, созданная в Англии полвека спустя (ок. 1260 г.), – первая готическая рукопись, где появляется полностью развитая последовательность маргинальных изображений. На одной странице буква «р» латинского слова «conspectu» («видеть» или «проникать визуально») входит в задний проход лежащего навзничь рыбочеловека, соединяясь со стрелой экзотического лучника (илл. 6). Тогда как в глоссах Петра Ломбардского образы иногда вступали в спор со словами в тексте – здесь слово дает отпор. Подобный антагонизм, или «различие» между текстом и изображением, обусловлены важными изменениями в производстве рукописей.

Илл. 6. Текст против изображения. Псалтирь Ратленда. Британская библиотека, Лондон
В то время как в предыдущем столетии автор текстов и иллюминатор обычно бывали одним и тем же человеком, теперь оба вида деятельности все чаще практиковались разными людьми и социальными группами. Следование иллюминатора за писцом, с одной стороны, делало его труд второстепенным, но, с другой стороны, давало ему шанс подорвать авторитет уже написанного Слова. Не кто иной, как художник этой страницы Псалтири Ратленда, продолжил хвост буквы в задний проход нарисованной фигуры, возможно, намекая писцу на то, что он может сделать со своим пером. Зачастую подрывая авторитет текста, привлекая внимание к его «открытости», маргинальные образы тем не менее никогда не выходят за пределы (или внутрь) определенных границ. Игре место на игровой площадке, и точно так же, как писец следовал размеченным линиям, существовали правила, регламентировавшие игровое пространство маргинальных образов и прочно удерживавшие их на своих местах.
К концу XIII века ни один текст не избежал дерзкого взрыва маргинального беспредела. Как традиционные инструменты литургии – библии, миссалы и понтификалы, а также книги, принадлежавшие частным лицам для личных проявлений благочестия, в основном Псалтири и набирающие популярность часословы, – так и светские сборники, например рыцарских романов, и правовая литература, такая как декреталии, были заполнены визуальными аннотациями. Недавно переведенные на латынь рукописи «Физики» Аристотеля, переписанные для ученых в Оксфорде с множеством глосс и подстрочных дополнений, относятся к числу самых ранних примеров с независимыми маргинальными фигурами, веселящимися над «философом». Этот текст был действительно спорным: в течение XIII века рукописи запрещались и публично сжигались в Париже и Оксфорде дважды. В великолепном манускрипте Харлея, где на первом листе изображено сжигание книг, в начале четвертой книги «О небе» противопоставляются знание и невежество. Сидящий внутри буквы мудрец смотрит на звезды из-за своего стола, в то время как волнистая линия наверху резко возвращает нас на землю, ибо по ней катят в тачке разинувшего рот прокаженного идиота (илл. 7). Это и есть безумие, которое, как считали иные, могло возникнуть от избытка знаний? Здесь на полях уже отображаются знаки умопомешательства.

Илл. 7. Глупость пересекает философский текст. Физика Аристотеля. Британская библиотека, Лондон
Наиболее очевидно возрастающее самосознание маргинального художника можно обнаружить в английском часослове, примерно 1300 года, ныне хранящемся в Балтиморе, где писец забыл некоторые отрывки; эти corrigenda, или дополнения к тексту, поднимают, обозначают и ставят на нужные места крошечные строители (илл. 8). Открытый для неправильного копирования, неправильного прочтения, искажения и присвоения текст становится несовершенным физическим знаком – просто еще одним образом в падшем мире. В VIII веке монастырский писец-иллюминатор был уважаемой фигурой; иногда его пишущая рука почиталась как реликвия, потому что передавала Слово Божие. Писцы и иллюстраторы XIV века, напротив, были в основном профессионалами, получавшими оплату постранично; над их работой насмехаются обезьяны на полях Миссала, созданного в Амьене (илл. 9). В то время как ранние списки Евангелий сохраняют мифы о том, что они были созданы по указанию ангелов, готические рукописи нередко документируют свое материальное происхождение. Этот список имеет колофон, сообщающий нам, что он был заказан аббатом Иоанном Марсельским из Церкви Святого Иоанна в Амьене, что он был написан собственноручно (per manum) Гарньери ди Мориоло и иллюминован мирянином Петром де Рембокуром в 1323 году. Петр-pictor, вероятно, поиграл здесь с писцом (scriptor), так как внизу страницы изображена обезьяна, показывающая свой зад писцу с тонзурой, – предположительно, рисунок вдохновлен неудачным разделением слова семью строчками выше. Эта строка заканчивается разрывом слова «culpa» («вина») в ключевом месте: таким образом она читается как «Liber est a cul», что означает «Книгу в задницу!».

Илл. 8. Мужчина вставляет на место недостающий четвертый стих 127-го псалма. Часослов. Художественная галерея Уолтерса, Балтимор

Илл. 9. Обезьяны издеваются над письмом. Миссал, иллюстрированный Петром де Рембокуром, 1323 г. Королевская библиотека Нидерландов, Гаага
Хотя средневековое христианство было религией Слова, ко времени создания этой литургической книги уже широко распространилось недоверие к внешней стороне буквы и ее перепроизводству: «Ибо… во множестве слов – много суеты» (Еккл. 5:6). Возможно, страх распространения и профанации письменного Слова, или, скорее, слов, теперь доступных для широкой новой аудитории как светских читателей, так и духовенства, заставил придавать еще больше важности тому, чтобы оно помещалось в центре и чтобы его непрочный статус оттеняло нечто еще менее стабильное, более низменное и, в семиотических категориях, еще более иллюзорное – образ на краю.
Модель и Антимодель
Соломон Четыре евангелиста поддерживают мир.
Маркольф Четыре опоры поддерживают стульчак, и тот, кто сидит на них, не упадет [21].
Средневековый мир изображений, как и сама средневековая жизнь, был жестко структурированным и иерархическим. По этой причине сопротивление ему, его высмеивание, пародирование и переворачивание были не только возможными, но и безграничными. У каждой модели была своя противоположность, зеркальная антимодель [22]. В начале XIV века мастер Псалтири Ормсби изобразил традиционный мотив тройного искушения Христа в пустыне (Мф. 4:1–11) внутри буквицы к Псалму 52, «Dixit insipiens in corde suo non est deus» – «Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”» (илл. 15). Внизу страницы он нарисовал параллельный спор (disputation) из редко изображавшегося сюжета – «Диалог царя Соломона и Маркольфа». Эта дискуссия между мудрым библейским царем и хитрым крестьянином пользовалась успехом как в устной, так и в письменной формах на протяжении всего Средневековья. Сцена внизу слева, изображающая Соломона и его псаря, указывающих из здания, передается на среднеанглийском языке так:
Так приказал Соломон своим слугам: «Уберите этого человека с глаз моих: и если он еще раз придет сюда, спустите на него моих псов…» [Маркольф] подумал о том, как бы ему лучше попасть на королевский двор, но при этом чтобы собаки его не покусали или, не дай бог, не съели. Он пошел и купил живого зайца и, спрятав его под одежду, вернулся к царскому двору. А когда слуги царя увидели его, они спустили на него всех псов, и он тотчас отпустил зайца, за которым собаки и погнались. Про Маркольфа они и позабыли, так он вновь пришел к царю [23].
Необычный приезд Маркольфа – верхом на козле, распространенном символе непристойности, с зайцем в руках – иллюстрирует часть сказки, не вошедшую в этот текст. Там Маркольф дает ответ на загадку, которую ранее загадал королю: Маркольф сказал, что он предстанет перед ним ни пешком, ни верхом (он стоит одной ногой на земле), ни одетый, ни голый (он носит только капюшон) и прибудет одновременно с подарком и без него (пресловутый заяц, который сразу убежит). Картинка буквально изображает то, что вроде бы есть, но в то же время его и нет, – межеумочное состояние, обожаемое народной культурой, в которой загадки изобилуют. Маркольф – тип фольклорного трикстера, известный во всем мире [24]. В своей «двойственной природе» он появляется на перекрестках, замаскированный и всегда выступающий как разрушительная сила; главный перевертыш, который в «Диалоге» превращает все напыщенные истины Соломона в экскременты:
Соломон Дай мудрым возможность, и мудрость в них приумножится.
Маркольф Набьешь свое брюхо, и дерьмо в тебе приумножится.
Такие скатологические возражения имеют свою изобразительную параллель в правой части этой страницы Псалтири, где инвертированный пук трубы бьет в зад испуганного зверя. Это может относиться к концу истории Маркольфа, где он обманом в буквальном смысле заставляет короля заглянуть ему в грязный зад, когда он сидит на корточках задом наперед в печи, – более того, эта сцена проиллюстрирована в другой английской Псалтири того времени [25]. Но разве эта маргинальная сцена с одураченным Соломоном не подрывает, вместо того чтобы, наоборот, усилить, «центральный» исходный образ, в котором Христос торжествует над шутом/дьяволом? Соблазняя читателя перевернуть стандартную интерпретацию, это сопоставление предполагает, что именно Христос, а не дьявол, является «шутом», то есть юродивым. Именно Христос в сцене Искушения перехитрил дьявола, принимая смирение и отказываясь от «высоких» благ всех царств мира. В этом библейском диалоге дьявол всегда делает первое утверждение, и Христос возражает ему словами «ибо написано», точно так же как у Маркольфа всегда есть афористичный, хотя и извращенный, ответ на слова Соломона о мудрости. На эту двойную инверсию, посредством которой Христос переосмысляется как шут в нижней части страницы, также визуально намекают параллели между жестами Маркольфа и Христа, сидящего на троне выше. При этом Маркольф не представлен ни грубым и грязным как зверь, каким его обычно изображают, ни даже придворным шутом в раздвоенной шапке с колокольчиками, каким он иногда изображается на иллюстрациях к этому псалму [26]. Но как насчет заявления неверующего безумца, что «Бога нет», которое заставило бы Христа отрицать собственное существование? Возможно, имеет значение то, что это отрицание появляется только тогда, когда мы переходим к следующему листу. На этой странице Маркольф – мудрый безумец из 1-го послания Коринфянам, 3:18.
Все это еще более удивительно, учитывая, что эта книга использовалась в чтениях Псалтири литургическими службами и была, согласно надписи, «Псалтирью брата Роберта из Ормсби, монаха Нориджского, который передал его хору [соборной] церкви Святой Троицы в Норидже, чтобы вечно храниться у действующего помощника настоятеля» [27]. Чтобы понять, как антиязык и телесная извращенность юродивого функционировали в литургическом контексте, недостаточно просто обозначить эти маргиналии как отрицательные примеры (exempla) вроде тех, которыми проповедники будили сонную аудиторию. Хотя некоторые маргинальные темы могут быть связаны с дидактической традицией примера проповеди, не всегда очевидно, что на полях изображены смертные грехи плоти, которые должен был преодолеть дух буквы, – как бы ни настаивали на этой точке зрения в прошлом [28].
Например, такие же пространственные сопоставления сакрального и светского, как в Псалтири Ормсби, можно найти в английской полифонической музыке того же времени. Иногда религиозные мотеты даже сочетают латинские верхние голоса с народными теноровыми линиями, как в трехголосном мотете XIV века из рукописи Дёремского собора, где священное повествование об Избиении младенцев, открывающееся словами «Herodis in pretorio» в верхней строке, сосуществует с призывом проститутки («Hey Hure Lure») в нижней части [29]. Эта «профанная» реплика буквально присутствует в пространстве нижней части страницы [30]. Псалтирь Ормсби называют примером «джоттовского эпизода» в английском средневековом искусстве из-за ее трехмерного стиля. Как и Дёремский мотет, ее можно было бы назвать эпизодом полифонии благодаря ее блестящему объединению разных визуальных голосов.
Не стоит рассматривать средневековую культуру исключительно с точки зрения бинарных оппозиций – например, сакральное/профанное или духовное/мирское, – так как Псалтирь Ормсби подсказывает нам, что люди тогда находили удовольствие в двусмысленности. Пародия, профанация и святотатство необходимы для поддержания непрерывности сакрального в обществе [31]. Идеи игры и потехи, как считается, играли ключевую роль в религиозных чувствах участников английских мистерий XIV века [32]. В этих пьесах шутки мучителей Христа, забивающих гвозди в Его руки и ноги, напоминают нам, что игры могут быть смертельно серьезными. На одной из немногих более мирных маргиналий часослова Маргариты Arma Christi различные инструменты, использовавшиеся при Распятии, расположены рядом с текстом Страстей по св. Иоанну (илл. 10). Здесь нет ни одной singe, так это истинные signa, предназначенные для созерцания набожным читателем.

Илл. 10. Знаки Страстей Христовых. Часослов. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
На одном из полей Балтиморского часослова изображение Распятия возмутительно опошляется искажением (илл. 11). В нижнем поле присутствует странный образ со скрещенными ногами и набедренной повязкой, который по своей схематичной форме близко напоминает распятую фигуру в правом поле часослова Маргариты. Голова, однако, вытягивается в голову отвратительной клювастой птицы. Как покровительница этой книги, изображенная на некоторых ее страницах, понимала этого Христо-страуса? [33] Шутил ли художник, возможно, обыгрывая седьмой стих псалма пятью строками выше – «ты помазал [impinguasti] мою голову in oleo», что может означать «маслом» при переводе с латыни или «гусем» при переводе с французского?

Илл. 11. Христос с головой птицы. Часослов. Художественная галерея Уолтерса, Балтимор
Точно так же, как на полях священных текстов мы сталкиваемся с придворными персонажами, такими как шуты, безумные музыканты и влюбленные, возможно, мы уже не удивимся, обнаружив распутную монахиню – шпилька в адрес слабости монашеского целомудрия – на полях народного романа о Ланселоте (илл. 12). Кормящая грудью обезьяну монахиня пародирует традиционную «Млекопитательницу». Она антипод Девы, хотя, как монахиня, она должна быть девственницей – уподобляться Марии. Обезьяна всегда является знаком, скрывающим за собой что-то другое. В то время как Дева родила Христа, эта мнимая дева родила чудовищный знак, который, будучи искажением человеческого образа, указывает на ее вполне человеческий грех. Такие изображения работают на утверждение тех самых моделей, против которых они выступают. Ведь за ними, или зачастую буквально под ними, стоит тень модели, которую они переворачивают – либо на той же странице, что и в Псалтири Ормсби, либо, как здесь, в отсылке к широко известным иконографическим традициям, которые они подрывают.

Илл. 12. Монахиня кормит грудью обезьяну. «Роман о Ланселоте». Библиотека Джона Райландса, Манчестер
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе