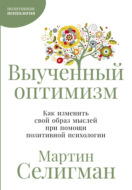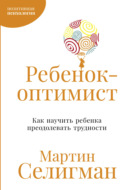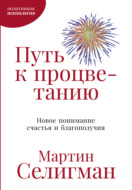Читать книгу: «Выученный оптимизм: Как изменить свой образ мыслей при помощи позитивной психологии», страница 2
Что-то пошло не так, попробуйте зайти позже
Бесплатно
399 ₽
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программеЖанры и теги
Возрастное ограничение:
12+Дата выхода на Литрес:
26 апреля 2025Дата перевода:
2025Дата написания:
2002Объем:
392 стр. 71 иллюстрацияISBN:
9785006305311Переводчик:
Издатель:
Правообладатель:
Альпина ДиджиталВходит в серию "Позитивная психология"