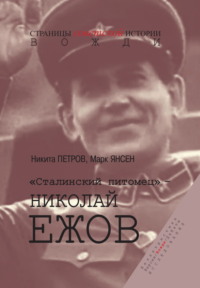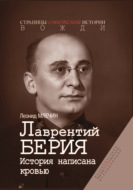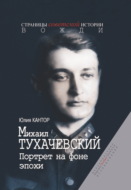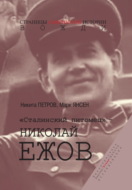Читать книгу: ««Сталинский питомец» – Николай Ежов», страница 2
1938, 5 декабря — принято решение Политбюро ЦК ВКП(б) (П66/47), обязывающее Ежова сдать, а Берию принять дела по НКВД при участии А.А. Андреева и Г.М. Маленкова
1938, 8 декабря – в «Правде» и других газетах опубликовано сообщение об освобождении Ежова и назначении Берии на должность наркома внутренних дел
1939, 10января — постановлением СНК СССР № 34 Ежову объявлен выговор «за манкирование работой» в Наркомате водного транспорта
1939, 19 января – решением Политбюро ЦК ВКП(б) (П67/122) освобожден от обязанностей члена Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам
1939, 29 января – участвовал в заседании Политбюро ЦК ВКП(б)
1939, 31 января – участвовал в заседании Оргбюро ЦК ВКП(б)
1939, 10–21 марта — в качестве делегата с совещательным голосом посещал заседания XVIII съезда ВКП(б)
1939, 21 марта — на состоявшемся XVIII съезде ВКП(б) не избран в состав руководящих партийных органов, т. е. лишился всех своих партийных постов
1939, 29 марта — принято решение Политбюро ЦК ВКП(б) (П1/99), обязывающее Ежова сдать дела по секретариату ЦК ВКП(б)
1939, 9 апреля – Наркомат водного транспорта СССР разделен на два наркомата, Ежов лишился своей последней должности
1939, 10 апреля – арест Ежова
1939, 19 апреля – Указом Президиума Верховного Совета СССР Ежовский район города Свердловска переименован в Молотовский (ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 12. Л. 150)
1939, 27 апреля – Указом Президиума Верховного Совета СССР имя Ежова снято со Школы усовершенствования командного состава пограничных и внутренних войск НКВД СССР (ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 12. Л. 234)
1939, 10 июня — Ежову предъявлено обвинение по статьям 58—1«а», 58-5, 19–58 п. 2 и 8, 58-7, 136 «г», 154 «а» ч. 2 УК РСФСР
1940, 11 января — Берия направил Сталину сообщение о том, что Ежов заболел воспалением легких и о проводимом лечении
1940, 13 января — Ежов переведен в больницу Бутырской тюрьмы
1940, 17января – принято решение Политбюро ЦК ВКП(б) (П11/208-оп) о предании суду Военной коллегии Верховного суда с применением закона от 1 декабря 1934 года 457 человек – «врагов ВКП(б) и Советской власти активных участников контрреволюционной, право-троцкистской заговорщической и шпионской организации», из них приговорить к расстрелу 346 человек, в том числе Ежова, Фриновского, Евдокимова и др.
1940, 1 февраля — Ежову вручено обвинительное заключение по его делу
1940, 2 февраля – Берия имел беседу с заключенным Ежовым
1940, 3 февраля — Ежов выступил с заявлением на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР перед вынесением ему приговора (опубл.: Московские новости. 1994. 30 января. № 5)
1940, 4 февраля – Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла Ежову приговор к высшей мере наказания
1940, 6 февраля – Ежов казнен. Составлен акт о расстреле и справка об отправке тела на кремацию
1941, 24 января – Указом Президиума Верховного Совета СССР Ежов лишен ордена Ленина «за поступки, порочащие звание орденоносца, согласно положению об орденах СССР»
1998, 4 июня — Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации признала Н.П. Ежова не подлежащим реабилитации
Глава первая
Начало карьеры
Согласно официальной биографии Николай Иванович Ежов имел пролетарское происхождение и родился 1 мая 1895 года в столице России Санкт-Петербурге в бедной семье рабочего (металлиста-литейщика). Однако на допросе после ареста в апреле 1939 года Ежов рассказал, что родился он в Мариямполе1, уездном городе Сувалкской губернии (ныне юго-запад Литвы, недалеко от польской границы, в то время это была часть Российской империи). Он переехал в Петербург только в 1906 году, когда ему было 11 лет, но после революции стал утверждать, что родился именно там. В личном деле Ежова, которое довольно аккуратно велось до 1930 года и сохранилось в бывшем архиве ЦК КПСС (теперь РГАНИ), дата рождения отсутствует, указаны только год и место рождения – 1895, Ленинград2. Лишь недавно историки из Литвы Ритас Нарвидас и Андрюс Тумавичюс обнаружили в метрической книге церкви Воскресения Христова города Ковно (ныне Каунас) запись о рождении 8 (20 по новому стилю) апреля и крещении 16 (28) апреля 1895 года младенца, нареченного Николаем. Родителями значились Иван Иванович Ежов и его жена Анна Антоновна3. Отец Ежова в метрической книге записан крестьянином Красненской волости Крапивенского уезда Тульской губернии.
Согласно опубликованному подробному исследованию о родословной Ежова по отцовской линии его дед Иван Петров происходил из крепостных крестьян и получил фамилию Ежов при поступлении на военную службу4. Его сын Иван, родившийся 12 (24) ноября 1861 года в селе Волхонщина и крещеный в Богоявленской церкви села Красного, – будущий отец Николая Ежова5.
Ежов также признался, что его отец вообще не был промышленным рабочим. Напротив, после призыва на военную службу Иван Ежов, русский крестьянин из села Волхонщина Крапивенского уезда Тульской губернии, был зачислен в музыкантскую команду 111 пехотного Донского полка. Полк дислоцировался в районе Ковно и Мариямполя, и здесь Иван Ежов женился на служанке капельмейстера. После демобилизации он стал лесничим, а затем стрелочником на железной дороге. В 1902–1903 годах, как утверждал его сын, он содержал чайную, которая на самом деле была публичным домом. После того как чайная закрылась, с 1905 по 1914 год, Ежов старший работал маляром. С точки зрения пролетарского происхождения «отягчающим обстоятельством» было то, что он был мелким подрядчиком и держал двух подмастерьев. Иван Ежов умер в 1919 году, после длившейся несколько лет болезни6. А точнее – от белой горячки7.
Мать Николая Ежова также не соответствовала появившимся позднее требованиям к происхождению. В его официальной биографии не говорится, что его мать, Анна Антоновна Ежова (родилась около 1864 года) – служанка капельмейстера военного оркестра – была литовкой. Сам Ежов утверждал в анкете в 1924 году, что он понимает по-польски и по-литовски так же, как и по-русски; однако три года спустя, такое происхождение уже не годилось, и он стал утверждать, что знает только русский язык8.
У Ежова была сестра Евдокия, старше его на два года, и брат Иван, родившийся в 1897 году в местечке Вейвера Мариямпольского уезда Сувалкской губернии9. Братья не ладили между собой. Позднее Николай Ежов говорил своему племяннику Виктору, сыну Евдокии, что Иван, хотя и был моложе на два года, систематически избивал его и однажды ударил гитарой в уличной драке, чего Николай никогда не забывал. В 1939 году Николай Ежов на допросе показал, что незадолго до призыва в армию, в 1916, Иван состоял в шайке преступников10. Осенью 1938 года в письме, адресованном Сталину, он писал, что его брат был «полукриминальным элементом» и что он с детства не поддерживал с ним никаких связей11.
Николай Ежов проучился в начальной школе (возможно, в церковно-приходской) не более года; как было позже написано в его уголовном деле, он имел «неоконченное начальное образование». Сам Ежов в ранней автобиографии довольно откровенно писал, что в школе он проучился только 9 месяцев: «Лично меня школьная учеба тяготила, и я всеми способами от нее увиливал»12. В 1906 году, в возрасте 11 лет, его отдали в ученики к одному из родственников семьи, частному портному в Петербурге. Начиная с 1909 года Ежов был подмастерьем, а затем рабочим-металлистом на нескольких заводах Петербурга. Более года он потратил на поиски работы в Литве и Польше, работал в Ковно (ныне Каунас) подмастерьем на механических заводах Тильманса, а в других городах нанимался в помощники к ремесленникам13.
В 1914–1915 годах он работал в Петрограде на кроватной фабрике и на заводах Недермейера и Путилова. Тогда же он участвовал в стачках и демонстрациях. Несмотря на недостаток образования, он довольно много читал и имел среди рабочих кличку «Колька-книжник»14. В анкете в начале 20-х годов он утверждал, что «самостоятельно обучился грамоте»15. За участие в забастовке на заводе «Треугольник» Ежов был арестован и выслан из Петрограда16. В 1915 году, находясь у родственников в Крапивенском уезде, он поступил добровольцем в армию и 15 июня был зачислен в 11 роту 76-го пехотного запасного полка, а затем с маршевой ротой прибыл в 172-й Лидский пехотный полк17. Неизвестно, какие обстоятельства повлияли на его решение добровольно записаться в армию. Честолюбие, помноженное на романтическое восприятие военной службы, и желание отличиться или патриотический угар, охвативший страну? Ясно одно, при своих физических данных – малорослости и болезненности – ему очень хотелось быть не хуже других.
Вскоре Ежов оказался на фронте и в боях с немцами под городом Олита (ныне Алитус, к западу от Вильнюса) был ранен и получил шестимесячный отпуск по ранению. По некоторым данным, он вернулся в Петроград на Путиловский завод. В лазарет Ежов действительно попал в августе 1915 года, но вот относительно факта ранения вопрос остается открытым. Скорее всего, боевые условия так подействовали на тщедушного Ежова, и он получил такую нервную встряску, что был отправлен с передовой по общему состоянию здоровья. Об этом свидетельствует карточка на рядового 172 Лидского полка Н.И. Ежова в картотеке учета потерь. В графе время и место сражения указан город О лита и дата – 15 августа, а вот в графе «куда ранен» значится на латыни Anemia18. То есть речь идет об анемии (малокровии) – признаке резкого упадка общего состоянии здоровья. Конечно, анемия могла быть вызвана и большой кровопотерей, но в таком случае в карточке было бы точное указание на характер ранения. Далее следует запись о пребывании Ежова с 8 по 15 сентября 1915 года в Екатеринбургском этапном лазарете 10-й армии. Кратковременность пребывания в лазарете – признак отсутствия какого-либо серьезного ранения. И, разумеется, полугодовой отпуск по болезни свидетельствует о выявленной в тот момент явной непригодности Ежова к строевой службе.
В 1916 году Ежов был призван снова и сначала стал рядовым в 3-м пехотном полку в Ново-Петергофе, а затем рабочим-солдатом команды нестроевых Двинского военного округа. С 3 июня 1916 – мастер артиллерийских мастерских № 5 Северного фронта в Витебске19.
Путиловский завод, забастовка – все из анкет, заполненных позже самим Ежовым, или с его слов. За неимением других источников эти сведения стоит воспринимать с осторожностью. Другое дело – военная служба Ежова, о которой сохранились архивные документы, картотеки, выписки из приказов. События 1917 года и начало политической активности Ежова – наиболее мифологизированный сюжет. Творцом легенд был не столько сам Ежов, сколько его биографы и историки, лепившие героический образ активного борца за советскую власть. Их вклад в создание мифов о Ежове значителен. Да и сама его биография 1917 и 1918 года полна неясностей и давала простор для фантазии.
Именно в этот период, согласно утверждениям Ежова, и началась его революционная карьера. Хотя позднее один из сослуживцев рассказывал, как однажды Ежов, раздобыв где-то орденскую ленту, выдавал себя за георгиевского кавалера20. Возможно, об этом он мечтал, записавшись в 1915 году в добровольцы.

Н.И. Ежов (справа).
Витебск. 1916.
[РГАСПИ]
Но в тридцатые годы подобный эпизод, разумеется, не годился для анкет, и эта часть биографии Ежова преподносилась в духе революционного романтизма с непременным подчеркиванием его бунтарского характера21. В конце 30-х годов Александру Фадееву было поручено написать биографию Ежова. Задание писатель выполнил, и рукопись небольшой книги поступила в издательство. Но Ежова арестовали прежде, чем биографию успели напечатать22. Часть рукописи Фадеева сохранилась в бумагах Ежова под названием «Николай Иванович Ежов: сын нужды и борьбы» (1937–1938). «Это был маленький чернявый подросток, с лицом открытым и упрямым, с внезапной мальчишеской улыбкой и ловкими точными движениями маленьких рук», – писал Фадеев и продолжал:
«Маленький питерский мастеровой, очень сдержанный и скромный, с ясным, спокойным и твердым взглядом из-под черных и красивых бровей, любитель чтения, любитель стихов и сам втайне их пописывающий, вдумчивый и задушевный друг, свой парень, любивший в часы досуга сыграть на гитаре, спеть и поплясать, бесстрашный перед начальством – Ежов пользовался среди своих товарищей большой любовью и влиянием»23.
Примерно то же самое пишет и Арвид Дризул, знавший Ежова по работе в артиллерийской мастерской Ns 5. В интервью с Исааком Минцем из Института истории партии Дризул описывает «Колю» как «юркого, живого парня», «общего любимца» и острого на язык в разговорах с другими рабочими. Как утверждает Дризул, Ежов принял активное участие в деятельности Красной гвардии еще до того, как вступил в партию, но он «не был трибуном». Дризул добавляет: «Ежов мало выступал. Он два-три слова скажет… Он был кропотливым оратором, эта его черта до последнего дня осталась. Он не любил выступать»24. Воспоминания Дризула стали подлинной находкой для партийного историка Минца, который всерьез взялся восполнить существенный пробел в биографии Ежова – начало его революционной карьеры. Минц обратился в Институт истории партии при ЦК КП(б) Белоруссии с просьбой найти в архивах хоть что-нибудь, посетовав, что «никаких документов о политической деятельности тов. Ежова в Витебске за 1917 г. у него нет», за исключением записи беседы с самим Ежовым25. Однако и там ничего существенного, кроме приказов по 5-м артиллерийским мастерским, не нашли.
В 1937 году воспоминания Дризула были профессионально отредактированы и с заголовком «Боевые страницы прошлого» отосланы для публикации в журнал «Партийное строительство». Теперь абзац о Ежове заиграл новыми красками: «Многие рабочие этих мастерских знали Николая Ивановича как веселого, общительного человека, умеющего в беседах ставить перед ними остро жизненные политические вопросы и находить на них убедительные правильные ответы. Это был большевистский массовик-агитатор, умеющий организовывать массы вокруг партии Ленина – Сталина»26. Ежов высказался отрицательно о готовящейся публикации. Дризул тут же пожалел о том, что не согласовал передачу рукописи в журнал с ЦК ВКП(б) и 20 ноября 1937 года отослал копию статьи Поскребышеву, приложив покаянную записку27.
В вышедшей в том же 1937 году брошюре «Великая Социалистическая Революция в СССР» Минц продолжал превозносить прошлое Ежова: «Крепостью большевиков в Витебске были 5-е артиллерийские мастерские Северного фронта. Здесь работал путиловский рабочий Николай Иванович Ежов. Уволенный с завода в числе нескольких сот путиловцев за борьбу против империалистической войны, Ежов был послан в армию, в запасной батальон». После забастовки, пишет Минц, «батальон немедленно расформировали, а зачинщиков забастовки вместе с Ежовым бросили в военно-каторжную тюрьму, в штрафной батальон»28. Хотя в действительности нет никаких достоверных свидетельств, что Ежов вообще принимал участие в каких-либо выступлениях солдат. Между тем Минц, живописуя революционные подвиги Ежова, добавляет откуда-то взявшиеся подробности: «Живой, порывистый, он с самого начала революции 1917 года с головой ушел в организационную работу. Ежов создавал Красную гвардию, сам подбирал участников, сам обучал их, доставал оружие»29.
Вступление Ежова в коммунистическую партию произошло при столь же неясных обстоятельствах. Сам он утверждал, что после Февральской революции, 5 мая 1917 года, он вступил в РСДРП(б), ленинскую партию большевиков (или коммунистическую партию, как она стала называться позднее); в анкете начала двадцатых годов он сообщает, что стал членом партии именно с того времени30. Однако в материалах Института истории партии при ЦК КП(б) Белоруссии указывается, что 3 августа 1917 года он вступил в Витебскую организацию РСДРП (интернационалистов), уплатив вступительный взнос и членский взнос за август31. Здесь же напомним, что объединенные интернационалисты, к которым относилась витебская партийная организация, занимали промежуточное положение между большевиками и меньшевиками32.
Согласно изложенной им самим биографии Ежов стал лидером партийной ячейки артиллерийской мастерской № 5, а с октября 1917 по 4 января 1918 года был помощником комиссара, а затем и комиссаром станции Витебск и «организовывал новые партийные ячейки». Говоря о Февральской и Октябрьской революциях 1917 года, в анкете начала двадцатых годов он пишет, что «активно участвовал в обеих революциях», а в другой анкете утверждает, что во время Октябрьской революции участвовал в «разоружении казаков и польских легионеров»33. Минц, развивая тему, особо подчеркивает: «Витебский военно-революционный комитет после восстания в Петрограде не пропускал ни одного отряда на помощь Временному правительству, 1 ноября в Витебске был разоружен казачий полк, спешивший на помощь Керенскому»34.
С легкой руки Минца и другие пропагандисты взялись раздувать революционные заслуги Ежова, приписывая ему руководящую роль в витебской большевистской верхушке: «В Витебске большевики, руководимые Н.И. Ежовым, создали Военно-революционный комитет, который, получив сведения о восстании в Петрограде, стал полновластным органом советской власти»35.
Однако в 1930-х годах в партийных кругах высказывались и иные мнения о «революционном» прошлом Ежова. Бывший кандидат в члены Политбюро Павел Постышев, будучи арестованным, говорил своим сокамерникам: «Кто же не знал в узких кругах партии, что Ежов в белорусских лесах в 1917–1918 годах занимался тем, чем занимался Сталин в Закавказье после первой русской революции – бандитизмом и грабежами»36. Конечно, легендой является и активное участие Ежова в революции 1917 года в Петрограде, как об этом иногда пишут37.
Так чем же в действительности занимался в Витебске Ежов? Архивные материалы, выявленные Институтом истории партии при ЦК КП(б) Белоруссии, подтверждают лишь сам факт его службы в 5-х артиллерийских мастерских. Однако приказом по мастерским от 27 мая 1917 года младший мастеровой Ежов был снят с довольствия по болезни. Следующее упоминание о Ежове мы встречаем лишь в приказе от 6 ноября 1917 года, где он уже числится на работе в канцелярии в должности писаря и назначается в очередное дежурство по мастерским (вышел ли он на это дежурство, не известно). И, наконец, в приказе по 5-м артиллерийским мастерским от шестого января 1918 года по строевой части говорится: возвратившегося по выздоровлению из сводного полевого запасного 708-го госпиталя старшего писаря Николая Ежова «зачислить на провиантское, приварочное и чайное довольствие с 7-го сего января», и тут же в параграфе 6 этого же приказа: «уволенного по болезни в отпуск ст. писаря Николая Ежова исключить из списков мастерской, провиантско-приварочного, чайного, мыльного и табачного довольствия с 8-го сего января, а денежного с 1 февраля с.г.»38. Как видим, Ежов лишь один день мелькнул на службе и тут же убыл в отпуск, получив деньги за период до первого февраля. Больше в мастерских, да и на военной службе его не видели. Сам же Ежов указывает время окончания своей военной службы – май 1917 года – и добавляет, что после этого, «фактически не демобилизованный вел работу в партии и совете»39. Как видим, у Ежова с мая 1917 по январь 1918 года была уйма свободного времени, да и после увольнения в отпуск по болезни еще неизвестно, когда и куда он выехал из Витебска. По крайней мере даже в анкете, заполненной позднее, Ежов, не указал, чем он занимался с января по май 1918 года40. Так что о его участии в «революционных» налетах и о том, что это за «Красная Гвардия», в которой он состоял, стоит еще поразмыслить.
В мае 1918 года Ежов встретился со своей семьей, эвакуировавшейся в Вышний Волочёк Тверской губернии. Здесь он получил работу на стекольном заводе Болотина. Стал членом заводского комитета, а с июня 1918 по апрель 1919 был членом районного комитета. Его отец умер в 1919 году здесь же, в Вышнем Волочке. «В начале 1919 года, – пишет в автобиографии Ежов, – мобилизован на колчаковский фронт»41. Однако повоевать «на колчаковских фронтах» ему не довелось, слесарем-механиком его зачислили в батальон особого назначения в городе Зубцов. Затем с мая 1919 года он служил в Саратове в запасном электротехническом батальоне, где возглавил партийную группу и стал секретарем партячейки военного района (городка). В архиве сохранилась карточка на красноармейца 3-го взвода электробатальона, составленная в июле 1919 года. В графе «адрес» указано: Петроград, улица Подольская, дом 3, квартира 4, Степанида Васильевна Ельцова42. Можно предположить, что по этому адресу Ежов жил в Петрограде в предыдущие годы, а вот кем Ежову приходилась Степанида Ельцова – неясно.
Двадцать лет спустя Владимир Константинов, эвакуировавший батальон из Петрограда в Саратов, рассказал на допросе: «И вот в 1919 году является ко мне такой шпингалет в порванных сапогах и докладывает, что прибыл и назначен ко мне политруком. Я спросил его фамилию, он ответил – Ежов»43.

Солдаты радиотехнической роты отбывают на фронт
(Ежов в середине первого ряда). Казань. Июнь 1920. [РГАСПИ]
Они подружились и прослужили вместе до 1921 года. В августе 1919-го, после эвакуации в Казань, Ежов был назначен военным комиссаром радиотелеграфной школы РККА второй радиобазы, что свидетельствует об исключительно политическом и агитационном характере этой работы. Его образ ярко описывает А. Фадеев: он активно участвовал в сражениях, например в атаке на деревню Иващенково, где он был ранен тремя осколками снаряда, один из которых попал ему в челюсть. «Тяжелое ранение надолго вывело Ежова из строя. На всю жизнь у него остался шрам правее подбородка». Писатель не скупится, рисуя портрет Ежова того времени: «очень еще юный, чернявый парень с густыми черными бровями; мечтательное выражение глаз при сильной складке губ, – лицо одухотворенное, волевое»44.
В феврале 1920 года Ежов получил взыскание от военного трибунала Резервной армии, к которой относилась его база, за недостаточную бдительность, из-за чего в школу было принято несколько дезертиров. Это упущение не повлияло на его карьеру, и в мае он был назначен военным комиссаром радиобазы в Казани45. Хотя его дисциплинированность и усердие в исполнении приказов уже были замечены, его политическая репутация все же была запятнана. В 1936-м при обмене партбилета, заполняя регистрационный бланк, Ежов указал, что он принадлежал к «Рабочей оппозиции» внутри коммунистической партии, но порвал с ней перед Десятым съездом партии в марте 1921-го. Четыре года спустя, перед судом, он говорил, что только сочувствовал оппозиции, добавив, что никогда не был ее членом, а после критических выступлений Ленина в марте 1921 года осознал свои заблуждения и стал придерживаться ленинской линии46. Однако дружеских связей с лидерами «Рабочей оппозиции» он не порывал. А своими корнями эти настроения уходили в дореволюционное прошлое Ежова. Будучи арестованным, чекист С.Ф. Редене показал, что по крайней мере один раз в частном разговоре Ежов хвастался, что когда-то пошел против Ленина и участвовал в полуанархистском движении Яна Махайского47 против интеллигенции – «махаевщине»48. Этот след тянулся за Ежовым всю его жизнь. Своим помощникам по ЦК в середине 1930-х Ежов жаловался, «что ему не раз уже напоминали и ставили в вину 1921 год, когда он примыкал к “рабочей оппозиции”»49.
Удачный этап в карьере Ежова наступил, когда в апреле 1921-го он стал членом бюро и заведующим отделом агитации и пропаганды одного из районных комитетов партии Казани, а в июле получил такую же должность в Татарском обкоме партии. Примерно в это же время он был демобилизован из армии50 и избран в президиум Центрального исполнительного комитета Татарской АССР. В августе, устав от напряженной работы, он получил отпуск и путевку в один из санаториев Москвы для лечения. Затем по рекомендации Центрального комитета партии находился в Кремлевской больнице с 18 января по 13 февраля 1922 года для излечения колита, анемии и катара легких51. Ясно, что тогда он уже был замечен и, по-видимому, в Москве встречался с влиятельными работниками аппарата ЦК Лазарем Каганович и Менделем Хатаевичем, которых, возможно, знал еще с Белоруссии52. В результате он получил руководящий пост: 15 февраля 1922 года секретариат ЦК назначил его ответственным секретарем Марийского обкома партии53. Так как это назначение было довольно значимым, можно предположить, что в это время у него состоялась первая в жизни встреча со Сталиным.

Н.И. Ежов (крайний справа). Казань. 1921. [РГАСПИ]

Н.И. Ежов. Начало 1920-х. [РГАСПИ]
Назначение Ежова в небольшой областной центр – Краснококшайск (в настоящее время – Йошкар-Ола) началось для него с очень крупных неприятностей. В марте бюро обкома избрало его лишь после первоначального отказа, а И.П. Петров, председатель облисполкома, с самого начала занял открыто враждебную позицию, главным образом потому, что Ежов относился к местному языку и культуре как к «национальному шовинизму». Биографы Ежова согласны в том, что «проявились худшие черты его характера», отмечая его «жажду власти, высокомерие, грубость». Он продемонстрировал чисто административный подход, отказываясь принимать во внимание национальные особенности этой автономной области. Даже инструктору из центрального аппарата партии не удалось успокоить волнения среди народа54.
С другой стороны, и сам Ежов тяготился пребыванием в глубинке. В письме к своим друзьям по «рабочей оппозиции» 21 сентября 1922 года он жаловался (орфография и пунктуация сохранены):
«…живу понимаеш-ли ты как “черт” – как таракан на горячей сковородке верчусь, делов до черта, а толку кажется мало. – Дыра скажу тебе здесь, так уж такой дыры не сыщешь наверное во всей РСФСР. Уж подлинно медвежий угол – ведь Краснококшайск (б. Царевококшайск) ты только подумай!
Вот черт возьми и позавидуешь Вам – все можно сказать блага культуры у вас под руками, а тут… э да ну ее к черту уж видно “долюшка” такая. А по правде сказать, так основательно понадоели эти “бухтаномии” пора-бы и на завод. А что то о заводе за последнее время стал скучать основательно пора-бы пора и на отдых, а то совсем можно разложиться в такой обстановочке»55.
В октябре 1922 года Ежов опять попросил об отпуске, снова жалуясь на чрезмерное напряжение сил: «С февральской революции не пользовался отпуском. В феврале месяце с [его] г[ода] прямо из больницы направлен в Мар[ийскую] область. Измотался вконец. В настоящее время болею чуть ли не 7 видами болезней». Бюро обкома согласилось с этой просьбой, предоставив ему месячный отпуск и отпускные в 300 миллионов рублей (для того времени это была небольшая сумма), «ввиду ряда серьезных болезней». Временно его замещал один из коллег56. Он проработал в Краснококшайске лишь семь месяцев.
Но вместо того чтобы отправиться прямо на курорт, Ежов вернулся в Казань, написав в письме: «Татария нравится мне больше Марландии»57. Оттуда он поехал в Москву, где в конце октября присутствовал на заседании ВЦИК. Как утверждают некоторые авторы, на этом заседании Ленин сфотографировался в окружении группы делегатов, и одним из них был Ежов58. Руководство ЦК согласилось не отправлять его обратно в Краснококшайск, а вместо этого, после месячного отдыха, направить на работу в другую область или перевести на другую работу. Дороговизна в Москве времен нэпа была ошеломляющей, и 6 ноября он написал, что «становится почти нетрудоспособным». Затем он отправился в Кисловодск – город-курорт на Северном Кавказе для лечения, хотя у него, как он жаловался в письме к другу, – «не было и медного гроша в кармане»59. 28 ноября он уже был в кисловодском санатории и, скорее всего, обратился с просьбой о продлении отпуска; в телеграмме, отправленной в тот же день, он просит руководство ЦК дать ему знать, если к его просьбе отнесутся положительно60.
Скорее всего, эта просьба была удовлетворена, и его отдых и лечение продолжились. Лишь 1 марта 1923 года на заседании Оргбюро и секретариата ЦК в Москве (с участием Сталина) Ежов был назначен ответственным секретарем Семипалатинского губкома партии на северо-востоке Киргизской (позднее Казахской) Республики61. Хотя сам Ежов на заседании не присутствовал, как это было в 1922 году, Сталин, вероятно, разговаривал с ним по поводу столь ответственного назначения. Ежов получил девять дней отпуска для поездки в Краснококшайск для передачи дел62. Девятого марта в письме бывшему коллеге по работе в Марийском обкоме партии П.Н. Иванову он писал, что слышал, будто «вы убрали Петрова», но, к его неудовольствию, комиссия Оргбюро вновь решила направить Петрова в Марийскую область63. Девять дней спустя Ежов написал, что отправляется в Семипалатинск64.
Так или иначе, Ежов превратил свой месячный отпуск в полугодовой. Создается впечатление, что в это время он был довольно слабым функционером, болезненным и не способным к интенсивной работе. Неудивительно, что о его работе в Марийской области были даны отрицательные отзывы: «Отсутствие достаточной теоретической подготовки и разностороннего организационно-практического навыка не дает возможности тов. Е[жову] сразу ориентироваться в особенно сложной обстановке на руководящем месте. Последнее подтверждается его первыми промахами на первых порах в Мар-области». Как особенность характера было отмечено также «некоторое упрямство, иногда граничащее со вспыльчивостью», вытекающее из «его тяги к единоличию». Ввиду недостаточной теоретической подготовки и «малого опыта руководящей работы», не рекомендовалось выдвигать Ежова на вышестоящие должности, а использовать на второстепенных ролях: заведующего Орготделом или отделом агитации губкома или же секретаря райкома партии65.
Однако к этим рекомендациям явно не прислушались, и 27 марта Ежов подтвердил свое прибытие в Семипалатинск и приступил к работе в качестве секретаря губкома партии66. Как утверждают его биографы, в своей новой должности он опять «проявлял своеволие» по отношению к секретарям райкомов67. Фадеев пишет, что в некоторых районах преобладали антинэповские настроения. Сторонники уравнительного «коммунизма для бедных» провозгласили независимую «Бухтарминскую Республику»68 в северо-восточном Казахстане, и Ежов вскоре обнаружил, что «среди руководителей губернии немало скрытых и явных врагов, сочувствующих восстанию и поддерживающих его». Он отправился во взбунтовавшиеся сельские районы без какой-либо военной охраны. Фадеев писал, что эта поездка была трудной и опасной, и мятежники покушались на жизнь Ежова. Но в конце концов мятеж удалось подавить мирными средствами69. На фотографии того времени Ежов показан впереди группы солдат, возвращающихся после подавления мятежа.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе