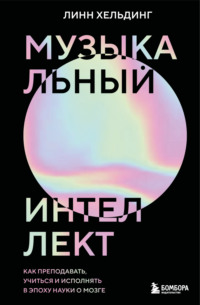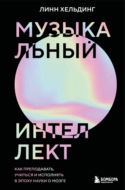Читать книгу: «Музыкальный интеллект. Как преподавать, учиться и исполнять в эпоху науки о мозге»
© Дрозд Алина, перевод на русский язык, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Предисловие
О поломках систем и мозге музыканта
Поломка системы— будь то супружество, тазобедренный сустав или ноутбук – это маленькая катастрофа, которая нарушает обычный порядок вещей. Однако для ученых, исследующих мозг, такие поломки— это бесценная возможность для изучения исправных систем. Согласно этой редукционистской точке зрения, повреждение в части мозга не только показывает, как она должна была функционировать в здоровом состоянии, но и дает почву озарениям, которые происходят при наблюдении за тем, как здоровые части компенсируют функции пораженных.
И рождение науки о мозге, и эта книга частично обязаны своим существованием поломкам. С наукой о мозге был связан ужасный случай, приключившийся с железнодорожным работником Финеасом Гейджом, который выбил себе лобную долю левого полушария головного мозга, когда его металлический трамбовочный стержень для уплотнения порохового заряда высек искру. В случае с этой книгой поломка произошла с моим инструментом.
Будучи студенткой, изучающей музыку и стремящейся построить карьеру в опере, в 1980‐х я уже овладела хорошей и сильной классической вокальной техникой с помощью моего первого учителя по вокалу. Имея за плечами некоторую известность после выступлений и несколько побед в серьезных вокальных конкурсах, я оставила дом, чтобы продолжить изучать музыку в одной известной музыкальной школе. Однако всего после шести недель в студии моего нового учителя я начала терять голос, чаще всего сразу после уроков по вокалу. Логика подсказала мне, что я должна сообщить об этом своему учителю, но я лишь получила выговор за то, что тренировалась недостаточно усердно, и мне было сказано тренироваться еще больше. Послушно следуя этому указанию, я очень скоро заработала перенапряжение голосовых связок.
Так началось мое долгое изучение психологии голоса и научных принципов вокальной деятельности, которые начали исследовать в 1960‐е годы учителя по вокалу Ральф Эпплмен и Уильям Веннард и мастерски развил в 1980‐е вокальный педагог Ричард Миллер. При помощи великолепного специалиста по вокалу, который использовал системную вокальную технику Миллера, я быстро вернула контроль над своим инструментом. Я была убеждена, что научный подход к голосу может помочь преодолеть пропасть между тем, что Миллер окрестил «исторической итальянской школой пения», и настоящим временем и, что еще более важно, что наука может ответить на извечные вопросы и разрешить изнурительные споры. (Что вообще такое «поддержка дыхания»?)
В моей быстроразвивающейся карьере учителя я с большим рвением применяла наставление Миллера о том, что, как учителя, «ради наших студентов мы обязаны пользоваться не только всем, что было известно двести лет назад, но и всем, что известно нам сейчас», и усердно применяла то, что я называла «Теорией аккумуляции»1. Теория была проста: чем больше ты знаешь о психологии голоса и о том, как работает вокальная акустика, тем лучше ты можешь петь и обучать пению. Тогда мне казалось, что важнее всего, что человек знает.
Похожий образ мышления присутствует в педагогике практически всех музыкальных инструментов (по крайней мере, классических семейств инструментов, которые входят в традиционную американскую музыкальную консерваторию), хотя стандартный метод преподавания в этих школах основан на европейской модели передачи знания от учителя к ученику, в которой технические знания передаются студентам очень личными, субъективными и своеобразными способами. Но на каждые десять подобных учителей музыки, которые не учат психологии той части тела, которая необходима для игры на инструменте, приходится хотя бы один педагог, который верит, что знание биомеханики запястья, чувствительных мышц лица, которые участвуют в игре на духовых инструментах, или компонентов дыхания необходимо для развития, заботы о себе, защиты от травм и восстановления в случае поломки системы. Такой тип знаний, на мой взгляд, жизненно необходим для эффективного и гуманного обучения музыке. Действительно, многим в нашей профессии стоит внять древней клятве Гиппократа для врачей: «Primum non nocere», «Прежде всего – не навреди».
Однако, какой метод бы ни выбирали учителя музыки – эмпирический, основанный на их собственном творческом опыте, или научный, построенный на базе знаний, собранных многими людьми за долгое время, – передача знаний от учителя к ученику в конечном счете держится на способности студента усваивать их. Действительно, такая база знаний практически бесполезна для ученика, если он ее не понимает. К несчастью, эта горькая правда дает недолюбливающим науку учителям идеальную причину воздерживаться и от науки, и от «основанной на доказательствах» педагогики.
Тем не менее в каждом семействе инструментов есть некоторое количество музыкантов, которые ревностно преследуют стоящую за их инструментами науку, движимые интересом к научным фактам и беспокойством за своих студентов, очарованные теорией аккумуляции. Однако в конечном счете многие, кто достиг дальнего берега знаний и уберег свой бесценный груз, обнаруживают, что они не могут выставить свой товар на рынок: не могут одинаково быстро и эффективно поместить свои сокровища в головы своих студентов и загнаны в тупик осознанием того, что что ты знаешь как музыкант – это еще не гарантия учительского успеха.
Это открытие приходило ко мне постепенно. Первой стадией было принятие правды, что позволило обнаружить другой вопрос, назойливый вопрос «Как?». Если мы обладаем знанием, как нам посадить и вырастить семя этого знания сначала в головах наших студентов, а затем распространить его на нашу студию и даже дальше, чтобы другие могли получить от него пользу?
Вторая стадия этого открытия настигла меня в Национальном центре голоса и речи, куда я отправилась, чтобы учиться в Летнем институте вокалогии. Доктор Кэтрин Вердолини Абботт в середине своего курса по теории моторного обучения отступила от темы и сказала, что что учителя и клинические врачи знают о голосе не всегда переносится на то, как тренировать голос. Это озарение словно ударило меня молнией. Через попытки осознать свою роль я поняла, что пока ученые преследуют знание ради самого знания (и, как считается, творцы преследуют искусство ради искусства), учителя – особенно учителя искусства – заняты абсолютно уникальной деятельностью. Мы не можем позволить себе роскошь просто накапливать знания или творческий опыт; мы должны понять, как передать их нашим студентам. Преследуя вопрос «Как?», я пришла к выводу, что «что» науки о голосе нуждалось и в системе доставки, и в «приемнике» знаний: человеческом разуме.
Эти осознания удачно совпали с провозглашенным президентом в 1990‐е годы Десятилетием мозга, целью которого было «увеличить осведомленность общества о выгодах, которые можно извлечь из исследований мозга» и «поощрить публичное обсуждение этического, философского и гуманистического значения этих новых открытий».2 Эта инициатива привела в это десятилетие к взрывному росту когнитивистики и нейронауки, который начался в 1950‐е годы после красноречиво названной когнитивной революции. С головой погрузившись в исследование, я предложила когнитивистику как логичное направление для сближения науки о голосе и вокального искусства, так как они были не в ладах более века. 3 Позже я предположила, что в ответ на когнитивную революцию должен произойти сдвиг парадигмы во всей музыкальной педагогике, перемещение фокуса с того, насколько хорошо учителя учат, на то, насколько хорошо студенты учатся; сдвиг с того, что музыканты знают, на то, как их тренируют.
Эта книга – результат более девяти лет исследований в этом направлении. Я надеюсь, что читатель найдет это исследование таким же поучительным, стимулирующим и полезным, как и я в своей жизни творца, музыканта и учителя. С этой целью я предлагаю следующие мысли о применении книги.
Целевая аудитория: Эта книга предназначена для всех музыкантов на всех этапах их путешествия, связанного с учебой, преподаванием и исполнительством, а также для тех, кто учит, любит и воспитывает их.
Музыкальные жанры и стили: Эта книга также предназначена для всех музыкантов всех жанров и стилей музыки. С точки зрения мышления, самое большая пропасть пролегает между письменными и устными практиками. Способность читать нотную грамоту – характерный признак западной классической музыки, однако умение импровизировать на основе заученных музыкальных частей крайне необходимо во многих других музыкальных стилях. Эти несходные практики, по всей видимости, требуют различной умственной гимнастики в зависимости от того, подходит ли музыкант к заученному материалу как к холсту для творения или считывает нотную грамоту, воспроизводя написанное композитором произведение. В обоих случаях мозг показывает свою сетевую коннективность, которая, как считается, является фундаментом всех сложных когнитивных задач. Опять же, когнитивистика предлагает плодородную почву для сближения многих различных музыкальных жанров и стилей4.
Когнитивистика: Многие дисциплины сейчас объединены в направление когнитивистика, а именно нейронаука, когнитивная психология, нейробиология, нейрофизиология, нейролингвистика и эволюционная психология. Так, основатель этой области выдвигал предложение, что более уместно будет назвать ее когнитивные науки, высказывая мнение, что множественное число подчеркнет ее междисциплинарную природу. Тем не менее зонтичный термин когнитивистика– основной термин, использующийся в этой книге. 5 Этот осознанный выбор отражает фокус этой книги на когнитивистике (как мозг обрабатывает информацию), а не на нейронауке (ветви биологии, сфокусированной на анатомии и психофизиологии мозга). Так что в этой книге читатель редко встретит названия структур мозга, а картинки с мозгом, разрезанным, словно кусок говядины, отсутствуют вовсе.
Эксперты и исследования узких тем: Большая часть информации в этой книге о плодотворных методиках практики происходит из области моторного обучения и относительно новой области исследования экспертности. Зачем нам изучать специалистов? По большей части из‐за проницательных наблюдений, качество которых эксперты постоянно стремятся улучшать. Поэтому они и эксперты. А улучшения требуют практически всех качеств, которых сторонится менталитет «не-думай-просто-делай»: саморефлективное мышление, заблаговременное планирование, предсказывание и оценка результатов, контроль за физическими действиями. Так что эта книга предназначена скорее не для музыкантов-любителей, а для экспертов и студентов, занимающихся изучением узких тем – назовем их «искателями экспертности». Насколько далеко ученик готов зайти на пути от новичка до мастера – это в конечном счете личный выбор, но мое мнение таково: очень преданные идее музыканты-любители смогут найти в этой книге многое, что поможет им и доставит удовольствие в процессе создания музыки.
Терминология: Я – певица, воспитанная в западной классической традиции, и я пела и выступала в нескольких разных вокальных стилях: опера, хорал, барочная музыка, мюзикл и джаз. В детстве я также обучалась игре на фортепиано, ударных, скрипке и гитаре. В этой книге я использую общий термин музыкант для обозначения и певцов, и играющих на инструментах, уточняя, о ком именно идет речь, когда это необходимо. Точно так же слово атлет в главах о моторном обучении относится ко всему, что связано с двигательной функцией, а не только к спортсменам. Так что слово атлет относится к музыкантам и танцорам, так же как к бегунам, лыжникам, баскетболистам и так далее.
Местоимения: Принципы когнитивного и моторного обучения в применении к обучению музыке и выступлениям лучше всего иллюстрировать через воображаемые сценарии и истории; так что использование местоимений неизбежно. Я постаралась с одинаковой частотой использовать местоимения он/его, она/ее и они/их на протяжении книги.
Благодарности
Я бы хотела поблагодарить следующие учреждения, организации и людей, которые поддерживали мои исследования:
• Колледж Дикинсон
• Университет Южной Калифорнии, Торнтонская музыкальная школа
• Вестминстерский хоровой колледж Университета Райдер
• Национальную ассоциацию учителей пения
• Фонд «Голос»
• Содружество имени Вана Лоуренса
• Национальный центр голоса и речи и его Летний институт вокалогии
• Панамериканскую ассоциацию вокалогии
• В издательстве Rowman & Littlefield – Натали Мандзюк, редактора приобретений; Майкла Тана, помощника редактора; Келли Хэйгэн, старшего выпускающего редактора; и Джона Шанабрука, копирайтера.
Мне бы хотелось сказать «спасибо» каждому человеку в моей жизни, который стимулировал синапсы в моем мозге. Но я не могу, так что свою искреннейшую благодарность я выражаю тем, чье влияние создало самые прочные нейронные пути. За это я говорю «спасибо»:
• Моим родителям, Роберту и Джоанне, за то, что называют «свободным воспитанием» и что они понимали, как просто нормальное детство. Это было основой всего, что происходило со мной дальше. Как вообще можно сказать «спасибо» за это так, чтобы выразить всю глубину чувств? Вместо этого я регулярно проливаю слезы благодарности, потому что, к сожалению, нормальное не является ни среднестатистическим, ни широко распространенным.
• Моему брату, который научил меня драться как мальчишка. Это умение мне очень пригодилось.
• Моей учительнице по фортепиано, миссис Брэкстон, за то, что настояла на трех уроках фортепиано в неделю.
• Моей учительнице в средней школе, миссис Брэдшоу, которая научила меня писать.
• Покойной Эстер Ингленд, которая научила меня петь так, чтобы мне хотелось быть услышанной.
• Дону Кэри за «эмоции и смыслы в музыке» задолго до того, как я открыла для себя Леонарда Мейера6.
• Инго Титце, который открыл дверь, чтобы совершить прогулку по беспутному кварталу7 с наукой.
• Китти Вердолини Абботт, которая открыла мне мой Святой Грааль, теорию моторного обучения, и поделилась черновиками глав про моторное обучение с нашим классом по вокалогии.
• Покойному Полу Кисгену, который с энтузиазмом поддерживал мою веру в когнитивные науки как в третий столп науки о голосе.
• Дону Миллеру, который ставил под сомнение важность когнитивных наук в области науки о голосе. Вот твой ответ.
• Мередит Миллз за то, что заставляла меня безудержно смеяться.
• Крису Арнесону, который отдавал должное моим идеям, но побуждал меня никогда не забывать о практичности. Дай мне знать, как у меня это получилось, ладно?
• Скотту Маккою, который уговаривал меня опубликовать мой текст и затем сделал это сам.
• Дику Сьёрдсма, который разделял мой энтузиазм в отношении человеческого разума, дал мне вести колонку, а затем пристально следил за моей работой. Я стала лучше как писательница благодаря твоей строгости и твоему интересу к моей работе. Ты сделал «Осознанный голос» по‐настоящему «желательной трудностью».
• Линну Максфилду за то, что взял на себя эту колонку, и за его разъясняющий график, пересмотренная версия которого напечатана в этой книге с его разрешения.
• Эрику Хантеру и Мануджу Ядаву за плодотворные дискуссии о природе звука по электронной почте.
• Всем моим студентам, прошлым и настоящим, которые беспрерывно мотивировали меня отвечать на вопрос «Как?».
• Мелиссе Трейнкман за чтение глав об обучении и за то, что ты сама ненасытно жаждешь учиться. Ты именно та аспирантка, которую я надеялась найти, когда наконец‐то заработала честь обучать других.
• Кристин Ротфусс Эрбст, которая открыла мне разницу между разумом магистра и разумом доктора наук (и огромное пространство между ними).
• Мою коллегу по обучению из Торнтонской музыкальной школы Университета Южной Калифорнии Беатрис Илари, которая прочитала главу «Как работает обучение», напомнила мне о том, что в центре всего находятся эмоции, и затем одобрила написанное.
• Моих коллег из Торнтона, УЮК Петера Эрскина, Рода Гилфри, Уильяма Каненгизера, Стивена Пирса и Антуанетту Перри, которые добросовестно работали над Торнтонским комитетом здоровья музыкантов и делились своей мудростью на тему тревожности во время музыкального исполнения.
• Синди Дьюи, потому что она думает, что любой, кто изучает мозг, должен быть очень умным. Ты моя сестра из другой жизни.
• Моим детям, Клэр и Кинану, которые спускают меня с небес на землю. Как говорилось в «Кожаной Лошади»8, «Настоящность – это то, что происходит с тобой после того, как ты испытываешь любовь ребенка на протяжении очень долгого времени. И это не случается в один момент. Ты приходишь к этому. На это требуется долгое время, и это обычно не происходит с людьми, которых легко сломить, или у которых много острых углов, или с которыми нужно обходиться осторожно». Спасибо, дети, за то, что сглаживаете мои острые углы и заземляете меня.
• О, Блейк Уилсон. Как писал Салман Рушди, «Наша жизнь – это не то, чего мы заслуживаем; она, давайте согласимся, болезненно несовершенна. Песни превращают ее во что‐то другое. Песни показывают нам мир, который стоит нашего томления, они показывают нам, какими мы могли бы быть, если бы были достойны мира». И ты, meine Seele, mein Herz, ты и правда mein guter Geist, mein bess’res Ich9.
Введение
Новое очарование
Человеческий мозг – суперзвезда нового тысячелетия. Этот невзрачный морщинистый комок нервной ткани извлекли из его потайной комнатки на чердаке человеческого черепа и превратили в поп-культурный феномен – сюжет, напоминающий «Золушку».
Эта история началась в последние десятилетия девятнадцатого века, когда физиологические объяснения человеческого поведения начали превалировать над философскими. Лидеры зарождающейся тогда сферы экспериментальной психологии чувствовали необходимость спасти психологию от философии, женить ее на развивающейся биологии и узаконить ее потомство (психологические феномены) путем тщательного исследования в полноценной научной лаборатории, а не на сомнительной кушетке психоаналитика. Эти психологи-экспериментаторы, особенно американской школы, вскоре очистили мозг от разума и изгнали его и его побочные продукты, эмоции и самоанализ, из серьезных научных исследований. Так эфемерный разум был выдворен во внешние сферы психологии, пока материальный мозг, обращенный в рабство авторитетом науки, отбывал свое нудное наказание в течение эры холодной войны бихевиоризма.
Но на заре 1960‐х мозг был освобожден новыми когнитивными науками. И так начался пигмалионский переход. К 1990‐м мозг воссоединился со своим пропавшим разумом и, одетый в кислотные цвета нейровизуализации, дебютировал как звезда бала в честь новой эры, названной его именем, – провозглашенного президентом Десятилетия мозга.
Технологии визуализации, такие как фМРТ, ПЭТ и МЭГ, теперь могут визуализировать мозг в реальном времени, пока он обрабатывает атрибуты человеческого поведения (например, понимание языка), возвышенные произведения человеческой культуры (такие как музыка) и бедствия, которые эксплуатируют наши нейрональные механизмы (азартные игры и зависимость от порнографии). Превращение ранее невидимой для нас активности мозга в зафиксированные изображения, одновременно волнующее и пугающее, манифестирует мантру новой эры науки о разуме: разум – это то, что делает мозг. 10
С самого момента их появления броские картинки «мозгорадуги», сделанные с помощью фМРТ, оказались слишком беспорядочными для того, чтобы быть заключенными в академическую тюрьму. Сила убеждения того, что два психолога окрестили «нейроболтовней» и ее «двоюродным братом, мозгопорно», создала новую сферу нейромаркетинга, которая эксплуатирует очарование и авторитетность этих картинок, чтобы продавать всё – от газировки и машин до политических кандидатов. 11 И как лукавая юная старлетка может превратиться из хорошо продающейся красотки в высококлассную актрису, так и мозг при должной ловкости рук становится предметом для коллекции портретов длиною в целую книгу. 12
Однако популярность мозга не сводится только к фотосессиям. Быстрое прочтение заголовков в Интернете в любой случайный день расскажет вам о новых странствиях любимца СМИ: «Ученые нашли «Точку Бога» в человеческом мозге» или «Кормление грудью делает мозг младенцев больше». Да, есть даже «Атака на подростковый мозг!!».13
Суперзвезда-мозг мелькает в темах исследований так же легко, как поп-звезда меняет кавалеров, и, как настоящая дива, он затмевает всё, с чем встречается в одном предложении, даже темы такие привлекательные, как музыка. Партнерство мозга с музыкой создало поле исследований, названное когнитивной нейронаукой о музыке, которое, как понятно из названия, состоит из когнитивной психологии и нейронауки и посвящено научному исследованию нейробиологии музыки. В этой плеяде музыка ценится в первую очередь за ее способность предложить «уникальную возможность лучше понять организацию человеческого мозга».14 Оставаясь верным себе, мозг крадет всё внимание.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе