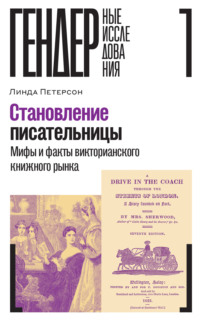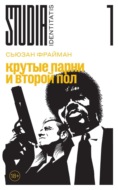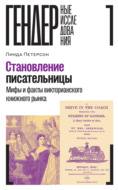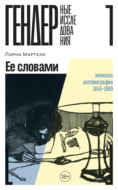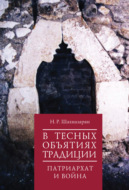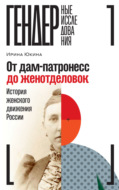Читать книгу: «Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка», страница 3

Рис. 3. Томас Кэмпбелл, Fraser’s Magazine, № 1, июль 1830. С. 714. Предоставлено библиотекой Йельского университета

Рис. 4. Уильям Джердан, Fraser’s Magazine, № 1, июнь 1830. С. 605. Предоставлено библиотекой Йельского университета
Другие негативные примеры мужчин-писателей проявляются в портретах Роберта Монтгомери (№ 20), автора популярной поэмы «Вездесущность Божества и Сатаны» (The Omnipresence of the Deity and of Satan), который самовлюбленно смотрит на себя, восхищаясь собственными байроническими локонами, Эдуарда Булвера-Литтона (№ 27), изображенного на портрете байроническим денди, подстригающим бакенбарды перед большим зеркалом, и Бенджамина Дизраэли (№ 36), в чьем портрете подчеркнуты девичьи локоны, большие глаза и тонкая талия (рис. 5 и 6)21. Как поясняет Фишер, эти сатирические портреты обличают вялых и безвольных писателей-мужчин, они отражают «сексуальные и социальные тревоги», которые вызывали авторы-денди своими томными позами, щегольскими одеждами и женоподобными чертами лица. Тем не менее эти писатели были в действительности популярны, продуктивны и профессиональны – и, возможно, вовлечены в профессионализацию литературы не меньше, чем фрейзериане. Например, Булвер-Литтон активно продвигал «Закон об авторском праве на публичное исполнение драматических произведений» (Dramatic Copyright Act) 1833 года, целью которого было обеспечить автору «любой трагедии, комедии, пьесы, оперы, фарса или другого произведения для театра» исключительное право на него; с 1837 по 1842 год он выступал за национальную реформу авторского права, которую большинство авторов считали необходимой для укрепления основ своей профессии).
Портреты Fraser’s бичуют неугодные им социальные и политические атрибуты, но, кроме того, они высмеивают писателей скромного происхождения, особенно тех, кто поддерживал радикальные перемены или слишком явно стремился повысить свой социальный статус.

Рис. 5. Э. Булвер-Литтон, Fraser’s Magazine, № 27, 6 августа 1832. С. 112. Предоставлено библиотекой Йельского университета
Фрэнсис Плейс (портрет № 66), автор The Principle of Population, подвергается грубым оскорблениям как незаконнорожденный: «Этот герой был найден, как мы полагаем, в мусорном ведре, на ступенях дома в Сент-Джеймс Плейс, около шестидесяти лет назад, честным Чарли, который немедленно передал его в ближайший работный дом, где (поскольку это были непросвещенные времена) любезно позаботились предоставить неизвестному малышу комментарий, противоречащий его мальтузианским принципам и радикально-реформистской политике с ее Законом о бедных», 22. Аларика А. Уоттса, малоизвестного поэта и редактора литературных ежегодников, переименовывают в № 60 – Мистер Аларик Аттила Уоттс, намекая тем самым, что он – северный варвар, разграбляющий цивилизацию. На портрете Маклиза Уоттс «летит вниз по лестнице, держа в каждой руке по картине», то есть незаконно уносит вещи из аристократического дома – крадет «культуру» у ее законных владельцев (рис. 7). В биографии Магинна Уоттса называют «наследником респектабельного ночного служащего по имени Джозеф Уоттс c Новой дороги», то есть сыном сборщика мусора, слишком низкого происхождения, чтобы претендовать на место в профессии. Худшее, по мнению фрейзериан, в Уоттсе то, что он имитатор, подражатель высокой литературной культуры (или, что еще хуже, низкопробный писака). Тем не менее авторы из нижнего среднего и рабочего класса также участвовали в профессионализации писательства в 1830‑х годах (и позже, о чем свидетельствует широко известный пример Чарльза Диккенса). Растущий рынок периодических изданий позволял талантливым людям, обладавшим достаточной энергией и способностями, войти в профессию, не требовавшую наличия университетского образования, дополнительного дохода или привилегированного происхождения.

Рис. 6. Бенджамин Дизраэли, Fraser’s Magazine, № 7, май 1833. С. 6. Предоставлено библиотекой Йельского университета

Рис. 7. Аларик Аттила Уоттс, Fraser’s Magazine, № 11, июнь 1835. С. 652. Предоставлено библиотекой Йельского университета
Неудивительно, что женские портреты писательниц Fraser’s восхваляют красоту, женственность и домашность; они превозносят женщин, работающих в приемлемых, по мнению фрейзериан, жанрах, и высмеивают «гегемонных девианток» (hegemonic deviants), как метко окрестил отступниц Эндрю Даулинг. На групповом портрете Маклиз изображает женщин в модных нарядах 1830‑х годов или в стиле, который был популярным в молодости писательниц. Магинн делает комплименты их красоте, а также «печальным» стихам или «приятным рассказам»: миссис Холл, «такая яркая и привлекательная», «прекрасная L. E. L.» с «лебединой шеей», Каролина Нортон с «сияющими глазами» и «струящимися локонами», «великолепная» графиня Блессингтон и «милая, дорогая» Мэри Рассел Митфорд, «самая веселая из всех, покойно сидящая посреди пышных юбок». Точно так же на отдельных портретах Маклиз показывает писательниц в обычной домашней обстановке: они разливают или пьют чай, ласкают собак, пишут за изящными столиками или (в случае несколько ироничного портрета Сидни леди Морган) смотрятся в зеркало, чтобы поправить шляпку. Эти портреты формируют культ писательского дома, подчеркивают важность публичных персон даже на этой ранней стадии профессионализма и предвещают журналистику знаменитостей, которая будет превалировать в литературной сфере конца XIX века, позволяя читателям заглянуть в частную жизнь авторов. В литературном мифотворчестве Fraser’s портреты создают «приемлемые» версии образов писательниц – женщин, жизнь которых ограничивается домашним кругом и предложенным Марлоном Россом в The Contours of Masculine Desire «культурным пространством» «женской поэзии», характеризующим «относительно ровное идеологическое поле» «поколения писательниц, таких, как Бейли, Хеманс и L. E. L.»23.

Рис. 8. Каролина Нортон, Fraser’s Magazine, № 3, март 1831. С. 222. Предоставлено библиотекой Йельского университета
Тем не менее мы можем задаться вопросом, было ли идеологическое поле 1830‑х на самом деле таким ровным. Если мы будем рассматривать только женские портреты Fraser’s, все так и есть. Портреты подчеркивают женственность натуры и произведений писательниц: начиная с первого женского скетча «№ 10 – миссис Нортон» (рис. 8), изображающего «скромную матрону, которая заваривает утренний чай, обеспечивая комфорт и удобство своему мужу». Ее хвалят за отсутствие «неженственных выходок, которые могли бы стать достоянием сплетников» и призывают продолжать писать стихи или художественную прозу, лишь бы не лезла в политику – это был бы «скандал, как если бы она надела брюки»24. Этот портрет был опубликован в марте 1831 года, до официального развода Каролины Нортон с ее мужем Джорджем и до того, как она начала писать статьи в защиту прав женщин, супруг и матерей. Образы других женщин и их произведений в «портретной галерее» Fraser’s демонстрируют аналогичные примеры: Мэри Рассел Митфорд (№ 12) получает похвалу за очерки о деревенской жизни – «такая милая корзина приятных, сладко пахнущих естественных цветов»; графиня Блессингтон (№ 34) – за «женскую способность различать особенности характеров»; Летиция Лэндон (№ 41) – за то, что пишет о любви, а не о «политике, политической экономии, борьбе и конфликтах»; пожилая мисс Джейн Портер (№ 58) – как «тихая и добродушная леди, довольно набожная» (рис. 9 и 10). Финальный скетч о женщине-писательнице (№ 71 – миссис С. К. Холл) Магинн начинает так:

Рис. 9. Мэри Рассел Митфорд, Fraser’s Magazine, № 3, май 1831. С. 410. Предоставлено библиотекой Йельского университета
«„Слава женщине!“ – это наш постоянный тост. Разве девицы, жены и вдовы этого острова не наша гордость, не отрада наших сердец? Пусть они продолжают, как их матери до них, быть женственными снаружи и внутри!»25
Эти портреты рисуют настолько откровенно идеализированные образы писательниц, что их ностальгическая направленность и кажущаяся безмятежность поля литературы, которую они хотят изобразить, может вызвать вопросы. Что было на кону для Магинна, Маклиза и Fraser’s Magazine? Если их сатирические изображения мужчин-писателей предполагают беспокойство о неподобающей «женственности» этих авторов, то женские портреты предполагают аналогичную тревогу о «мужеподобности» писательниц. Они поощряют женщин «продолжать, как их матери до них» – как если бы такое предостережение было необходимо перед лицом вызовов современности.

Рис. 10. Летиция Элизабет Лэндон (L. E. L.), Fraser’s Magazine, № 8, октябрь 1833. С. 433. Предоставлено библиотекой Йельского университета
В своем исследовании печатных медиа 1830–1870‑х годов Алексис Исли утверждает, что 1830‑е – это именно тот исторический момент, когда можно отметить «нестабильность женщины-автора как объекта критики». В отличие от Марлона Росса, который фокусируется на романтической поэзии, Исли исследует периодику и эссе и находит там не «ровное идеологическое поле», а поле с конфликтами и пересекающимися течениями. «Навязывая понятия мужественности и женственности литературным произведениям и их авторам, – пишет она, – такие периодические издания, как Fraser’s, пытались сформулировать отчетливо выраженную культурную идентичность среднего класса». Таково было предполагаемое культурное назначение портретов писателей. Несмотря на это, «анонимность периодической прессы также позволила многим писателям, особенно женщинам, подорвать гендерные иерархии в своей литературной практике». Так работали реальные условия рынка, и результатом стало крушение идеологии портретов Fraser’s. Женщины могли писать, публиковаться и получать заслуженные деньги и даже славу за работу в периодической прессе – возможно, еще недостаточно, чтобы утвердиться в качестве независимых писательниц, но достаточно, чтобы поставить под сомнение претензии мужчин, которые на тех же условиях называли себя профессиональными авторами.
Fraser’s признает противоречивость литературной среды. Среди портретов женщин-авторов заметным исключением из галереи женственных образов и произведений выступает Гарриет Мартино. В описании к групповому портрету Магинн описывает ее как «задумчивую, мрачную» (при том, что Маклиз изобразил, как она пьет чай и внимательно прислушивается к беседе). В скетче к индивидуальному портрету (№ 42) Магинн выражает отвращение к тому, чтобы «любая дама, старая или молодая» использовала свое перо, чтобы писать «о влиянии рыбной диеты на население» или о «профилактической проверке» Томаса Мальтуса – то есть о политической экономии и контроле над рождаемостью (рис. 11)26. Мартино отходит от господствующей модели женского авторства: она пишет на традиционно нежелательные темы, выходит на политическую арену, где доминируют мужчины, – и, таким образом, воплощает собой новый стиль писательницы, который не одобряет (и боится) Fraser’s. К 1835 году, после финансового и критического успеха ее «Иллюстраций политической экономии» (1832–1834), она уже очень похожа на профессиональную писательницу (и является ею).

Рис. 11. Гарриет Мартино, Fraser’s Magazine № 8, ноябрь 1833. С. 576. Предоставлено библиотекой Йельского университета
Обсуждаемые в главе 2 «Иллюстрации» Мартино вызвали бы гнев Магинна, независимо от того, был ли их автор мужчиной или женщиной. Как документирует в своем исследовании Fraser’s Magazine Мириам Тралл, с самого начала этот журнал включал «многочисленные статьи и пародии, выражающие его протест против материализма политэкономистов». Такой протест занимает самый длинный абзац очерка Магинна с его нападками на Мартино как на «кумира Вестминстерского обозрения» (периодическое издание утилитаристов) и выражением отвращения к тому, чтобы мальтузианские доктрины «повсеместно распространялись, лежали на столах для завтрака молодых и честных и проникали в их умы». Тем не менее я полагаю, что ярость Fraser’s вызывали не только мальтузианские доктрины, журналы и партийная политика утилитаристов. Маклиз рисует Мартино не в домашней обстановке, а в арендованной лондонской квартире, где она кипятит воду для чая и греет ноги у очага. Магинн упоминает «ее чайные принадлежности, ее чернильницу, ее кастрюльку, ее ведерко для углей, ее кресло… все утилитарного вида».
Вот она сидит, – добавляет он, – готовит брошюры, уверенная в одобрении заблудших и сожалении со стороны всех тех, кто испытывает уважение к женскому полу и скорбит о направленном в неверное русло таланте или, по крайней мере, усердии27.
Предметы обихода Мартино, аккуратно выписанные Маклизом, могут быть сколько угодно утилитарными, но, что характерно, ее кресло ровно того же стиля, что и те, в которых за круглым столом восседают мужчины-фрейзериане. Это не высказывается напрямую, но она принадлежит к их кругу, а не к «фрейлинам королевы», чьи богато украшенные стулья символизируют «декоративное» творчество поэтесс и романисток. Мартино перешла от домашней работы к политике, сменив место в семейной обстановке на место в общественной сфере литературы, то есть буквально она переехала из провинциального Нориджа в Лондон в ноябре 1832 года, в арендованные комнаты на Кондуит-стрит, чтобы быть ближе к источникам информации, необходимой для работы над «Иллюстрациями». К моменту публикации скетча она уже обзавелась собственным домом на Флудьер-стрит, где жила с матерью и тетей в качестве компаньонок, – деталь, которую Fraser’s предпочел проигнорировать28.
Так Мартино воплотила возможность, которая начала появляться в публицистике в частности и литературе в целом: профессионализация женщины-автора, карьера писательницы. Процесс профессионализации происходил в течение долгого XIX века, но стал заметен – как демонстрирует Fraser’s – уже в 1830‑х годах. Еще в 1815 году претендующий на аристократичность журнал La Belle Assemblee представил Ханну Мор в своих «Биографических очерках прославленных и выдающихся персон» (Biographical Sketches of Illustrious and Distinguished Characters) как представительницу литературной профессии. Статья хвалила «элегантную простоту», «добродетельные и благочестивые чувства» и «особую грацию женского пера», присущие произведениям Мор, отмечая, что она «сделала значительный вклад в повышение респектабельности и общей значимости профессии, ярким украшением которой являлась»29. Несмотря на общепринятые суждения, замечательно это раннее использование слова «профессия» для обозначения женского авторства, которое появляется в женском журнале, посвященном моде и концепции «леди»30. К началу 1820‑х не только в женских журналах, но и в других периодических изданиях стали выходить статьи про Мор, Анну-Летицию Барбо и их современниц. Мартино анонимно опубликовала в унитаристском Monthly Repository очерк «Писательницы о практическом богословии» (Female Writers on Practical Divinity), в котором рассмотрела вклад Мор и Барбо в повседневную «практическую» религию. Хотя в своей статье автор активно концентрирует внимание на женских обязанностях и «теплоте чувств», обусловливающих тягу к религиозности, Мартино утверждает, что применение библейских принципов в повседневной жизни и морали является одним из величайших достижений женщин-авторов31. Таким образом она фактически признает значимость и авторитетность женского литературного творчества в области религии и культуры. В 1820–1830‑х годах Monthly Repository предоставил возможность для публикации другим женщинам-авторам, включая Сару Флауэр Адамс, Мэри Леман Гримстоун, Летицию Киндер, Эмили Тейлор и Гарриет Тейлор-Милль, которые писали на столь разнообразные темы, как «защитная система морали», «детективная драма» и «мистика Платона». В 1830–1840‑х заказывать статьи у женщин-писательниц начал Westminster Review, в первую очередь у Гарриет Грот, Мэри Шелли и Гарриет Мартино (правда, ни одна из их работ не была подписана, учитывая, что до 1960‑х годов издательства проводили политику анонимности).
Создавая свою литературную карьеру и конструируя себя как профессионального автора – «профессионального сына» и «гражданина мира», как она выразилась в письме 1833 года к своей матери, – Мартино была в авангарде новой фазы женского письма, что мы подробнее рассмотрим в следующей главе. Здесь же я хочу подчеркнуть, что именно предположение Мартино о публичном профессионализме, а не желание писать для рынка периодики, зарабатывать деньги или даже завоевывать литературную славу вызвало беспокойство в литературной среде. И до нее женщины успешно публиковались в периодических изданиях (включая изображенных на индивидуальных и групповых портретах Мэри Рассел Митфорд, графиню Блессингтон и Летицию Лэндон), но их Fraser’s не подвергал порицанию. Митфорд получила существенную прибыль от своей серии «Наша деревня» и ее продолжения, но Fraser’s маскирует финансовый аспект ее литературной работы под метафорой «корзинки», «такой изящной, такой милой, такой аккуратной, такой привлекательной», с которой та «выскочила» на рынок. Позже Магинн признает «прибыльность ее бизнеса», но добавляет, что средства Митфорд тратила таким образом, что, если бы это было известно, это повысило бы ее честь и славу»32. Как было известно ее коллегам-писателям, Митфорд использовала гонорары, чтобы содержать семью после того, как безрассудность отца практически довела их до нищеты. Но Митфорд не трубит на всех углах ни о своих доходах, ни об ошибках своего отца – и за эту скромность удостаивается похвалы Fraser’s: «Мы всегда рассматривали данную тему только с точки зрения того, как она предстает перед публикой»33. И точно так же, поскольку доходы Летиции Лэндон (L. E. L.) от написания рецензий для периодических изданий и другой литературной работы не привлекают внимания общественности, то и ее профессиональная жизнь в Лондоне и проживание в арендованных комнатах в Ханс Плейс (где проживала также ее коллега-писательница Эмма Робертс) ускользает от пера Fraser’s. Вместо этого Маклиз и отец Праут (автор словесного скетча о L. E. L.) представляют ее как поэтессу с фиалкой в руках в знак признания ее самого известного стихотворного сборника «Золотая фиалка» (рис. 10)34. Этот скетч усиливает имидж Лэндон, который она в частном порядке называла «профессиональной» тактикой, когда поклонник пытался утешить ее разбитое сердце, о котором она так часто писала в своих произведениях. Магинн был в курсе материальных аспектов жизни Лэндон, включая ее бедность и пренебрежение общепринятыми нормами сексуального поведения. Но во Fraser’s обходят или утаивают спорные аспекты ее карьеры, поскольку образ Лэндон сохраняет женственность и в глазах общественности, и в ее творчестве. В 1830‑х для женщин, как и для мужчин, ключевыми аспектами профессионального писательства были наличие признания и уважения в обществе, гениальности или умения остроумно выражать свои мысли, а также способности оставаться скромным и не обсуждать свои заработки.
Действительно, социальный статус – это вопрос, который больше всего беспокоит авторов с портретов Fraser’s. Если выражаться в современных социологических терминах, портреты Fraser’s демонстрируют фазу «статусного профессионализма», когда «стиль и манеры» являются «формирующими элементами престижа, а престиж важнее, чем карьера» (фаза «профессионализма специалистов» развернется в середине викторианского периода). Учитывая повышенное внимание к социальным статусам, неудивительно, что иллюстратор Маклиз и редактор Магинн заполняют женский групповой портрет титулованными дамами: графиня Блессингтон, леди Каролина Нортон и Сидни Оуэнсон – леди Морган (получившая титул, когда ее муж, хирург, был посвящен в рыцари). Присутствие высокопоставленных особ придает «фрейлинам королевы» блеск, символом статуса, увы, является и разливающий чай черный слуга. Не случайно и сэр Вальтер Скотт (№ 6) на портрете Fraser’s изображен как баронет, владелец Эбботсфорда, «прогуливающийся по своей усадьбе с шотландским беретом (lowland bonnet) в руке, одетый в старую зеленую куртку для стрельбы, рассказывающий старые истории о каждом камне, кусте, дереве и ручье»35. Баронетство, которое Скотт получил в 1820 году после публикации цикла романов «Уэверли», повысило статус литературной профессии в глазах всех писателей. И портреты фрейзериан были направлены на поддержание этого высокого статуса, исключение недостойных и конструирование концепции авторства, которая сливала в себе гения романтической литературы с новым викторианским идеалом коммерческого успеха, к которому стремился средний класс.
Согласно Бонэм-Картеру (Bonham-Carter V. Authors by Profession. Vol. I. P. 72–73), закон 1833 года был «широко известен как закон Булвера-Литтона». Об участии Булвера-Литтона в национальной кампании по защите авторских прав см. Seville С. Literary Copyright Reform in Early Victorian England: The Framing of the 1842 Copyright Act. Cambridge, 1999. P. 191–192, 204–205, и подробнее Edward Bulwer Lytton Dreams of Copyright: «It might make me a rich man» // Victorian Literature and Finance / Ed. F. O’Gorman. Oxford, 2007. P. 55–72.
[Закрыть]
Illustrations and Proofs of the Principles of Population (1822) – «Влиятельные и противоречивые иллюстрации и доказательства принципов народонаселения», единственная опубликованная книга Плейса. – Примеч. пер.
[Закрыть]
Honest Charlie – простофиля, честный дурак. – Примеч. пер.
[Закрыть]
Мальтузианство – демографическая и экономическая теория, согласно которой население, если его рост ничем не сдерживается, увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как производство средств существования (прежде всего, продуктов питания) – лишь в арифметической, что неминуемо должно было привести к голоду и другим социальным потрясениям. В XX веке с появлением новых средств производства и демографическим переходом эта теория была опровергнута. – Примеч. пер.
[Закрыть]
Закон о бедных, известный как New Poor Law, – английский закон 1834 года, радикально изменивший законодательство о бедных и централизовавший систему социальной помощи. – Примеч. пер.
[Закрыть]
Эндрю Даулинг использует это обозначение в Manliness and the Male Novelist in Victorian Literature. Aldershot, 2001; Фишер использует его для описания авторов-мужчин, которых Фрейзер высмеивает за женственность.
[Закрыть]
Алексис Исли обсуждает рост этого явления позже в XIX веке в The Woman of Letters at Home: Harriet Martineau in the Lake District // Victorian Literature and Culture. 2006. № 34. P. 291–310. Исли фокусируется на литературном туризме, рост которого начался в 1840‑х годах, в частности благодаря книге Уильяма Хоувитта Homes and Haunts of the Most Eminent British Poets, 2 vols. London, 1894.
[Закрыть]
Анна Мария Холл, публиковавшаяся под именем мужа, литератора Сэмюеля Картера Холла. – Примеч. ред.
[Закрыть]
Easley A. First-Person Anonymous. P. 26, 30. В конце главы «Рождение традиции: создание культурного пространства для женской поэзии», в которой он прослеживает движение от кружка «Синих чулок» до «относительно ровного идеологического поля» (p. 202) 1830‑х годов, Марлон Росс признает, что переход от разговора к печати начинает «разрушительное движение» и что женщины теперь должны «рисковать прибылью или крахом на литературном рынке» (p. 230).
[Закрыть]
Thrall M. M. Rebellious Fraser’s. P. 129. Глава «Осуждение политических экономистов» подробно описывает позицию Уильяма Магинна, Майкла Сэдлера и Томаса Карлайла против экономических радикалов и их подхода (альтернативного подходу тори) к более гуманному обращению с бедными, населением и последствиями промышленной революции.
[Закрыть]
В оригинале duodecimos – книги в двенадцатую долю листа, который использовали для печати карманных изданий; именно в такой форме дешевых изданий выходили многие из текстов Мартино. – Примеч. пер.
[Закрыть]
Английский текст обыгрывает совпадение слов «утилитарный» и «утилитаристский», так как Мартино в то время причисляла себя именно к этому движению. – Примеч. пер.
[Закрыть]
В The Dissidence of Dissent: The Monthly Repository, 1806–1838. Chapel Hill, 1944 Фрэнсис Э. Минека перечисляет имена и вклад авторов; см. главу Identification of Authorship, p. 394–428. Monthly Repository печатал таких известных авторов-мужчин как Ли Хант, Уолтер Сэвидж Лэндор, Генри Крэбб Робинсон и Роберт Браунинг.
[Закрыть]
The Wellesley Index to Victorian Periodicals (онлайн) показывает, что в дополнение к Грот, Шелли и Мартино женщины-авторы в 1830–1840‑х часто писали анонимные обзоры и что это часто приводило к полноценным публикациям, как в случае с Анной Марией Холл, Кэролайн Линдли и Маргарет Милн.
[Закрыть]
Имеется в виду, что вместо того, чтобы быть «любящей дочерью» или «заботливой матерью», Мартино таким образом позиционировала себя как человека, преуспевающего в профессиях, которыми традиционно владели мужчины, и становилась профессиональным автором – «профессиональным сыном». – Примеч. пер.
[Закрыть]
Фраза появляется в Elliott P. The Sociology of the Professions. New York, 1972, который различает «профессионалов по статусу» и «профессионалов по роду деятельности», и у Rothblatt S. Tradition and Change in English Liberal Education: An Essay in History and Culture. London, 1976, чьи слова со с. 184 я цитирую. Стефан Коллини описывает переход от старой модели профессионализма к новой в Leading Minds, первой главе Public Moralists: Political Thought and Intellectual Life in Britain, 1850–1930. Oxford, 1991. P. 27–33.
[Закрыть]
В английском литературоведении принято выделять романы, начиная с дебютного «Уэверли», авторство которых Скотт не признавал до 1827 года, в отдельный длинный цикл. Первые несколько романов были подписаны «Автор „Уэверли“», отсюда и название. К нему, в частности, принадлежат романы «Роб Рой», «Айвенго» и «Квентин Дорвард». – Примеч. ред.
[Закрыть]
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе