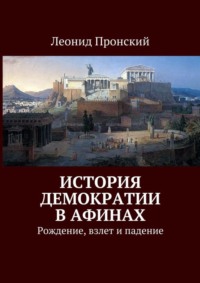Читать книгу: «История демократии в Афинах. Рождение, взлет и падение», страница 2
Весь этот одаренный народ, склонный к безудержному новаторству, можно назвать коллективным Тезеем. И вся их великая история представляет собой цепь беспрерывных драматических приключений, которым дивилась вся Греция (и удивляется до сих пор весь мир).
Что же произошло в Аттике после Тезея?
2. Упразднение царской власти и правление архонтов
Сохранившиеся на этот счет легенды содержат больше причудливого вымысла, чем реальной исторической информации. Тезей якобы вновь отправился в странствия по Греции – продолжать свои знаменитые подвиги, и пережил еще ряд нелепых приключений. Попал в плен, из которого его вызволил Геракл. Потом он вернулся в Афины, но был изгнан оттуда какими-то соперниками и погиб на чужбине.
Наиболее осмысленную и правдоподобную, на наш взгляд, реконструкцию описанных выше событий и последующей истории Аттики до знаменитых реформ Солона дает Фюстель де Куланж. «Древние предания, – пишет он, – на языке последующих поколений выражают примерно следующее: «Тесей изменил форму правления в Афинах с монархической на республиканскую». Об этом говорят Аристотель, Исократ, Демосфен и Плутарх. И это действительно так. Тесей, как говорит предание, «передал верховную власть в руки народа». Только слово народ, сохранившееся в предании, во времена Тесея имело несколько иное значение, нежели во времена Демосфена. Народ, или политический орган, был не чем иным, как аристократией, то есть объединением глав отдельных родов.
Учредивший это собрание Тесей не был добровольным новатором. Помимо его воли созданное объединение изменило форму правления. Как только эвпатриды, сохранившие власть в своих семьях, объединились в одну общину, они образовали могущественное сообщество, имевшее права и способное выдвигать требования. … Эвпатриды сожалели о настоящей царской власти, которой каждый из них до этого времени обладал на своей земле. Похоже, что эти воины-жрецы, прикрываясь религией, заявили, что уменьшилось влияние местных культов. Если справедливо утверждение Фукидида относительно того, что Тесей пытался уничтожить местные пританеи, то неудивительно, что он восстановил против себя общественное мнение. Нельзя сказать, сколько ему пришлось выдержать столкновений, сколько пришлось подавить восстаний, хитростью или силой, но точно известно, что в конце концов он потерпел поражение, был изгнан из Аттики и умер в изгнании.
Теперь власть была в руках эвпатридов; они не уничтожили царскую власть, но сами выбрали царя – Менесфея9. После Менесфея власть опять захватил род Тесея и сохранял ее в течение трех поколений. Затем власть перешла к роду Мелантидов10. По всей видимости, это был весьма беспокойный период, но не сохранилось никаких точных свидетельств о гражданских войнах того времени.
Смерть Кодра (последнего наследственного и полновластного царя Аттики – Л.П.) совпала с окончательной победой эвпатридов. Они и на этот раз не уничтожили царскую власть, поскольку это им запрещала религия, но отняли у царя политическую власть. Путешественник Павсаний, живший намного позже этих событий, но тщательнейшим образом изучивший древние предания, пишет, что в те времена царская власть потеряла большую часть своих прав и «стала зависимой», а это означает, что с этого времени она стала подчиняться сенату эвпатридов. Современные историки называют этот период афинской истории периодом архонтов и почти никогда не забывают подчеркнуть, что в то время царская власть уже была уничтожена. Это не совсем верно. Потомки Кодра еще на протяжении тринадцати поколений наследовали от отца к сыну. Они все носили титул архонта, но есть древние документы, в которых их называют царями, а мы уже говорили, что эти титулы полностью тождественны. Таким образом, на протяжении этого длительного периода в Афинах были наследственные цари, но лишенные политической власти и имевшие только жреческие функции. Точно так же, как в Спарте.
По прошествии трех столетий, – продолжает Фюстель де Куланж, – эвпатриды сочли, что религиозная власть царя сильнее, чем им бы хотелось. Они решили, что один и тот же человек не может быть облечен этим высоким религиозным саном более десяти лет, однако продолжали считать, что только древний царский род способен исполнять обязанности архонта.
Прошло около сорока лет. И вот однажды царская семья осквернила себя преступлением, значит, решил народ, она больше не может выполнять жреческие функции, и впредь архонты не должны избираться из царского рода, а это звание должно стать доступно любому из эвпатридов.
Прошло еще сорок лет, и, чтобы еще больше ослабить царскую власть или чтобы разделить ее между большим числом людей, избрание совершалось на годичный срок, и власть поделили между двумя людьми. До этого времени архонт был одновременно царем, а теперь эти титулы разделили. Один магистрат, называвшийся архонтом, и другой, называвшийся царем, разделили между собой права древней религиозной царской власти. Обязанность следить за тем, чтобы не пресекались роды, разрешать или запрещать усыновление, решать вопросы, связанные с завещаниями, недвижимой собственностью, одним словом, решение всех вопросов, в которых была заинтересована религия, возложили на архонта. Обязанность совершать жертвоприношения и выносить решения по делам, связанным с нечестием, оставили за царем. Таким образом, царский титул – священный и необходимый религии – продолжал существовать в городе наряду с жертвоприношениями и национальным культом. Царь и архонт вместе с полемархом и шестью фесмофетами, которые, возможно, существовали с давних пор, были девятью ежегодно избираемыми должностными лицами; было принято называть их девятью архонтами»11.
Изложение Фюстель де Куланжа страдает некоторыми фактическими неточностями, уже исправленными более поздними историками, но оно более верно и точно передает сам дух и саму логику социально-политических преобразований, происходивших в Аттике в эпоху архонтов.
Итак, древнейшая монархическая власть в Аттике исчезла в XI в. до н.э. вместе с гибелью последнего царя Кодра (в 1068 году до н.э.). Вероятнее всего, его (так же, как и последнего римского царя Тарквиния) погубили сами же эвпатриды, сложившие потом красивую легенду о его героическом самопожертвовании. Легенда эта гласила, что Кодр, получивший оракул о том, что Афины не будут захвачены дорийцами, если погибнет их царь, переоделся в одежду дровосека и пошел в стан врага, где и нашел свою смерть. Дорийцы, действительно, не стали завоевывать Аттику (земли которой были недостаточно плодородными). Но во времена их нашествия из материковой Греции в Аттику хлынули новые волны беженцев и переселенцев, спасавшихся от завоевателей, что должно было сильно увеличить население страны. Прибывали они и целыми родами, один из которых – род Нелеидов – даже стал в Аттике царским (из него и происходил сам Кодр). Но в основном это были разрозненные семьи, пополнявшие там сословие метеков. Продолжая традиции Тезея, эвпатриды принимали их на правах свободных, хотя и неполноправных жителей страны.
Но после гибели Кодра Аттика стала аристократической республикой. Ее исполнительные власти стали теперь не наследственными, а выборными. Верховная власть принадлежала наследственному сословию эвпатридов, но для управления страной они выбирали из своей среды троих правителей – архонтов. Один из них считался архонтом-царем (глава религиозного культа); другой был архонтом-полемархом, ведавшим всеми военными делами и отношениями с иностранцами; третий – самый поздний и сделавшийся со временем самым главным, называвшийся «архонтом-эпонимом», – ведал всеми гражданскими делами. Аристотель утверждает, что сначала выделилась должность полемарха («ввиду того, что некоторые из царей оказались в военных делах слабыми»), второй – должность архонта-эпонима (это произошло уже при сыновьях Кодра Медонте и Акасте), но значение ее возросло уже в более позднее время.
Сначала эвпатриды избирали архонтов пожизненно.
Но в 752 году до н.э. они стали избирать их на десятилетний срок.
А в 682 году до н.э. их стали избирать всего на один год.
И в этот период количество архонтов возросло до девяти человек. К трем старшим должностям добавили еще шесть младших – «архонтов-фесмофетов», которые занимались систематизацией правовых норм и руководством в судах.
Таким образом, в VII в. до н.э. архонтов стало уже девять.
Сама по себе выборность архонтов не противоречила представлениям о божественном происхождении власти, так как каждый из эвпатридов считал себя наследником власти, полученной его предками непосредственно от Зевса. И выбирали они только из своей среды – среди равных. Скорее всего, они хотели просто править страной все по очереди, потому и ввели годичный срок отправления должностей (чтобы все успели поправить).
Непонятно только, почему архонтов стало именно девять, а не, скажем, четыре (по числу фил) или двенадцать (по числу фратрий)? Вероятнее всего, это число было установлено в соответствии с числом муз, которых, по представлению греков, было именно девять (Клио, Евтерпа, Талия, Эрато, Полигимния, Урания, Мельпомена, Каллиопа и Терпсихора). Все музы находились в подчинении у Аполлона, которого считали своим прародителем вообще все ионийцы (по их преданиям, Ион был сыном Аполлона). Аполлон был и личным покровителем Тезея – под его покровительством Тезей убил Минотавра и упорядочил законы в Афинах12. Аполлон также особо покровительствовал и жрецам, позволяя тем через сивилл пророчествовать о будущем. Архонты же воспринимали себя в первую очередь как жрецов, имеющих особо близкое отношение к богам вообще и к Аполлону, в частности. Видимо, поэтому они и установили для своей коллегии численность именно в девять человек. Это число носило для них специфически «аполлоновский» характер.
Причины и обстоятельства этих реформ историкам не известны, так как от той эпохи – с XI по VIII вв. до н.э. – до нас не дошло почти никаких свидетельств, – ни письменных, ни устных, – отчего она и получила название «темных веков». Фюстель де Куланж дает этому то объяснение, что эвпатриды, захватившие власть в Аттике после Кодра, стали уделять основное внимание своим областным, местным интересам, а роль столицы и горожан в целом в стране резко упала. Эвпатриды якобы вернули страну к патриархальным порядкам (ради возрождения которых они и свергли царей) и погрузили страну в «идиотизм деревенской жизни», отчего ее политическое развитие сильно замедлилось. Современные историки связывают «темные века» с нашествием отсталых дорийцев, вернувших всю материковую Грецию в варварство (подобно тому, как это было позднее при нашествии отсталых германцев в Западную Римскую империю).
Однако возможно и то объяснение, что этих «темных веков» в истории Аттики вообще не было, а ее хронология здесь была искусственно удлинена позднейшей традицией. Ведь, в отличие от остальной материковой Греции, Аттика не подвергалась нашествию дорийцев. В биографии Кимона Плутарх пишет, что тот возвратил предполагаемые останки Тезея на родину (в 475 г. до н.э.) «по прошествии без малого четырехсот лет после смерти героя»13. Если это так, то смерть Тезея следует относить к 870-м гг. до н.э. и, следовательно, он жил не в XIII, а всего лишь в IX в. до н. э. В таком случае в хронологию Аттики искусственно добавлено около 350 лет, которые как раз и приходятся на «эпоху архонтов», от которой, поэтому, и не осталось почти никаких свидетельств. Эта эпоха заняла в истории Аттики в несколько раз меньше времени, чем ей приписывает традиция.
Как бы то ни было, но после Кодра Аттикой правили архонты, избрание которых претерпело со временем указанные выше изменения.
В этот период население Аттики (как и остальной Греции) постепенно переходит к образу жизни, основной которого становится мирная хозяйственная деятельность, а не военная, как в гомеровские времена. Этот переход отражается и в формировании позднего цикла гомеровских поэм «Одиссеи» (в которой война уже отодвинута на второй план) и в написании поэм Гесиода (VIII – VII вв. до н.э.), посвященных уже исключительно мирной жизни и занятиям сельского хозяйства. В «Илиаде» Гомера воспета война и бранные подвиги басилевсов, стоящих во главе своих родовых ополчений, в «Трудах и днях» Гесиода, написанных мирным земледельцем и для земледельцев, прославляется сельский труд, морская торговля излишками и скопидомство, а воинственные басилевсы осуждаются и поносятся за их вздорность, несправедливость и «дароядство».
В качестве компенсации за ослабление роли войны греческая аристократия развивает культ спортивных состязаний, главными из которых становятся всегреческие состязания в Олимпии, проводимые раз в 4 года (с 776 г. до н.э.). А главным видом состязаний на этих играх становится чисто аристократический бег на колесницах (прославленный еще у Гомера в XXIII песне его «Илиады»).
Переход к мирной жизни приводит к сильному демографическому всплеску и быстрому росту населения Аттики, что порождает многие социально-имущественные проблемы и становится основой новых конфликтов.
По-видимому, на этот же период приходится также и ослабление власти старших ветвей в аттических родах (изживание права первородства). «В разных городах, – пишет Фюстель де Куланж, – эти перемены происходили в разное время. В некоторых городах право первородства охранялось законом довольно длительное время. В Фивах и Коринфе это право существовало еще в VIII веке. … В Спарте право первородства сохранялось до победы демократии. Были города, в которых оно исчезло только в результате восстания. В Геракле, Книде, Истросе и Массалии младшие ветви семьи (рода) взялись за оружие, чтобы одновременно уничтожить отцовскую власть и право первородства. С этого времени греческие города, насчитывавшие не более сотни человек, обладавших политическими правами, теперь насчитывали пятьсот и шестьсот граждан. Все члены аристократических семей стали гражданами, и им был открыт доступ в сенат и магистрат»14.
Добавим к этому, что Гесиод, небогатый беотийский землевладелец, в «Трудах и днях» советует читателям (слушателям) иметь не более одного сына15, чтобы не приходилось делить землю. Значит, право первородства в Беотии (может быть, еще не во всей) к тому времени было уже изжито. В то же время, сам Гесиод, был, видимо, старшим сыном и именно поэтому он воспринимает как страшную несправедливость то, что его младший брат, Перс оттяпал у него по суду часть отцовских земель. Вся гесиодовская поэма и посвящена, как раз, нравоучительным наставлениям этому «непутевому» брату, которому отсуженное у Гесиода имущество не пошло впрок.
Несомненно, нечто подобное должно было происходить и в Аттике, что и позволяет объяснить изменения, происходившие там в выборах архонтов. А именно, – поскольку представители младших ветвей в Аттике добились уравнения в правах со старшими ветвями, то и власть в родах, фратриях и филах должна была стать теперь не наследственной, а выборной. Последнее, в свою очередь, должно было отразиться и на порядке замещения должности архонтов, которые теперь тоже становились выборными. Возможно, в этот же период звание эвпатридов было распространено на всех членов аттических родов, а не только на их глав (представителей старших ветвей). С этого момента, видимо, и знатность у афинян стала передаваться не только по отцу, но и по матери.
В период правления архонтов в Аттике происходило, как это явствует из последующих событий, и дальнейшее ослабление имущественных обычаев и норм родового строя. В роде усиливались права отдельных семей и ослаблялась родовая солидарность. Род перестал заботиться о материальном благополучии своих членов, и, как следствие, – стало возрастать имущественное неравенство среди сородичей. Оно существовало в родах еще с гомеровских времен. Но тогда имущественно выделялись лишь семьи царей, басилевсов, а все остальные сородичи имели примерно равные земельные наделы. Теперь же стали выделяться богатством и некоторые, наиболее удачливые семьи из младших ветвей.
Тому же способствовали и новые правила получения наследства в родах – теперь имущество умершего главы семьи не передавалось целиком старшему сыну, а делилось между всеми его сыновьями (однако старший сын, все же, наследовал дом отца и большую часть земель и другого имущества). В этом Аттика стала сильно отличаться от Спарты, в которой право первородства сохранялось в неизменном виде.
В итоге, к концу VII века до н.э. на одной стороне родовых общин выделилось сверхбогатое меньшинство, прибравшее к рукам земельные наделы («клеры») своих сородичей, а на другой – большинство потерявших эти наделы и вынужденных теперь либо арендовать землю у первых, либо даже батрачить на них. Обедневшие сородичи назывались общим именем «фетов», а разбогатевшие – «всадниками». Сохранившие же средние по размеру наделы назывались «зевгитами».
Эти названия сложились под влиянием практики формирования народного ополчения, постоянно призывавшегося архонтами к военным походам в защиту своей страны или для нападения на соседей. Вообще, древние античные полисы даже и в мирной жизни представляли собой как бы армии, временно распущенные по квартирам. Небольшие размеры этих государств делали необходимым для каждого их жителя быть не только земледельцем, но и воином, готовым защищать свою землю от чужеземцев. Более того, состояния мира и войны для этих людей были относительными, неустойчивыми и непрерывно переходящими друг в друга. Поэтому их армейская иерархия и соответствующие воинские «звания» сохранялись и в мирное время и учитывались в их отношениях друг с другом.
Самые богатые ополченцы могли обеспечить себе конное вооружение, и потому и назывались всадниками – этим словом обозначался их военный и одновременно гражданский статус. В гомеровские времена всадники воевали еще на колесницах, и все они были из царских родов и их старших ветвей. Однако к VII веку до н.э. колесницы уже вышли из употребления на войне (сохранив свой наивысший престиж лишь на Олимпийских играх) и эвпатриды стали просто всадниками (кавалерией).
Средние по имущественному положению сородичи могли обеспечить себе полное вооружение пехотинца, воевавшего в составе фаланги. Гомеровские герои сражались нестройными толпами, столкновения которых разбивались на множество поединков, в которых главными, естественно, считались поединки самих басилевсов и вообще – аристократов. У каждого аристократа было свое индивидуальное оружие, отделанное по его личному вкусу. Фаланга же – это упорядоченный строй действующих слаженно, вооруженных унифицированными длинными копьями и короткими мечами и защищенных панцирями и круглыми щитами воинов-«гоплитов». Считается, что фаланга (и соответствующая тактика сражения с противником) была изобретена в VII в. до н.э. в Аргосе при тиране Федоне и быстро распространилась затем по остальным греческим полисам ввиду ее явного превосходства над нестройными ополчениями, возглавляемыми героями-аристократами. С появлением фаланги аристократы должны были стать в общий строй (или пересесть на лошадей). По объяснению Э. Р. ф. Штерна и Цихориуса, приводимому Бузескулом, зевгит – значит «рядом стоящий», «находящийся в ряду», «рядовой», то же, что и гоплит16.
Бедные ополченцы могли вооружиться только пращами и луками, и воевали в легкой пехоте, действовавшей рассыпным строем и имевшей подсобное значение. Поскольку исход сражений в те времена решали в основном кавалерия и фаланги гоплитов, то легкая пехота пользовалась наименьшим престижем, как и составлявшие ее бедняки.
Однако внутри родов к тому времени возникло, по-видимому, еще и иное деление. Фюстель де Куланж считает, что в ранней древности в Греции так же, как и в Риме, существовало деление на «патронов» и «клиентов». Греческими аналогами патронов были, по его мнению, эвпатриды, а клиентов – феты. «Клиенты, – говорит Фюстель де Куланж, – это низший класс. Клиент стоит ниже не только главы семьи основной ветви, но и членов младших ветвей. Разница между ними в том, что член новой ветви в восходящем ряду предков всегда находит pater, то есть главу семьи, одного из тех божественных предков, которого семья призывает в своих молитвах, и, поскольку он происходит от pater, то называется patricius. Сын клиента, напротив, сколько бы ни восходил по своей родословной, не мог встретить никого, кроме клиента или раба. Среди его предков не было pater. Отсюда более низкое положение, состояние подчиненности, изменить которое было не в его силах»17.
Если Фюстель де Куланж прав, то феты в Греции никогда не принадлежали к полноправным сородичам, и, следовательно, были таким же дискриминированным сословием, как и метеки. Но, в отличие от последних, они были приняты в род в качестве его специфических, ущербных членов. Метеки были вообще «чужие» (чужеродные), а феты – «свои», хотя и неполноправные. Они были допущены к отправлению родовых культов, но не были допущены к владению землей и имуществом рода. Видимо, они не могли и вступать в браки с полноправными членами рода.
Но, как могло возникнуть такое сословие?
Оно могло возникнуть только двумя путями. Во-первых, феты могли быть потомками патриархальных рабов, принятых в семью и род еще в гомеровский период на правах «слуг». Такие слуги постоянно фигурируют в «Одиссее» Гомера, где они мечтают о том, что хозяин за хорошую службу даст им в конце концов жену и выделит земельный участок для пропитания. Если такое случалось, то эти слуги оказывались живущими внутри аттических родов на выделенных им землях, за которые, однако, они должны были отдавать их хозяевам большую часть урожая. Во-вторых, они могли быть потомками примаков или изгоев из других родов, принятых в род сразу же с выделением им небольших земельных участков и жен из женщин данного рода. Правда, они могли еще быть и закабаленными пеласгами, видимо, – истинными автохтонами Аттики, покоренными ахейцами в XIV – XIII вв. до н.э. во время их вторжения в Грецию (в таком случае становится более понятным название закабаленного сословия «пелатов», буквально: «соседей»). Но, в любом случае, феты не были полноправными членами родов. При этом, самое главное, – они не могли быть собственниками земель рода, а могли быть только ее держателями, арендаторами и т. п. Они занимали некоторое среднее положение между рабами и свободными.
Но, кроме фетов, как уже отмечалось выше, в стране существовало еще и огромное множество (от четверти до половины свободного населения) собственно метеков, не допущенных не только к владению землей и другой недвижимостью, но и к родовым очагам и культам автохтонных родов (а у каждого рода в Греции были свои «родовые», местные Деметры, Аполлоны, Зевсы и т.д.) и потому живших в основном в городах, где они занимались ремеслами, рыболовством, мореплаванием, торговлей и т. п. Эти люди также не пользовались никаким престижем по причине своего «неблагородного» происхождения. Они не имели своих местных богов, местных святилищ, своих жрецов и т. д. И в силу этого они были отстранены от участия в принятии политических решений, от выборов должностных лиц и т. д.
Таким образом, дискриминация свободных жителей Аттики в тот период осуществлялась не только и не столько по имущественному состоянию, сколько по их происхождению. Современные историки, под влиянием древних писателей, которые уже сами плохо разбирались в этом, склонны уделять внимание почти исключительно первому виду дискриминации и почти не обращают внимания на второй, тогда как для того времени именно он имел определяющее значение. При этом положение не входивших в состав рода было намного тяжелее, чем положение полноправных бедняков. О последних заботились не только государство, но и сородичи. Тогда как первые могли надеяться только на самих себя и совсем немного – на государство.
Рабы же в том обществе были дискриминированы полностью. Они не имели не только политических, но и экономических прав. Однако рабов в Аттике того времени было еще совсем немного (их массовый наплыв в Грецию начнется только в эпоху греко-персидских войн).
Что же касается верховной политической власти, то концу VII века до н.э. архонтов в Аттике уже выбирали ежегодно, но избирали их теперь не все эвпатриды, а лишь те, которые входили в Верховный Совет («Ареопаг»). Сам же этот Совет пополнялся за счет архонтов, отбывших годичный срок на своей должности и не запятнавших себя преступлениями или дурным правлением. В результате, аристократическая форма правления в Аттике выродилась в конце концов в узкую аристократическую олигархию. Ареопаг избирал архонтов и тем самым – самого себя. Это была уже не аристократическая республика, а что-то вроде олигархической династии. И, как явствует из последующих событий, основная масса населения (включая и многих эвпатридов, оттертых этими олигархами от власти) была уже остро недовольна сложившимся государственным строем, а выход из положения видела, по-видимому, в возврате к власти царей.
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе