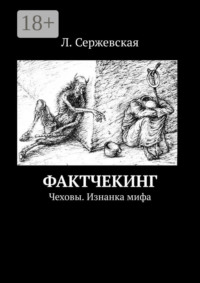Читать книгу: «Фактчекинг. Чеховы. Изнанка мифа», страница 2
Но Эдмунд Рудольфович Рейтлингер, человек ответственный, к преподавательскому составу «вверенной ему гимназии» относился ревностно и видел, с кем имеет дело. Да и какого серьёзного работодателя может заинтересовать студент-выпускник без аттестата, прошедший четыре курса университета за семь лет!
В результате:
«У Директора я был во время его завтрака, но к столу допущен не был».
Место нашлось в Таганрогской складочной таможне. Там в связи с прошедшими скандалами о хищениях появились вакансии.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ
– жаловался он. «Милый папа! Жалованье получаю ограниченное, благодаря Университету, который не высылает Таможне моих документов, чем просто губит меня, потому что уже второе тысячное место уплывает от меня благодаря отсутствию документов»,
И с горькой иронией писал брату Ивану:
. «Я – самый настоящий чиновник. Получаю жалованье, чины, ордена и получу пенсию, если доживу до 100 лет. Встаю рано, с должности прихожу поздно и имею массу свободного времени… Помышляю заняться переплетничеством»
«Мы живем, здравствуем и мучаемся с прислугой. Анна здорова, дочка растет. Завел кур, дрожу над каждым яйцом и, в общем, сильно напоминаю своего Фатера.
По службе я – на точке замерзания: т.е. на таком месте, где я могу без повышений проторчать и месяц и двести лет. Начальством и судьбою доволен и мало по малу облениваюсь в благодушного щедринского обывателя».
Это было крушение.
Преданная мечта об «ординарном профессоре математики» обернулась горькой реальностью, ненавистным чиновничеством. «Крапивное семя» – мазохистки подписывал теперь Александр свои письма. 17
Он, когда-то задиравший нос перед простыми таганрожцами (для него они были – «головы дыньками»), стал мишенью для шушуканий и насмешек и отныне был обречен на тоскливое обывательское существование, которое презирал и высмеивал.
Но самым страшным было не это. В Москве, несмотря на беспорядочный образ жизни, всегда была возможность удовлетворять свою главную страсть – заниматься любимой химией, читать, анализировать серьезные книги: оставаться «университетским человеком». От отсутствия «достойного» общества Александр маялся, завел толстую тетрадь, что-то вроде дневника, и, назвав ее стал записывать: «Мои ежедневные, подневные, почасные и вообще скоропреходящие мысли»,
«Сегодня я прочел главу из „Критики отвлеченных начал“ Соловьева за чаем жене и Николаю Агали. Оба ничего не поняли и видимо скучали, хотя и слушали, склоняясь перед моим авторитетом – человека умеющего понимать такую по их мнению (и в сущности) белиберду».
Через полтора года, в марте 1884 года, он вырвался, наконец, в Москву, и в дневнике появилась ликующая запись:
«Это Благовещение ознаменовалось тем, что я, живя в Москве, оказался свободен на целый день. Уж и отпраздновал же я этот день! С Антоном наболтался о научных предметах, с Николаем о художестве, с Иваном поспорили! И на целые сутки я почувствовал себя новым, хорошим, университетским человеком!»
Александру Чехову «посчастливилось» послужить в трех российских таможнях.
После Таганрога была Сухопутная таможня Петербурга с теми же тоскливыми письмами:
«Сочиняю отношения и ответы «во исполнение предписания…». Убиваю в себе дух разума и мышления. Будущее у меня очень блестящее: через 45 лет беспорочной службы я могу получить пенсию».
Таможенная карьера Александра Чехова закончилась в Новороссийске.
«И вот я на Кавказе в жалком городишке, где нет ни одной газеты, ни одного журнала, ни одной книги. Все знают друг друга и все давно приелись один другому. Интересы сосредоточены на базаре и на том, что у кого варится к обеду. В 8 часов вечера все спит. Ни мысли, ни слова…
И вот я лежу и напрасно стараюсь уснуть.
А в голову, как назло, лезут воспоминания. Вспоминается университет, живые речи, живые люди, любимая работа, химическая лаборатория, ночи, проведенные за книгой. Тоска гложет все сильнее и сильнее. Завтра будет то же, что было сегодня, что было вчера. Стать разве скотом: напиться пьяным до бесчувствия, до самозабвения?! Может быть, и удастся заснуть?
– Меграбьянц! Достань водки…
– Слушаю, ваши благороды, толки теперь нилза: вездэ заперта…
– Тьфу!
– писал он в рассказе с символическим названием «В ссылке». Скоро ли утро??..», 18
"– это уже из письма сестре. Я стараюсь заглушить в себе все живое, все человечное, стараюсь обезличиться и сделаться обывателем, способным волноваться и ругаться из-за перелетевшего через забор петуха",
В Новороссийске Александр попытался было «похимичить». Результат этой попытки он отразил в другом рассказе – «От рук отбился». В нем жена приходит к начальству жаловаться на мужа:
«Натащит домой в пузырьке разной дряни и целую ночь с микроскопом сидит, глаза мозолит. Завел себе банки и склянки, ступки разные. Я, говорит, химией занимаюсь. Разве это чиновничье дело? Придешь к нему с лаской, станешь рассказывать по хозяйству: на тридцать две копейки мяса, на две копейки моркови, на три хлеба, а он только одно отвечает: «Голубушка, оставь ты меня в покое. У меня, говорит, только одно утешение и осталось в химии».
«НОВОЕ ВРЕМЯ»
В конце 1886 года чиновничья жизнь Александра завершилась. Отныне он сотрудник петербургской газеты «Новое Время». В его обязанности входили, в частности, и посещение разных техническо-археологическо-экономических обществ. 19
О, это был бальзам для его изголодавшегося по науке ума. В определенном смысле Александр возвратился в состояние ученичества, чему он с восторгом и предавался.
«Сегодня у меня выдался особенно приятный денек. Я целый день ездил из Общества в Общество. В кармане у меня лежит разрисованный красками бланк «Нового Времени», на котором изображено, что я – сотрудник. Это – открытый лист, с которым я могу совать свой нос во всякое собрание, учреждение и проч.
– рассказывал он брату Ивану. На этих заседаниях я учусь. Мне кажется, что это продолжение лекций в университете. Выходя, жалеешь, что скоро кончилось, и с нетерпением ждешь продолжения. Суворин, прочитав несколько моих отчетов, сказал: я искал человека, чтобы поменьше врал в ученых сообщениях, а Вы еще дальше пошли, совсем ученым слогом излагаете и не врете. Похвально, но странно. У меня до сих пор термометр с барометром смешивали»,
В Питере Александр Павлович возобновил и свои занятия любимой химией: – писал он в дневнике. Целые страницы этого дневника, исписанные мелким почерком, посвящены анализу опытов то по изготовлению березовых или кампешевых чернил, то фотобумаги, то линолеума, то по работе с гипсом. «Ничего не поделаешь, сильна химическая жилка»,
Одаренный живым аналитическим умом, острой наблюдательностью, феноменальной памятью, его мозг требовал непрерывной мыслительной работы.
Даже выращивание овощей и разведение кур он превращал в педантичную научную работу с таблицами, графиками, выводами. И это не было чудачеством и забавой, как считают некоторые его биографы, эта была неистребимая тоска по науке, по «загубленному» университету.
По своей природе Александр действительно был вечным студентом в высоком смысле бесконечной потребности познания.
[люди]эти слова, адресованные Чеховым брату Николаю, в равной степени можно отнести и к Александру. «Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой», –
Истинным делом его жизни должна была стать Наука, но он не захотел жертвовать ради нее «ни вином, ни женщинами, ни суетой».
Ни много лет назад, ни теперь он ничего не мог сделать с И осталось только признание: «пламенной и страстной любовью к той почтенной даме, которую зовут водкой. Я в нее влюбился с молодых лет. От пьянства я уже отвыкнуть не могу». «Я горько оплакиваю свою разбитую жизнь».
В год своей смерти Александр Чехов писал двоюродному брату: , – повторив тем самым заклинания отца и брата Антона, когда-то адресованные ему. «Не зарывай себя, не погрязай в засасывающей тебя тине, не губи таланта!»
Двадцати лет Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванью; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и pique-assiette’а и, благодаря своей податливости на всякую шутку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно.
Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы»
Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года.
Чехов. «Три года»
– Неужели вы все еще студент?
– Должно быть, я буду вечным студентом.
Чехов. «Вишневый сад»
Что ж, профессора не читают лекций, небось всё ждут, когда приедешь!
(Чехов. «Вишневый сад»)
Татьянин день проходит в Москве особенно весело. Это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили «Gaudeamus», горла надрывались и хрипели.
Чехов. «Осколки московской жизни»
АНТОША, НЕ ЖЕНИСЬ!
Без "влюбился" не проходила ни одна зима, а в эту зиму еще и женился.
Чехов. «Платонов»
И этого человека чуть ли не с 14 лет тянуло жениться! И всю жизнь занимался только тем, что женился и клялся, что больше никогда не женится.
А. П. Чехов – А. С. Суворину о брате Александре
СОНЯ, МАША, КАРОЛИНА и другие…
Влюбчив Александр Чехов был с детства и с удовольствием рассказывал об этом в письмах, фиксировал в дневниках.
«Половые инстинкты во мне проснулись рано. И это случилось так. Я был отпущен к тете ночевать (Аксюша)».
Или:
«Вспоминаются те молодые времена, когда ни одной юбке проходу не было и, когда на меня поступали жалобы в роде: „вiн у сараi на вугиллях Дуньку испортыв“ или „зловiв ёго з лободинскою Лукашкою на лестници. И як вiн на перилах исхитривсь – не понимаю“. Я же между тем преуспевал…».
Но все «дуньки» и «лушки» были забыты, когда он увидел дочь управляющего таможней Соню Никитенко.
«С первого же взгляда я влюбился в нее пламенно, безнадежно и бесповоротно».
« – Соня! Софи! Дивная, неоценимая! Перл создания! Если бы ты знала, как я люблю тебя!… О!..
Так я рассуждал вчера, на своем одиноком, холостом ложе. Мое сердце билось, голова пылала, грудь готова была разорваться от напора самых дивных, пылких и честных чувств… Я любил её, и как любил!
– О, если бы я мог обладать этой чудной девушкой, этим аккордом миросоздания! – мелькнуло у меня в голове…».
Обладания не случилось, но чувство это он, как фетиш, пронес через всю жизнь, с упоением воскресая волнующие ощущения: и признавался: . Софья давно уже вышла замуж, а он все называл ее именем героинь своих произведений. «Бежишь за какой-нибудь Никитенко, земли под собой не чуешь, паришь где-нибудь на высях, весь занят мыслью о майнридовских подвигах» «Я в каждой деве искал что-либо в роде Никитенко» 20
Но Соня была звездой недосягаемой. Земной же любовью Саши Чехова стала дочь знаменитого таганрогского часовщика Маша Файст. Эти чувства были взаимными, с романтическими тайными свиданиями, мечтами о совместном будущем.
вспоминал Александр Павлович. «Мы платонически любовались Большой Медведицей и строили воздушные замки о том, что я поеду в Гейдельберг в университет», –
Когда Александр уехал в Москву продолжать учебу, в Таганрог полетели письма.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ
Саша – Евгении Яковлевне
«Поклонитесь за меня моей доброй Марии Францевне. Если увидите кого-то другого из Файстов, то поклонитесь им».
«Напишите мне откровенно, не вышло ли у вас чего-нибудь по поводу того, что я пишу моей доброй Марии Францевне?! Ради Бога, ответьте на это. Я теперь ужасно беспокоюсь. Окажите мне любезность, передайте Марии Францовне это письмо. Я теперь здорово тоскую. Передайте от меня поклон Марье Францевне, напишите, здорова ли она? Поцелуйте всех, кого хотите, а особенно Марью Францевну, в которую я по уши…..»
Евгения Яковлевна – Саше
«Позавчера, 16 декабря, у меня была Марья Францевна, как-то неожиданно. Потом я узнала, что ей кто-то сказал, что ты приехал».
«У нас вчера была М. Ф. Файста, кланяется тебе, и еще хотела прийти. Мы с ней в карты играли».
Саша – Антону
«Бедная, родная Марья Францевна! Да разве я могу променять ее на кого-нибудь? Разве я могу не любить ее или позабыть? Да будет ведомо им, что только одна она вступит хозяйкой в мой дом. Но это будет не раньше того, как я буду вполне обеспечен и заткну глотку родителям. Ради Бога, если есть возможность, дай мне какую-нибудь весточку о Марье Францевне. Ради Бога»
В марте 1876 года Саша не выдержал и съездил в Таганрог, после чего получил от Антона письмо:
«Видал твою Марию Файст и сестру её Луизу. Я сделал открытие: Луиза ревнует тебя к Марии и наоборот. Они спрашивали меня о тебе, поодиночке, наперерыв. Что это? Ты мазурик и ничего более, дорогой сударь».
Брат, и правда, оказался мазуриком. Его любовно-нервные восклицания вдруг закончилисьЗато в письмах к Антону появились странные строки: .
«Кланяются тебе моя жена и детишки. Жена обижается, что ты не пишешь ей и обвиняет тебя в недостатке родственных чувств»; «P. S. Да не подумаешь ты, что моя женушка есть миф. Она в самом деле существует и кланяется тебе».
Ситуацию прояснила Мария Павловна Чехова, без обиняков назвав в воспоминаниях вещи своими именами:
«Александр и Николай в Москве жили в доме Поливаева, женатого на Марии Егоровне Шварцкопф, у которой была сестра Каролина Егоровна. Александр Павлович сначала сошелся с Каролиной Егоровной, а потом и с Марией Егоровной. Обе они были значительно старше его» . 21
Вконец запутавшись в любовных связях, Александр уже не вспоминал брошенную гимназистку. А Маша Файст окончила гимназию и всё ждала, ждала возлюбленного. Но так и не дождалась. 22
Когда Александр Чехов писал большую автобиографическую повесть «Хорошо жить на свете!», то вспомнил в ней обеих своих таганрогских барышень. Соней он назвал невесту главного героя (то бишь – себя), а в ее судьбе отразил историю Маши Файст; есть там и учительница музыки по фамилии Фаст (Маша тоже преподавала музыку). В этой повести Александр опишет и свой идеал женщины.
Она умна: читает Достоевского, дает дельные советы жениху и его приятелям, читает им нравоучения; она трудолюбива: сама готовит, стирает, моет, шьет, вяжет; она терпелива: сносит грубость, оскорбления и пьянство жениха, а пока суженый объедается у богатых приятелей яствами, сама смиренно жует сваренную на воде крупу, и если жених приносит ей кусок пирога с барского стола, то отвергает подачку – она еще и горда!
История любви Саши и Маши инверсией отражена в первой, дошедшей до нас пьесе Антона Павловича.
Но в «Платонове» студента предала уехавшая девочка, в жизни же случилось все наоборот.
Связь же Александра с Каролиной Шварцкопф затянулась надолго. В августе 1880 года он писал уехавшим в Таганрог Николаю и Антону:
«10-го августа праздную свой 25-летний юбилей! И без Вас! Горько, братцы! А я сей день проведу в обществе Кши Пши , и не весь, ибо уже к 4-м часам пополудни я буду спать, предварительно изблевав…». 23
Он будет вспоминать ее и через тринадцать лет:
«О! Каролина! Где ты?! Старая любовь не ржавеет….».
А тогда эта «нержавеющая старая любовь» прервалась новым романом Александра – с Анной Ивановной Хрущовой- Сокольниковой.
АННА
«Я не понимал, что со мной делалось, и не мог шевельнуть ни одним членом. Но это не мешало мне видеть, как она была хороша. Черные волосы прядями падали на ее лоб; правильные губы, сложенные в счастливую улыбку, белые, ароматные руки, положенные на мои плечи, и… глаза.
Она крепко прижалась ко мне всем телом, ее влажные, теплые губы прильнули к моим и, полные страсти, замерли в поцелуе. Теплые, нежные руки, обвивавшие мою шею, сжимали меня все с большей и большей страстью, гибкий торс прижимался ко мне все сильней и сильней, а теплое дыхание раздутых страстью ноздрей ложилось на моей щеке… Да, я не выдержал и возвратил преступный поцелуй.
– так описывал Александр Чехов свою первую жену в автобиографическом рассказе Сомнамбула». Она как змея, обвилась вокруг меня руками и ногами, и мы оба упали на землю… Только к утру освободился я от страстных, жгучих объятий Анны», « 24
Через несколько лет в другом рассказе, «Котельник и его супруга» – и также – биографическом, он удостоит ее иных строк: 25
«Некрасива она была ужасно. Лицо ее напоминало череп, обтянутый кожей, с резиновыми складками на губах. Изо рта виднелись наполовину черные зубы. Она строит из себя парижскую львицу в то время, когда ни кожи ни рожи, двое ребятишек и незаштопанные дырявые чулки на ногах. Ты знаешь сколько мне лет? – 32, а ей – сорок второй пошел, и она до сих пор еще воображает себя институткою… Э, да будь она проклята…».
Анна Ивановна Сокольникова была старше Александра Павловича Чехова на восемь лет. Девятнадцатилетней барышней она вышла замуж за выпускника московского университета, родовитого дворянина Гавриила Александровича Сокольникого. В 1867 году у них родилась дочь Надежда, в 1871 – сын Александр, а еще через год – сын Владимир, умерший в двухлетнем возрасте.
Родословная Гавриилы Александровича, восходящая к XVII веку, обеспечивала им солидное состояние и достойное положение в обществе. Анна Ивановна упивалась ролью салонной хозяйки. «Царица праздников и чопорных балов» – называл Хрущов-Сокольников жену. Сам он, человек многогранно одаренный, уже заявил о себе как и о талантливом поэте, и дом их был открыт для журналистов и литераторов.
В 1874 году Гавриил Александрович предпринял длительную поездку в Омск, к своему двоюродному деду А. П. Хрущову, генерал-губернатору Западной Сибири. 26
А в это время в московском доме Хрущовых-Сокольниковых появился вернувшийся из ссылки студент московского университета Александр Покатилло, высланный в свое время из столицы за помещенную в газете «Голос» статью, Он вернулся героем в романтическом ореоле мученика, и Анна, «царица балов», потеряла голову. «в которой позволил в высшей степени дерзкую выходку против одного из членов Императорской фамилии».
В 1876 году она родила от студента дочь. Чем окончилась бы эта история, сказать сложно, но Александр Покатилло внезапно умер.
После смерти любовника Анна попыталась было вернуться к мужу, но бесполезно. Хрущов-Сокольников подал на развод, а свои страдания излил в стихах: 27
Я вас любил… В минуты ослепленья,
Как бедный раб – в пыли, у ваших ног,
Пожертвовал я вам без сожаленья
Всем… даже тем, чем жертвовать не мог.
Я вас забыл, как сон пустой и ложный, —
Так для чего ж, скажите мне, теперь
Стучите вы рукой неосторожной
В мою, от вас затворенную дверь?
Зачем будить во мне воспоминанья,
Что удалось хоть временно забыть?…
Поверьте мне: душевные страданья
Простить нельзя… нельзя и искупить!
В 1877 году брак Сокольниковых был расторгнут «за нарушение супружеской верности, прижитием в отсутствии мужа дочери Елены. Анна же Ивановна осуждена на всегдашнее безбрачие и назначением ей срока церковного покаяния на семь лет под надзором духовника».
После развода с мужем положение Анны было незавидным. Всеми осуждаемая, совершенно неприспособленная к практической стороне жизни, она могла существовать только в мужской опеке. И выдержать назначенные ей семь лет церковного покаяния Анна Ивановна, конечно же, не смогла.
Мы в жилище Гетеры, она
Разметалась в объятиях сна…
Хоть одета хозяйка квартиры,
Но как смят и искомкан наряд,
И остатки роскошного пира
О пирушке ночной говорят…
Распустилися темные косы,
Черепаховый гребень упал…
Вот окурки сигар, папиросы,
Вот вина недопитый бокал
Вот другой… Здесь вина не жалели.
Не жалели, как видно, любви,
И кипучим вином подогрели
Жар, давно уж остывший в крови.
Как удушлива вся атмосфера
Как здесь виден цинизм и разврат…
Видимо, на такой пирушке и сошлась «гетера» Анна с Александром Чеховым.
С Хрущовыми-Сокольниковыми Александр, уже начавший публиковаться, познакомился через своих друзей-однокурсников Третьяковых, и печатал в журнале Гавриила Александровича разную мелочишку. Зная об ихсемейных коллизиях, он был не прочь завести интрижку с опытной богатой «барыней» (как называл ее Чехов).
Анне же новый любовник даже внешне напомнил того, «рокового» Александра: высокий, худой, и такой же талантливый и независимый студент. Что-то, видимо, вспыхнуло в памяти.
Позже Александр Чехов, уже несколько лет женатый на Анне и проклинающий свой брак, об умершем сопернике вспоминал зло: «Покойся мирно Покатилло! Ты был умнее меня. Она еще до сих пор помнит то одеяло, под коим ты умер, а от меня, кажется, в ее памяти не останется ничего».
Увлечение сына «пожилой», безнравственной женщиной, и живущим с ней «блудно», вызвало нешуточное возмущение семьи Чеховых. Как ни объяснял Александр, что готов жениться, но церковь запрещает, – никто его не слушал. Александр ушел из дома, и судя по переписке родни, уже в мае 1881 года уехал к Сокольниковой в Тулу, где жили ее дети.
В Москву любовники вернулись вместе, и Александр пристроил Анну Ивановну делопроизводителем в только что созданный журнал «Зритель», где она проработала до февраля 1882 года, а затем опять уехала в Тулу.
Тем временем Александр спешил сдать экзамены: пора было после семи лет учебы окончить, наконец-то, университет.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ
В феврале 1882 года он строго писал своей возлюбленной:
«Милый друг и Бабушка!
Я обещал не писать тебе в виду твоего скорого приезда в Москву и не написал бы, если бы не твое письмо. Теперь слушай в оба уха и наматывай себе на ус.
Ты желаешь знать мои планы. На это я тебе отвечу: тебе они давно известны, но чтобы ты, моя дура, успокоилась – я повторю тебе. Я теперь работаю для того, чтобы обезопасить нас с тобою во время моих экзаменов.
Жить мы будем вместе. Квартиру и стол и прочее будем оплачивать тоже вместе, а как – условимся после. Как только ты приедешь в Москву, тебе сейчас же придется нанимать отдельную квартиру.
Еще раз велю: настраивай свои нервы получше и приезжай, пожалуйста, веселенькая и здоровенькая. Если приедешь плаксой, то лучше там – в Туле. Мне плакса плохая подруга.
Пьянствовать перестал, вплоть до твоего приезда, а когда ты приедешь, то разрешу. Видишь, какой я умник!… Жму твою руку и повторяю: ради всего святого брось все свои опасения и недоверие, и то и другое – неосновательно, а главное – оскорбительно для меня. Помни это. Я думаю, ты не захочешь понапрасну оскорблять любящего тебя человека. Ты по глупости своей обиделась, что я подписываюсь S, а не полной своей фамилией. Чтобы утешить тебя, изволь: АЧехов, АЧехов, АЧехов, АЧехов, Твой АЧехов, Весь твой АЧехов, муж глупой Аньки АЧехов. Довольна теперь?… S. Дура! Сволочь! Жопа!»
Анна отвечала:
« И хочется поговорить с тобой и не знаю что писать. Я в таком состоянии, что если я буду сейчас писать тебе, то что хочется, я знаю, что ты разорвешь письмо. Мне так тяжело… нет лучше ничего не буду писать, лучше подожду от тебя письмо и тогда успокоюсь и напишу другое.
Сегодня я опять ночую у Полонских. Долго в Туле я оставаться не могу, уже по одному тому, что мне негде ночевать – то в одном месте, то в другом.
Как я счастлива, как я довольна, Сашурка, мой милый, сейчас получила от тебя письмо. Одно меня немножко огорчает, что ты не получаешь моих писем, между прочим, я пишу уже четвертое, куда же они деваются, отчего не доходят до тебя.
Как я рада, что ты не забываешь меня, милый, люби меня, и все устроится, если не очень скоро – ничего, я буду терпелива, если буду знать, что что ты меня любишь. Меня немного смущает твой разговор с матерью в каком роде он был, в благоприятном или неблагоприятном?
». Здоров ли ты мой дорогой, славный, хороший, большой Шурка. Ужасно скучно тут без тебя. По приезде в Москву постараюсь быть покойной, нервы мои все-таки укрепились. Неужели ты любишь меня, Саша? Какое счастье, мой милый, дорогой. Целую тебя, всего, моего хорошего Сашку и прошу не забыть и не сердиться на Аньку
В конце июля, так и не получив родительского благословения на «незаконное сожительство», Александр Павлович с Анной Ивановной и ее сыном Шуркой отбыл в город своего детства, где устроился на службу в местную таможню. Анна была беременна.
В Таганроге прибывших встретили с любопытством: слухи о греховной связи бежали впереди их появления. И заткнуть рот обывателям Александр нечем: у него не было свидетельства о венчании!
Положение усугублялось беременностью невенчанной жены: ребенку грозило клеймо незаконнорожденного. Нужно было срочно что-то предпринять. И Александр, недолго думая, решил смастерить фальшивый документ о браке: кто будет разбираться? 28
В очередной приезд к родителям он стащил у отца его венчальное свидетельство, чтобы по этому образцу сделать фиктивное о, якобы, состоявшемся венчании с Анной Ивановной в Петербурге (такова была легенда).
Впоследствии Александр отнекивался от кражи и старался отшутиться: «Смею заверить обворованного папеньку, что Свидетельство случайно заехало ко мне в Таганрог».
Но оправдание выглядело жалко, и над этой аферой брата частенько посмеивался Антон. Как-то, объясняя, что мать не может ехать без паспорта, съязвил: Да и сам Александр спустя много лет признался: . «Жить же по венчальному свидетельству, как ты жил, она боится». «Я без благословения по родительскому венчальному паспорту блудом занимался»
В феврале 1883 года у Чеховых-Сокольниковых родилась дочь Маша (по-семейному Мося). Встал вопрос о крещении незаконнорождённого дитя. Дядя Митрофан, на которого рассчитывал Александр, вдруг начал юлить.
, – жаловался Александр Антону. Обиженный, он написал и брату Николаю с обвинениями в адрес не поддерживающей его семьи. Письмо это попало в руки Антона, и тот ответил, ответил жестко, обозначив при этом и свою позицию в отношении Павла Егоровича: «Я приглашал его, да, кажется, толку будет очень мало»
«Не знаю, чего ты хочешь от отца? Враг он незаконного сожительства – ты хочешь сделать его другом? Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать тебе одно и то же и, что хуже всего, страдать. И как будто быты этого не знаешь? Странно…
Тебя не поймут, как ты не понимаешь «отца шестерых детей», как раньше не понимал отцовского чувства. Чудны дела твои, Господи!»
Письмо это возымело свое действие. Похоже, что и с родителями Антон провел работу. Так или иначе, но отношения потеплели. И уже в мае Антон написал брату: «Мать сильно просится к тебе. Возьми ее к себе, коли можешь. Отец всем рассказывает, что у тебя замечательная должность. Опиши ему, пожалуйста, свой мундир и приплети хоть один табельный день, в который ты стоял в соборе среди великих мира сего.»
Как устроил Александр свой быт в Таганроге, никто из родных не знал, а сам же он описывал так:
«Большой, не без некоторого вкуса убранный кабинет. Гипсовый бюстик Гёте, портрет дамы с расчесанным пробором в дорогой ореховой раме. У стены два шкафа с книгами. На полу большой ковер, скрадывающий шаги. Рядом – будуар – спальня женщины с расчесанным пробором. Она лежит в постели. У ног ее за кисейной занавеской маленький новорожденный ребенок».
Склонность Александра к вранью, или как выражался Чехов – «брехне», была известна в семье. Но то, что увидела Евгения Яковлевна, приехавшая помочь сыну, повергло ее в ужас:
«Кухарки нет, и не намерены нанимать, держат 12-тилетнюю девочку. Я не могу здесь жить. Ради Бога, пришли деньги, я пропаду здесь. Я не могу видеть Сашиной грязной жизни, если бы вы видели, в какой грязи вся его большая семья, вы дня не могли бы прожить у него. Саша хорошее жалованье получает, да они не по-людски живут».
Когда Евгения Яковлевна вернулась в Москву, за ней последовал и Александр с семьей – погостить. На московских домочадцев Александрово семейство тоже произвело «сильное» впечатление. Антон отреагировал без экивоков:
«Брат наш мерзавец. Извини, голубчик, но будь родителем не на словах только. Чистое белье, перемешанное с грязным, органические останки на столе, гнусные тряпки, супруга с буферами наружу и с грязной, как Конторская улица, тесемкой на шее – всё это погубит девочку в первые же годы. Не бранись вслух, барабанную перепонку у Мосевны запачкаешь своими словесами».
Саша в ответ расхваливал дочь и расшаркивался перед отцом: «Мосевна – чистый бутон. Радует наши родительские сердца и с каждым днем делается все более и более похожей на дедушку, настолько, что мне даже обидно, ведь я отец, а не дедушка. Ну настоящий Палогорч! Не даром он благословил ее».
Но как бы ни расписывал молодой отец родительские радости, его сожительство уже трещало по швам.
Из дневника Ал. П. Чехова все того же 1883 года:
«За ужином я мирно сидел и кушал. Что может быть невинней? Но Анне, видно, захотелось прервать мое хорошее расположение духа. Она теперь настроена на тему, что я люблю ее не так, как прежде и просится в Москву. Дура, не умеющая ценить мужа. Не будь дочки, с какой бы решимостью я…».
А Антону писал: «… ннннеееее-женнись ты голлупбпбпчик Христа ради, и даже Николку ради мнимого его исправления отсоветую pater`ам женить. Сгниет».
Наступил январь 1884 года. Александр ждал ответа на свое прошение о переводе в московскую таможню, Анна снова была в положении, и никто даже помыслить не мог о грядущей трагедии .
Еще 5 января Анна Ивановна счастливо писала в Москву:
«У вас такая умница племянница, что вы все ахнете. Сашка все мешает, вырывает перо…».
20 января «Сашка» сообщил, что у дочки . «режутся глазные зубы, вероятно, в силу этого девочка стала хила, скучна, куксива, плачуща, сонно-бессонна»
А через неделю пришла телеграмма:
«Едема Церебри Безнадежна. Чехов». 29
Умирала девочка мучительно. Александр описывал Антону душераздирающие подробности ее страданий:
«Мося еще жива, но это уже давно не человек, а конвульсивно содрагающийся ежеминутно трупик, лишенный всякого сознания. Уже два дня левая рука и нога парализованы, зато правые конечности двигаются усиленно, ритмически в одном и том же направлении – к голове и обратно. Сознания – полный нуль. Сегодня явился жар, конвульсии и пульс быстрее 130.
Унаследовал Г. А. Хрущов-Сокольников и все немалое состояние родни.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе