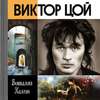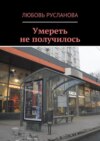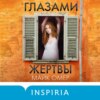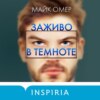Читать книгу: «Записки инженера-геофизика о работе бортоператора на аэрогеофизической съёмке», страница 18
Двигатель работает, трансмиссия, несущий винт раскручены, главный сейчас прибор из множества – указатель воздушной скорости: нужен хоть небольшой встречный ветерок. Вот стрелка указателя воздушной скорости сдвинулась с места; мало, мало ещё. Ещё, ещё, ещё! Газ! Несущий винт наклонён вперёд, вертолёт срывается с места и мчится …к пропасти. Каждый раз ожидаешь, что скорость окажется недостаточной, хвост зацепляется за край обрыва, долгие секунды падения на 1000 м на дно долины. Удар! Нет, не в этот раз… Вертолёт набирает скорость и нормально управляется. Ему, как и мне, не хочется погибать! И так раз за разом, изо дня в день, два года. Сколько за два года этих смертельных стартов-падений?! Только теперь я понял, что жестоко было просить Володю рассказать об этом кошмаре и снова переживать его…
Вот и сейчас указатель воздушной скорости – главный прибор для пилота. Наконец, стрелка его на какое-то время перестаёт метаться: ветер ровный, взлетаем – звонкий удар – летим! После посадки осматриваем лопасти и хвостовую балку. На ней небольшая вмятина, на конце одной лопасти разбит фонарик. Задела всё же лопасть балку.
Камин освещал комнату мерцающим светом. Было тепло, уютно и спокойно. Дверь тихо открылась, она вошла, прикрыла дверь, скинула тяжёлые резиновые сапоги и ватник и ловко забралась ко мне под одеяло, озябшая как после купания в ледяной воде. Спустя несколько мгновений, ошеломлённый её внезапным появлением и последующими действиями, не задумываясь об их причине и последствиях, я сгрёб её в охапку, тесно прижал к себе и переплёл ногами её ноги, чтобы всё моё тепло досталось ей, и она скорей согрелась. Не издав ни звука, она послушно прильнула ко мне. Какое-то время я пытался осмыслить это неожиданное событие. Неплохо зная её, я понимал, что не за сексуальными утехами и экспедиционной интрижки ради вот так, без какой-либо подготовки, пришла она ко мне. Наверное, была какая-то неведомая мне очень веская причина её приходу, и мне подумалось, что согреть надо не только тело её, но и как-то согреть, успокоить её душу, которой причинена, наверное, какая-то тяжёлая обида. Тесная – теснее некуда – близость родила добрую спокойную нежность к женщине, которая доверчиво отогревалась в моих объятьях. Я не поцеловал её, не погладил, опасаясь ни к чему не обязывающей лаской побудить её к сексу, вернее всего сейчас ей не нужному, и тем нарушить чистоту и детскую доверчивость этой взрослой и самодостаточной женщины. Конечно, моей сдержанности немало способствовала хроническая вымотанность многочасовыми полётами на съёмке, чередующимися со стремительными четырёхсоткилометровыми поездками в Мурмаши за бензином для вертолёта. Так я и заснул. Когда проснулся, её уже не было. Зачем она приходила ко мне? Она приходила ещё и ещё, и всё повторялось. Днём на людях она держалась, как будто не было этих странных ночей, чистых и добрых, согретых спокойным неторопливым теплом камина. Она не избегала меня и не проявляла никакого повышенного внимания. Она была рослой и стройной, с удивительно белой кожей, щедро украшенной крупными веснушками, с красивыми густыми волосами цвета тёмной бронзы. Её не очень красивое лицо постоянно украшала маленькая, как нераспустившийся бутон, улыбка, всегда готовая расцвести навстречу собеседнику щедрой доброй улыбкой, сразу делающей её лицо прекрасным.
Однако зачем же она приходила ко мне? Погреться? Но это можно было сделать гораздо проще, натопив посильнее комнату или одевшись потеплее, не идя холодным уже вечером сотню с лишним метров ко мне и не подвергая себя сплетням во всевидящем коллективе. Может, она носила в себе какое-то одиночество, которое не мог преодолеть её общительный и внешне оптимистичный характер? И которое, не беря на себя никаких обязательств и не требуя их от меня, она пыталась утолить с моей помощью? Может, кто-то нанёс ей жестокую обиду, и надо было как-то её изжить? Я не мог спросить её об этих сокровенных, глубинных её переживаниях, боясь всё испортить. А поступал я так, как поступал, наверное, правильно. Не знаю, смог ли я помочь ей, если приходила она ко мне за помощью. Надеюсь, что я сумел хотя бы её не обидеть. Этой женщины давно нет на свете, а я вспоминаю о ней с теплотой и нежностью. Мне трудно было взяться писать о странных её ночных появлениях из опасения неумелым словом нарушить светлую и чистую память о ней.
Следующий год был годом начала развала ЗГТ. Она ушла от нас в геологическую организацию, занимающуюся поисками и добычей самоцветных камней на Северном Урале. Кое-что из таких камней она подарила мне. То, что не разворовали гости моих сыновей в их юношеские годы, хранится за стеклом в отделении книжного стеллажа. Самые яркие и прекрасные я сам без сожаления дарил приятным мне людям, не раскрывая их происхождения. Пусть память об этой чудной и немного загадочной женщине останется только мне.
Атслем опустел. Лётные и другие полевые работы были завершены, и освободившиеся люди уехали. Остались только кот Федя, я и несколько человек, нужных для погрузки аппаратуры и всякого имущества для отправки в Ленинград. Вместе с удовлетворением от завершения большой напряжённой работы было грустно покидать Атслем. Я как будто предчувствовал, что несмотря на большую нагрузку и некоторые неприятности, о которых писать не хочется, здесь я провёл лучшие дни и месяцы в моей трудовой жизни, которым не суждено будет повториться. Здесь, несмотря ни на что, меня не покидало ощущение уюта, покоя и какой-то рабочей гармонии. Рассказывая о коте Феде, я несколько забежал вперёд, чтобы не нарушать целостности повествования, а сейчас придётся немного вернуться назад.

Рис. 39. Слева направо В.К. Рыбин, командир вертолёта Виктор Кривенко, пятый – автор К.В. Маляревский, предпоследний – бортмеханик Виктор Тюрин. Кольский п-ов. Атслем. 1963 г.
К нам приехали из Падуна финские инженеры с переводчиком посмотреть, что стало с Атслемом за время нашего хозяйствования. Переводчик русский, родившийся и выросший в Финляндии. Деды его жили там до отделения Финляндии от – чего? От России. Там и остались. Там родились и выросли его родители. Среднее образование, и финское, и русское он получил в Финляндии. Высшее в Финляндии и в СССР. Осмотром посёлка, и территории, и внутри домов финны остались довольны: везде было прибрано. Вопрос о сгоревшем доме не поднимался, наверное, он был решён где-то выше, без моего участия. Хотя мы уже «сидели на чемоданах», а гости нагрянули неожиданно, мы ухитрились сварганить неплохое застолье. У нас были кое-какие консервы: мясные, рыбные, зелёный горошек, картошка и, конечно, водка. Нашим угощением гости были тронуты и поначалу смущены. Переводчик мне очень понравился, он не только синхронно переводил в обе стороны, но, видимо, вопреки протоколу, сам принимал участие в оживлённой беседе, временами играя роль тамады. Наша встреча не была официальной, и он мог не придерживаться протокола, зато благодаря его таланту совсем не чувствовалось языкового барьера, и разговор был свободным и непринуждённым. Правда, перед началом застолья он предупредил нас, чтобы мы не болтали чего не следует: гости наши отличные ребята, но шюцкоровцы. К счастью, никакими государственными тайнами мы не располагали, а изливать душу по поводу всяких неурядиц привычки не было, и предупреждение его осталось лишь актом доброй воли. Разговор коснулся дороги. Я выразил восхищение и изумление тем, в каком безукоризненном состоянии поддерживалась эта в сущности грунтовая дорога. В ответ гости рассказали об обстоятельствах появления этой дороги. При согласовании проекта строительства финны представили два варианта будущей дороги: капитальную асфальтобетонную, которая будет служить долгие годы, и грунтовую. Конечно, постройка грунтовой была дешевле, но проектировщики представили и стоимость эксплуатации обеих дорог за время строительства электростанции, и с учётом этих расходов капитальная дорога оказывалась даже дешевле. Однако к недоумению финнов наши отдали предпочтение грунтовой. Финны не догадывались, что наши власти считали бездорожье нашим стратегическим преимуществом. Ещё раньше сведущие люди рассказывали о конфузе, случившемся при постройке дороги граница с Финляндией – Падун – Кола. Партийное руководство Мурманской областью попросило финнов досрочно закончить сооружение их участка дороги к очередному съезду (или пленуму?) КПСС. Финны никаких затруднений для себя в сокращении срока строительства дороги не увидели, лишь попросили скорректировать финансирование. И к назначенному сроку дорога в том идеальном состоянии, о котором я уже писал, была готова. О готовности нашего участка от Падуна до Колы отрапортовали к историческому сроку, но движение по нему было доступно только тракторам, и то с большими затруднениями. Таков этот участок был в 1963 году, когда я ездил в Мурмаши за бензином. Его дорогой можно было назвать с большой натяжкой. После завершения строительства Верхнетуломской ГЭС рассказывали, что дорога, оставшаяся без ухода, перестала существовать. А обширная территория между Туломой и границей с Финляндией так и осталась безлюдной погранзоной.
Я заметил, что гости всё поглядывают несколько смущённо на одно место на стене. Спрашиваю переводчика, в чём дело. Оказывается, их внимание привлёк прибитый к стене гвоздями некий деревянный зверь. Однажды во время какого-то застолья я взялся расколоть давно валявшееся у входа в дом полено, кривое, узловатое, суковатое, очень неудобное для раскалывания, почему никто и не стал с ним возиться. Замысловатое полено я расколол на три части, но в узкую топку печки они всё равно не лезли. Повертев их в руках, я быстро увидел некого зверя, вида надменного и притом глупого. Его я приколотил к бревенчатой стене. Гостям он очень понравился, но они не решались просить оставить его им. Мы охотно согласились, тем более что этому зверю и место было на стене из свежих брёвен с янтарными капельками смолы. Гости радовались как дети новой игрушке. Я замечал, что финны любят и ценят всякие замысловатые природные деревянные диковины. На дверях многочисленных туалетов в Атслеме нет-нет да и увидишь какой-нибудь сучок необычной формы, прибитый в качестве дверной ручки.
На прощание мы подарили финнам чернильные авторучки с наших регистраторов, объяснив, что ими записаны результаты всей нашей работы. Через несколько дней с оказией они прислали ответные подарки – короткие с толстым лезвием финские ножи в добротных кожаных ножнах. Мой нож и поныне хранится у меня.
А ещё через несколько дней мы с котом Федей навсегда покинули гостеприимный Атслем. Ехали в темноте. Справа на столбах прощально сияли в свете фар жёлтые ящики с телефонами, как окна иного мира, на короткое время ставшего почти своим.
АЭРОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА МЕТОДОМ БДК
КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, МУРМАШИ, 1964 г.
Полевой сезон 1964 года начался грустно. Управляющего ЗГТ А.И. Кацкова отправили представителем СССР в ЮНЕСКО. На мой взгляд, это было хоть и почётное, но понижение. А обстановка в ЗГТ, по крайней мере в части, с которой я имел дело, незамедлительно стала ухудшаться. Как оказалось в совсем недалёком будущем, это было началом развала треста. Лучшие люди, с которыми я работал, покидали ЗГТ. Ушёл в Первую экспедицию Первого главка Н.Н. Савельев, до того бессменный начальник партии БДК, ушёл в ОКБ ГГК СССР (так тогда называлось министерство геологии) В.К. Рыбин. Вокруг ощущалось опустение, пустота под ногами. С уходом А.И. Кацкова исчезла невидимая, но постоянно действенная поддержка нашей работы. Начальником партии БДК назначили некого А. Москалёва, даже не потрудившись нас с ним познакомить; сам он к этому тоже не очень стремился. Этот случайный человек никакого вклада в работу партии не внёс и так и остался для нас совершенно посторонним. Базы партии в том году организовывать не стали. В 1963 году предполагали устроить базу на озере Ловно, где она была в злополучном 1962 году. Там на продолговатом песчаном острове был посёлок из десятка аккуратных одинаковых домиков, выстроившихся ровной скучной шеренгой вдоль острова, не идущий ни в какое сравнение с уютным и живописным Атслемом. Ловно было бы удобным местом для базы и в 1964 году. Поэтому, выбрав время, слетали туда из Атслема посмотреть, всё ли там в порядке. То, что там увидели, заставило сразу отказаться от устройства там базы и оставило самое тягостное впечатление. Сказать, что там не было ни одного целого дома – значит ничего не сказать. Это не было случайным хулиганством, когда по пьянке разобьют одно-другое стекло в окнах. Было похоже, что целая бригада мерзавцев, выполнявшая чью-то злую подлую волю, трудилась над разгромом посёлка не жалея сил, методично и тщательно. В домах были выломаны рамы и двери вместе с косяками, разрушены печи и дымовые трубы, содраны кровли и поломаны стропила, половицы не только отодраны, но расколоты и поломаны. Содраны доски с фронтонов. Даже в некогда чистый колодец был сброшен огромный пень с растопыренными корнями, специально откуда-то доставленный. Несмотря на этот скрупулёзный разгром, понятно было, что целью его не было бесповоротное уничтожение посёлка: в этом случае его проще было сжечь. Нужно было не дать никому им воспользоваться, но в дальнейшем предполагалось его восстановление. С тяжёлым сердцем дружно решили, что даже восстановив несколько домов, нельзя поселить людей в этом поруганном и опоганенном месте, тем более, что авария вертолёта и гибель людей тоже мрачно нависала над ним.
Не последним поводом для отказа от Ловно-озера в качестве места для базы была дорогая доставка туда бензина для вертолёта и последующая заправка вручную из бочек. Чем это может грозить без надлежащей аккуратности и контроля, было ясно из инцидента с такой заправкой в 1960 году на озере около Алла-Акка-ярви. Всё было за то, что летать нужно из аэропорта в Мурмашах, несмотря на некоторое увеличение подлётов.

Рис. 40. Заправка вертолёта между вылетами.
В белой рубашке командир вертолёта Виктор Кривенко. Кольский п-ов. Мурмаши, 1964.
Поэтому и наша группа бортоператоров поселилась в просторной комнате, арендованной в частном доме вблизи аэропорта. У нас теперь была УКВ радиостанция, снятая с погибшего вертолёта и восстановленная за зиму. Она предоставляла большое удобство, обеспечивая связь с вертолётом, диспетчерами аэропорта и, как мы надеялись, с генгруппой. Для антенны этой радиостанции около дома поставили мачту с растяжками из изолированного кабеля, которые образовали большую зонтичную антенну для средневолнового приёмника, который с такой антенной позволял слушать почти весь мир.

Рис. 41. Постирушка на ручье около нашего дома.
Слева Генрих Микожан, справа автор. Кольский п-ов. Мурмаши, 1964 г.

Рис. 42. Домашняя работа бортоператора. Автор. Кольский п-ов. Мурмаши, 1964 г.

Рис. 43. Разбираемся с лентами.
Слева Генрих Микожан, справа автор. Кольский п-ов. Мурмаши. 1964 г.
Жизнь в относительно цивилизованной обстановке предъявляла несколько повышенные требования к нашему внешнему виду. Полученные ХБ костюмы мутно чёрного цвета, висящие мешком, решили подогнать по фигурам. Раздобыли у соседей швейную машинку и утюг, ушили лишнее, отгладили. Получилось как из ателье. Несколько дней красовались очень довольные собой, но до первого дождя. Во-первых, намокшие ХБ оставили на коже сине-зелёные пятна, которые напоминали трупные и не смывались ничем. Во-вторых, ткань сильно села, и всё, что было ушито, пришлось распороть. Мне и рукава, и штанины стали коротки, снова надевать эти костюмы мы избегали. К слову, уместно рассказать о Геологических Сапогах, дорогих и труднодоступных. С высокими под колено голенищами из мягкой двойной кожи, головками, тоже двойными, толстой кожаной подошвой и ремнями на голеностопе и под коленом, они придавали счастливому их обладателю мужественный, брутальный вид классического матёрого полевого работника. Мне такие сапоги достались благодаря особому ко мне расположению заведующего центральным складом ЗГТ Петра Филипповича Тихонова, который всегда знал, кому что нужно. Он позвонил мне зимой и сказал, что для меня есть сапоги моего размера. Заплатив в кассу деньги, и немалые, я получил их и наслаждался их приобретением до полевого сезона. И вот я в Мурмашах вызываю зависть многих своим мужественным видом … до первого дождя. Промокли сапоги как босоножки, но в отличие от босоножек вода из них не выливалась, а поднималась всё выше с каждой лужей. Но это было ещё не всё. После бережной длительной сушки в тени сапоги уменьшились на несколько размеров. Я отдал их Феде Евдокимову, которому теперь они стали впору. Он был счастлив, но тоже не долго: на каменистых дорогах кожаная подошва быстро проносилась до дыр. На этом наша забота о виде нашей одежды и обуви закончилась, и мы вернулись к традиционным кирзовым и резиновым сапогам и цивильной одежде.
Решили вести здоровый образ жизни. Для этого у нас была гиря в 24 кг, две гантели по 8 кг и могучий пружинный эспандер. Я зацеплял его за толстый гвоздь, вбитый в бревно на углу дома, и усердно растягивал его, стоя задом к месту закрепления. Однажды гвоздь разогнулся, и… У меня в ту пору вообще синяков не бывало, но чёткое изображение ручки эспандера во всех подробностях надолго запечатлелось на моей ягодице. Хорошо ещё, что попало туда, а не между ног. Кто знает, какой тогда был бы ход истории… Был у нас небольшой заветный сундучок, кажется, от логачёвского магнитометра. В нём хранились упомянутые гиря с гантелями и большой силовой трансформатор. Сундучок был двойного назначения. Помимо хранения упомянутого имущества он служил для выявления и наказания лодырей, которые ищут работу полегче почти при каждой погрузке. Увидит такой умник маленький аккуратный сундучок и радостно хватает его: нашёл что полегче! А мы начеку: взялся – неси! А весил он верных 50 кг.
Измерительная бортовая аппаратура, основательно вылизанная за предыдущие годы, особых хлопот не доставляла. Взято от неё было всё, на что хватило нашего разумения. Правда, из-за постоянной вибрации и жестокой тряски при посадке вертолёта нет-нет да что-нибудь и отваливалось.

Рис. 44. Что там опять отвалилось? Автор. Кольский п-ов. Мурмаши, 1964 г.
Нужно было разрабатывать новую аппаратуру на транзисторной элементной базе. Канал измерения модуля уже реально существовал, но в ЗГТ развитие аппаратуры уже никому не было нужно. Съёмочные полёты превратились в скучную и потому особенно утомительную работу. Несколько оживляли её всякие мелкие происшествия. Однажды, возвращаясь со съёмки, получили от диспетчера сообщение, что над Мурмашами проходит грозовой фронт. Переждать грозу сели на какую-то подходящую сопку. При заходе на посадку в лесу удивительно хорошо видны были подосиновики. На земле искать их пришлось с трудом. Недалеко от места посадки была большая яма с водой, похоже, воронка от бомбы. Там жила большая рыбина, неизвестно как туда попавшая и чем кормящаяся. Импульсивный и азартный вне управления вертолётом Кривенко, конечно, полез за этой рыбой, поскользнулся и по пояс оказался в воде. Переодевшись в какую-то сухую робу, мокрые штаны привязал к поручню пилотской кабины. Тем временем гроза ушла, Мурмаши нас принимали, и мы полетели туда, забыв о привязанных снаружи штанах. На подлёте к Мурмашам я заметил горящий сарай, доложил командиру, тот – диспетчеру, диспетчер пожарным. Вскоре диспетчер передал нам благодарность за сообщение о пожаре, но не отказал себе в удовольствии поинтересоваться, в честь чего у нас на борту развевается чёрное знамя. В другой раз тоже из-за грозы нас посадили на военный аэродром, на котором базировались истребители СУ-7 и СУ-8, и мы довольно долго могли наблюдать их взлёты и, главное, посадки. Это были машины с очень короткими крыльями, только чтобы было куда убрать шасси. Взлёт был мощным и красивым. После короткого разбега они, только оторвавшись от полосы, сразу круто уходили вверх и скоро исчезали из вида. А посадка… Садились они на огромной скорости, и каждая посадка казалась борьбой пилота за предотвращение катастрофы. Машина касалась полосы одним колесом, слышен был громкий хлопок, взмётывалось облако дыма, на полосе оставался чёрный дымящийся след. Машину резко разворачивало в сторону коснувшегося колеса, пилот удерживал её на полосе рулём поворота, она касалась полосы другим колесом. Хлопок, дым, чёрный дымящийся след, и так много раз, пока скорость не снизится. Оба боковых колеса катятся по полосе, можно гасить скорость тормозами. Опускается и переднее колесо, теперь обычная рулёжка. Перевожу дух: пронесло на этот раз! А ведь это всегда, раз за разом. ВПП вся исчерчена чёрными жирными следами. Не вспомню, а может, не разглядел, были ли у «сушек» закрылки. Должны бы быть…
Впервые за несколько лет работы на Кольском ближе знакомились с Мурмашами. Я не стал узнавать происхождения названия Мурмаши, звучавшего так ласково и по-домашнему, чтобы не нарушать этого впечатления. Наверное, появление Мурмашей связано со строительством Нижнетуломской ГЭС.
Высота между верхним и нижним бьефами 18 м. Для прохода рыбы на нерест к верхнему бьефу устроен «рыбоход». Это лестница из ящиков – ступенек, наполняемых текущей сверху водой. Могучее стремление попасть вверх по течению на нерест заставляет рыб перепрыгивать из нижнего ящика рыбохода в следующий на большей высоте, и так до верхнего бьефа. Это если рыбе посчастливится найти узкий вход в рыбоход. А внизу, в бурлящей после турбин воде, дежурят тюлени, подстерегая ищущую вход в рыбоход рыбу. А добравшаяся до верхнего бьефа рыба попадает в деревянную клетку, подвешенную к тельферу, и вместо нереста попадает на стол к верхним людям и на экспорт. Рыбнадзор пристально следит, чтобы никто, кроме государственных бандитов, рыбу не ловил. Живя в Мурмашах, я ни разу не увидел в продаже вообще какой-нибудь свежей рыбы. Мой отец, работавший на Кольском до Великой Отечественной войны, рассказывал, что уже тогда местным жителям саами (лопарям) было запрещено ловить сёмгу, бывшую едва ли не основной их пищей. Однако, тайком, но ловили. Радушно угощая сёмгой случайно забредшего гостя, приговаривали: «Кушай щука, вкусный щука!» Работавшие по всему Заполярью люди рассказывали, что практически все нерестовые реки наглухо перегорожены сетями, не оставляя рыбе никаких шансов попасть на нерест. Вот сейчас и любуемся на прилавках импортной рыбой по практически недоступной большинству цене, да и то выращенной в искусственных условиях.
Попал с переломом носа в мурманскую областную больницу, находящуюся в Мурмашах. Больница небогатая, но ухоженная, чистая и уютная. Поразило всестороннее обследование, проводимое сразу после поступления в больницу, хотя диагноз мой был прямо «на лице». Старшая сестра объяснила, что порядок такой ввёл новый главный врач, считая его необходимым, раз уж человек попал в стационар. Поначалу это нововведение вызвало протест персонала больницы, считавшего его невыполнимым, но терпеливая настойчивость главного врача и проведённая им некоторая реорганизация работы сделали своё дело. Была увеличена загрузка рентгеновского отделения и усилена лаборатория. Теперь всё делалось быстро и чётко. Старшая сестра с гордостью говорила, что уже выявлено несколько опасных заболеваний, о которых пациенты и не подозревали. А нос мой отлично поправили, заодно устранив и последствия давнего перелома. А ведь это был 1964 год.
Тёплый солнечный день оказался свободным от съёмки. Всей компанией пошли купаться и загорать на Тулому, ниже Нижнетуломской ГЭС. Вода оказалась удивительно тёплой, купались с удовольствием, загорали на нагретых солнцем огромных каменных глыбах, которыми в изобилии был усеян берег.

Рис. 45. Отдых на Туломе. Слева направо штурман Лёва с женой, В.В. Сайковский, автор,
Герман Алексеев. Мурмаши, 1964 г.
Постепенно народ разошёлся, нас осталось трое-четверо. Время приближалось к обеду, и мы тоже собрались уходить. Чуть поодаль от нас была небольшая стайка мальчишек лет десяти-двенадцати. Мы совсем уже было ушли, но тут кому-то захотелось закурить, спичек не оказалось, и я стал поджигать сигарету от солнц с помощью объектива фотоаппарата. Солнце в этот момент прикрыло облако, и во время этой короткой задержки обратили внимание, что мальчишки поспешно и, как показалось, трусливо убегают с берега. И убегает их меньше, чем было. Что-то в этом встревожило нас, и мы с Генрихом Микожаном не сговариваясь помчались к месту, где до того тусовались мальчишки, на бегу сбрасывая с себя одежду и обувь. Вода была мутновата, и только чудом нам почти сразу удалось увидеть уже безжизненное тело одного из мальчишек. Вытащили его на берег. Я стал освобождать его лёгкие от воды, а Генрих мигом взобрался на почти отвесный обрыв, чтобы поймать на дороге машину и вызвать «скорую». Мы не знали, что совсем рядом мурманская областная больница. Машины не останавливались: вид мокрого и в одних плавках человека вызывал опасения у водителей. Зато полное доверие вызвал увесистый булыжник, который после неудачных попыток остановить машину Генрих подобрал и держал на виду. Из моего подопечного хлынула вода, и скоро он начал дышать с всхлипами, бульканьем и кашлем. А к нам, задыхаясь, бежал старенький фельдшер «скорой». Послал кого-то ему навстречу, чтобы он не спешил и сам не стал пациентом «скорой». Бывший утопленник приходил в себя. «Страшно… Всё зелёное… Страшно!» – наконец произнёс он. Фельдшер быстро осмотрел мальчишку, сделал ему какой-то укол, мы доставили его к «»скорой». Больше о нём мы ничего не слышали.
Недалеко от нашего дома был ручей с глубокими ямами, удобными для купания.

Рис. 46. Жаркое заполярное лето. Мурмаши. 1964 г.
Однажды светлой тёплой ночью мы откуда-то возвращались домой. Не помню, что заставило нас шляться ночью – вроде бы причин для этого не было. Однако была ночь, светлая как неяркий день, и мы шли по улице Мурмашей. Может быть, из гостей? Летние ночи в Мурмашах мало отличаются от дня. Днём на улицах не увидишь толп народа, но и ночью улицы совсем не пустынны. Можно увидеть детей, и совсем маленьких, мирно играющих среди камней и пыли. И, наверное, это в порядке вещей. Встречаются и прохожие, одинокие и группами по два-три человека. И вот такой светлой ночью находим гитару, в щепки разбитую, наверное, о чью-то голову. Освободившиеся от натяжения струны завились в кольца, наводя на мысль о проволочном заграждении. Я почувствовал нечто вроде жалости к валявшейся на проезжей дороге гитаре. Я представил, как первая же машина перемешает её обломки с пылью, а после дождя только ржавые струны будут неряшливо торчать из грязи. Мы тщательно собрали все щепки в сохранившуюся часть корпуса гитары и забрали с собой. Зачем? Работая с нашей аппаратурой и вспомогательным оборудованием, я постоянно что-нибудь починял, и мысль о восстановлении несчастной гитары уже подспудно была готова. В мастерских авиаотряда мне дали какой-то чудо-клей. Пальцы он склеивал крепко, но и обломки гитары тоже неплохо. Трудно было каждой щепке найти правильное место. Это напоминало распространённую сейчас игру в складывание пазлов, в которой каждому фрагменту картины нужно найти место. Недели две я искал место для каждой щепки. Найдя, приклеивал и приступал к следующей. Иногда удавалось всухую собрать фрагмент из нескольких щепок и потом их быстро приклеивать. Наконец, всё было собрано и склеено. Понимая, что усилие натянутых струн огромно, я повесил гитару на несколько дней на гвоздь, чтобы клей как следует затвердел. Потом зачистил клей и покрыл гитару нитролаком, добытым в тех же мастерских. Натянул струны, восстановленная гитара выдержала, но тут вспомнили, что никто из нас на гитаре играть не умеет. Несколько дней я безуспешно пытался овладеть этим искусством, но никакого таланта у меня не оказалось, и гитару снова повесили на гвоздь. Потом стало некогда, и кому-то её подарили.
Новый начальник партии А. Москалёв с нами почти не общался. У него были какие-то связи с работниками чужой партии, никак не связанные с нашей работой. Пограничники стали досматривать машины, едущие на «финскую» дорогу к границе, и не пропускали водку. Не исключено, что делалось это по просьбе или настоянию руководителей строительства Верхнетуломской ГЭС, так как масштаб водочной фарцовки начинал мешать работе строительства. Это мой домысел, но не беспочвенный. Стало известно об использовании съёмочного вертолёта для доставки водки на «нейтральную» территорию. На левом берегу Туломы ниже ГЭС в посёлке, названия которого не помню или не знал, у нас было нечто вроде опорного пункта. Там была кухня и камералка, в которой я, кажется, ни разу не был. Зато однажды, ненадолго задержавшись там, я ловил рыбу самым необычным способом. В плотине был устроен проход для пропуска брёвен с верхнего бьефа, они обрушивались с высоты в 18 м и глушили ряпушку, рыбку из породы сиговых, размером с корюшку, очень вкусную. О ней я слышал давно, но попробовать её довелось только там; в продаже я её не встречал. Ловил, вернее, собирал ряпушку так. С кастрюлей литров на сорок, державшейся наплаву, я плавал среди брёвен в стороне от места их падения и собирал оглушённых рыбок в кастрюлю, заглядывая в жабры: розовые – рыбка свежая, можно брать. Наполненную кастрюлю буксировал к берегу и тащил на кухню.
Летали и над Нотозером, ставшим водохранилищем электростанции. Тремя красивыми аномалиями отмечались заземления электростанции, три медные косы или сетки, уложенные на дно водохранилища. Аномалии в точности повторяли картину поля над кабелем, только многократно уменьшенную.
Ничего не осталось в памяти об этом последнем моём полевом сезоне в ЗГТ. А может, не было ничего, что хотелось бы сохранить в памяти. Весной следующего года я покинул ЗГТ, где провёл около семи лет, едва ли не лучших в моей жизни. Годы, полные напряжённой творческой и ответственной работы. Работы, которая вдруг стала никому не нужна. Я покинул без сожаления Западный геофизический трест, быстро превращающийся в собственное кладбище. Но годы, проведённые там, до сих пор вспоминаются с благодарностью и любовью.
Меня звал Володя Рыбин в ОКБ ГГК (Министерство геологии) СССР, где он работал уже около года. Туда я и перешёл на работу, надеясь вместе с ним разрабатывать новое поколение аппаратуры для метода БДК. Работа эта не только не была поддержана, но встретила активное сопротивление начальника отдела электроразведки. Я проработал там 28 лет. В то время пропагандировалась длительная работа на одном месте. Кое о чём, имеющем прямое отношение к теме этого повествования, я уже писал выше. Остальное если и может представлять интерес, то скорее как публицистическая иллюстрация многочисленных бюрократических глупостей, настойчиво подменяющих любую созидательную работу, по моему убеждению, много поспособствовавших развалу Советского Союза уже тогда, задолго до прекращения его существования.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе