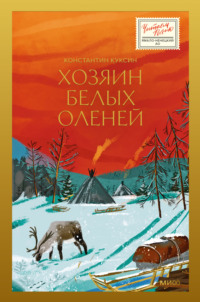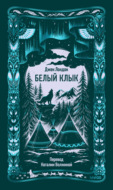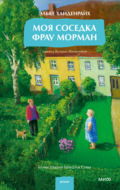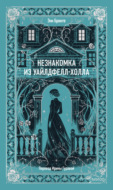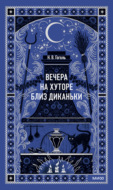Читать книгу: «Хозяин белых оленей», страница 5
Подарки Сихиртя
Мы пили чай со свежим хлебом, который привез Гаврила из города, и я спросил, вспоминая разговор о ненцах и хантах:
– Гаврила, а Оля с Марией какие орнаменты на шубах вышивают? Ненецкие или хантыйские?
– Оля по-хантыйски шьет, а Мария – когда как. Сама по-ненецки одевается, а если для меня шьет кисы или малицу, хантыйский орнамент делает. Это ее моя мать научила. Ох и ругалась она на Машу, когда та все по-ненецки шила! Хотя сама мне невесту нашла…
– Мария, скажите, а сейчас вы кому шубу шьете? – повернулся я к хозяйке.
– Оле шью. Ей в приданое! – улыбнулась ненка.
– Так ведь у Оли уже есть шуба, и не одна, мне кажется…
– Каждая девушка к свадьбе должна себе пять ягушек, зимних шуб, сшить. Но Оля в школу ходила, некогда ей было шитьем заниматься, – вздохнула Мария. – Вот теперь я ей и помогаю…
– А зачем пять шуб-то? – не понял я. – У вас, конечно, холодно зимой, но не настолько же…
Мария засмеялась:
– Да не для тепла они, ягушки эти! То есть в ягушке тепло, конечно, но одну на другую шубы мы не надеваем! У каждой хозяйки пять шуб должно быть, обычай у нас такой. Одна ягушка – парадная, в люди выйти, в поселок поехать. Другая – чтобы каждый день носить. Третья, самая простая, – для черной работы: золу из печи выгребать, дрова колоть. Четвертая – для мужа: ягушками, как одеялами, мы ночью накрываемся. А пятая – для гостя. Если гость приедет, чтобы ему тоже одеяло было. По тому, как ягушка сшита, все о женщине сказать можно: откуда она родом, из какой тундры, насколько хорошая хозяйка. Вот, скажем, ханты обязательно все веревочки на ягушке завязывают – иначе неприлично на люди показываться! Еще такой обычай есть. Бывает, девушка сидит, шьет, а полы ягушки широко вокруг себя раскинула. Если парень какой-нибудь случайно на край ягушки сядет – он обязан на той девушке жениться!
– Мария, я смотрю, вы все время шьете. То детскую одежду, то мужскую, то ягушку эту… Одежда что, быстро изнашивается? Или родне в подарок делаете?
Ненка снова засмеялась:
– Нет, себе шьем! Кисы года два-три служат, но подошву каждый год новую ставлю. Кисы шьем из шкуры с ног оленя, камус называется. Самый прочный мех там. На малицу пять-шесть оленьих шкур уходит, на ягушку – восемь. Рукавицы обязательно к рукавам пришиваем, чтобы не потерялись: беда – в тундре без рукавиц остаться!
– Когда я маленький был, мне мама тоже варежки на резинках привязывала, чтобы не обронил! – улыбнулся я.
– Ну, в Москве рукавицы потеряешь – только мама и заругает. А здесь и без рук остаться можно…
– Чтобы одежду сделать, какая шкура используется? От любого оленя? Или выбирать надо? – поднял глаза от своего шитья Горн.
– Конечно, каждая хозяйка заранее оленей присматривает, чьи шкуры на одежду пойдут! Этих оленей мы в августе забиваем, после линьки, когда у них новая шерсть появится. Шерсть эта короткая, блестящая, долго одежда из таких шкур не изнашивается. Правда, малицы Гавриле и сыновьям я каждый год новые шью. Волос олений ломкий, зимой линяет, такая старая малица и не греет вовсе! Эти малицы, где одна кожа осталась, без меха, летом носят: их комар и мошка прокусить не могут.
– А почему жилами оленьими шьете, а не нитками? – снова спросил Горн, которого этот вопрос особенно волновал: он все еще возился с чехлом для телефона.
– Так нитка или гниет быстро, или кожу режет, шов рвется потом. А жилка – она лучше всего! Вон посмотри, как Оля шьет: ровно, красиво. Такой шов и воду не пропустит! – с гордостью показала Мария фрагмент орнамента, сшитый дочерью.
– Видел я, как Оля шьет! – вздохнул Горн. – Мне бы так научиться…
– Мария, а женские шапки, нарядные такие, с украшениями, их из чего шьют?
– Шапки-то? Из головы оленя их делаем. Там даже ушки видны, посмотри! – ненка протянула мне тяжелую шапку, отороченную мехом песца. Сверху действительно торчали уши оленя.
– Видишь, уголок правого уха отрезан? Так мы своих оленей метим. Ухо надрезает каждая семья по-своему. Даже если два стада смешаются, легко своих оленей по таким меткам найдем!
– Мария, а эти бронзовые украшения? – я показал на металлические бляхи с орнаментами. – Их мужчины делают?
Ненка отрицательно покачала головой:
– Мужчины себе на пояс обереги вырезают. А эти, на шапке, очень старые! Еще моей прабабке их сихиртя подарили!
– Кто-кто, простите? Это народ такой? Что-то я о нем не слышал…
– Конечно, не слышал! – кивнула Мария. – Сихиртя под землей живут, в Нижнем мире, людям редко показываются. Да и нельзя им долго наверху находиться: глаза-то у них совсем белые стали, оттого что под землей живут. Если сихиртя свет дневной увидят – ослепнут сразу! Сами эти сихиртя маленькие, но пасут у себя в Нижнем мире огромных животных – Земляных Оленей…
– Мамонт по-вашему этот зверь зовется, – вступил в разговор Гаврила. – Русские говорят, что вымерли мамонты. Но мы-то знаем, что они просто в Нижний мир ушли. Сихиртя их пасут, как мы – оленей, верхом на них ездят. Нарты у них из железа, грохочут страшно! Иногда даже здесь, в нашем мире, слышно – такой гул из-под земли идет! А бывает, хочет пастух-сихиртя на своем мамонте в наш мир проехать, разгонится хорошенько – а мамонт возьмет да и застрянет в мерзлоте! Мы таких мамонтов иногда в тундре находим – торчат из земли бивни огромные! Мы из них детали упряжи вырезаем, рукояти ножей делаем. Ну, ты мой нож видел…
Я кивнул, а Мария вернулась к своей истории:
– Так вот, ночами гуляют женщины-сихиртя в нашем мире. И случается, обронят какую вещь: украшение или оберег. А бывает, специально оставят, в подарок. Они же смотрят, как мы здесь живем, хорошему человеку радуются. У нас поверье есть: найдет женщина подарок сихиртя – всю жизнь счастливая будет! А вот моя прабабка с сихиртя встретилась! Дело было в Месяц Большой Темноты, кочевали они тогда по среднему Полую. И явилась прабабке моей маленькая старушка, в полчеловека ростом, а глаза – белые-белые! Улыбнулась и протянула эти обереги. Прабабка моя взяла, стала разглядывать. А когда обернулась, чтобы спасибо сказать, – сихиртя уже и след простыл…
Я внимательно разглядывал подарки сихиртя. Бронзовое литье, сложные формы, сильно стертый рисунок – все говорило о том, что эти вещи очень древние и явно сделаны не оленеводами, до недавнего времени не знакомыми с обработкой металла…
– Гаврила, скажите, – спросил Горн, – а для мужских поясов откуда металл берете? Ведь на такой пояс уйма латуни и меди уходит! Не рудники же у вас на Полярном Урале?
Гаврила хитро улыбнулся и сказал:
– А вот за это русским спасибо! Много русские в тундре металла оставляют: то обломки вертолета в горах найдем, то вездеход, в болоте застрявший. Такие вот, Горн, у нас «рудники»!
Еттку для Оли
Кочевка на Север, которую мы с Горном так ждали, откладывалась. Приехал бригадир, муж одной из дочерей Гаврилы, высокий мужчина с волевым обветренным лицом. Николай – так звали бригадира – сказал, что другие стада еще не готовы к кочевке и в сторону Оби они двинутся не раньше, чем через десять дней. Мы с другом грустно переглянулись: время нашей экспедиции подходило к концу, и мы никак не успевали на каслание.
Горн наконец дошил чехол для телефона, и покалеченный аппарат выглядывал из оленьей шерсти, как ненецкий ребенок из колыбели. Я по-прежнему помогал Гавриле чинить нарты: вырезал ножки, делал тонкие подполозки-нярма, – и хозяин все с большим одобрением поглядывал на мои изделия.
– Э-эх, из тебя вышел бы хороший оленевод, Костя! – мечтательно сказал Гаврила, откладывая в сторону скобель. – Руки у тебя золотые!
– Спасибо, Гаврила! – улыбнулся я. – Только вот оленей пасти я так и не научился!
– Ничего, научишься! Летом приедешь, будем далеко кочевать, на Карское море. Там и с упряжкой освоишься, и оленей пасти будешь…
Своего друга я все чаще видел вместе с Олей: Горн помогал девушке собирать снег, колол дрова и даже обрабатывал шкуру для очередной ягушки, с усилием разминая жесткую кожу скребком с тяжелым железным наконечником.
Гаврила с улыбкой поглядывал на Горна и Олю.
– Знаешь, Костя, у нас есть такой обычай. Если парню девушка нравится, он к ней в чум приезжать начинает, по хозяйству поможет, принесет чего… Парни даже женскую работу иногда делают: шкуры мнут, чум собирают. А девушка смотрит на своего ухажера, решение принимает. Парень по обычаю два года приезжать может. Если девушка за два года не согласится стать его женой, больше приезжать нельзя – немил он ей, значит. Так-то вот…
Вечерами, когда Оля шила в чуме, Горн усаживался на мужскую нарту и что-то старательно вырезал из березового бруска.
– Что делаешь, дружище? – спросил я как-то раз, присаживаясь рядом.
– Да вот еттку делаю, доску для вышивания. Если хорошо получится, тебе в музей подарю… – И Горн почему-то вздохнул.
– Да ладно тебе, старик! – улыбнулся я. – Я же все вижу. Для Оли еттку вырезаешь?
Горн кивнул:
– Ты знаешь, она ведь тоже мне подарок делает. Что-то шьет. Я тут хотел подсмотреть, а она смеется, но не показывает…
– Ладно, трудись! – Я положил руку на плечо друга. – Кстати, красивая еттку у тебя получается!
Следующим вечером я вышел из чума, чтобы починить генератор: тот стал работать с перебоями. На бревне сидели Горн и Оля, спинами ко мне, и о чем-то тихо беседовали. Я начал возиться с двигателем и случайно услышал их разговор.
– Тебе нравится в тундре, Оля? – спросил Горн.
– Нет, скучно мне здесь. Я люблю в поселке жить. Там у меня подруги, друзья, на дискотеку пойти можно…
– Здесь же так красиво…
– Нет, в поселке лучше! Я вообще хотела дальше в школе учиться, потом в институт поступить, экономистом стать или юристом… – Оля вздохнула, смахнув снег с подола ягушки. – Но папа приехал и забрал меня сюда. Сказал, что маме помогать надо. Старшие сестры замуж вышли, маме одной трудно стало. Учителя его так уговаривали меня не забирать, чтобы я хоть школу окончила, но папа даже слушать их не стал, посадил меня в нарту и увез в тундру…
– В городе трудно жить. Бегаешь все время, деньги пытаешься заработать. А здесь так тихо, спокойно. Всегда знаешь, что делать, что завтра будет. Я бы в тундре остался, но меня в Москве ждут… – с грустью сказал Горн.
– А я бы в город уехала! – с вызовом ответила Оля. – Сейчас, зимой, в чуме электричество есть, можно хоть телевизор посмотреть или с братом съездить к трассе, подругам эсэмэску написать. А как кочевать начнем – ни телевизора, ни писем. Совсем грустно там, на Карском море. Только олени одни…
– Ну, ты, наверное, замуж скоро выйдешь, как твои сестры? – вздохнув, спросил Горн.
– Не хочу я замуж! – сердито отрезала Оля. – Я учиться хочу! А если замуж выйду – уже навсегда в тундре останусь…
Ребята замолчали, глядя на закатное солнце, скрывающееся за черными силуэтами лиственниц. Я нашел причину перебоев в работе генератора: один из проводов отошел от клеммы и болтался. Затянув гайку, я дернул шнур и поднялся, чтобы пойти в чум – проверить, не мигает ли лампочка.
– Смотри! Костя, кажется, генератор починил! – словно стряхнув набежавшую грусть, весело сказала моему другу Оля. – Пойдем в чум?
– Оля, подожди! – заторопился Горн и смущенно добавил: – Я тебе подарок сделал, на память…
Горн протянул девушке еттку, красивую, длинную, с орнаментами по верхней и нижней части доски.
– Ой, спасибо, Горн! – заулыбалась Оля, по щекам девушки побежал румянец. – Как ты узнал, что у меня еттку нет своей? Я же на бабушкиной старой все шила…
– Ну, так… Смотрел, как ты шьешь, вот и решил… – Горн покраснел и опустил глаза.
– Спасибо! Я теперь, как за шитье сяду, всегда тебя вспоминать буду! – снова улыбнулась Оля и вдруг, неожиданно погрустнев, спросила:
– Ты ведь завтра уезжаешь, да?
– Наверное, завтра… – вздохнул Горн.
Кукла в ягушке
Утро следующего дня выдалось морозным и ясным. Откладывать отъезд больше не было смысла. Мы упаковали вещи, подтянули лямки рюкзаков и вышли из чума. Провожать нас высыпали все жители стойбища, не было только Оли. Мы пожали руки Виктору и Анатолию, подарили смешные календарики Коле с Егором. Сделали мы подарки и нашим хозяевам.
– Вот, Гаврила, лопату себе оставьте. Она титановая, легкая и прочная! – я протянул ненцу нашу походную лопатку.
– О, спасибо, Костя! – сказал Гаврила. – Теперь Оле легче будет снег для воды выкапывать!
– И палатку забирайте! – сказал Горн. – Вы же говорили, вам летом нужна палатка, когда далеко от чума со стадом уходите…
– Спасибо, спасибо, Горн! – ответил Гаврила. – Будем вас вспоминать летом! А может, и сами приедете?
– Мы постараемся, Гаврила! Надо же мне все-таки научиться оленей пасти! – Я улыбнулся, за улыбкой скрывая грусть, неожиданно подкатившую к самому сердцу: мы расставались с людьми, которые стали для нас очень близки.
– Костя, это тебе подарок, в твой музей! – Мария протянула мне кожаный сверток. – Это тучан моей прабабки, очень старый! В нем-то она подарки сихиртя и хранила…
– Спасибо, Мария! Огромное спасибо! – Я с трепетом принял старинный тучан, потертый, украшенный орнаментом. – Как чум построю у себя в музее, так на женской стороне его и положу!
– Костя, Горн! Вы совсем как мы стали, по обычаям нашим жили. Я из священной нарты, с пояса прадеда, амулеты снял. – Гаврила держал на ладони две старинные бронзовые бляхи, в которых были прорезаны кресты. – Пока вы их носить будете, всегда дорогу к нашему чуму найдете, где бы мы ни каслали…
С этими словами Гаврила повесил амулет мне на шею, потом подошел к Горну. Я ощутил приятную тяжесть и тепло, исходящее от бронзы. На душе стало легче, и я почувствовал, что еще не раз увижу этот чум и этих людей, кочующих по бескрайней тундре…
– Теперь вы – одни из нас! – Гаврила тепло посмотрел на меня с Горном. – Мы будем ждать вашего возвращения, сколько бы месяцев или лет ни прошло…
Гаврила крепко обнял нас на прощание. Мария утирала слезы. Сергей, который должен был подвезти нас до трассы, дернул стартер генератора, двигатель завелся. Горн постоянно оглядывался, ища глазами Олю. Вдруг полог чума распахнулся, и в проеме показалась девушка. Оля бросилась к отъезжающему снегоходу, что-то крепко сжимая в руках, полы ее ягушки развевались на ветру.
Подбежав к нарте, Оля сквозь слезы улыбнулась Горну и протянула ему… куклу! Длинноногая золотоволосая Барби была одета в аккуратно сшитую ненецкую ягушку и сапожки-кисы.
– Это тебе. На память… Помнишь, как мы с тобой чехольчик для телефона шили? – Девушка опустила глаза, пряча слезы. – Ты ведь еще приедешь?
– Приеду, Оля! Обязательно приеду! Обещаю! – Горн обнял девушку и поцеловал в щеку.
Двигатель «бурана» взревел, нарта дернулась, и вскоре три островерхих чума исчезли за поворотом. Я лежал, закутавшись в шкуры, и думал о людях, которые стали нам родными, о размеренной и мудрой жизни оленеводов, соблюдающих древние обычаи тундры. Думал о том, что за эти недели совершил путешествие во времени, оказавшись в далеком прошлом всего человечества…
«Буран» летел, вздымая снежную пыль, мимо леса, где Гаврила просил у духов разрешения взять дерево на дрова, мимо рощи, где сломался снегоход Сергея, мимо одинокой лиственницы на вершине сопки, откуда мы звонили в Москву…
Сергей остановился у «трассы», как здесь называли Надымский зимник. Мы крепко обнялись с парнем, и он помчался обратно, лихо прыгая по снежным застругам. А мы через полчаса уже сели в попутный «Урал», шедший в Салехард, и к вечеру были в городе.
Амулет из священной нарты
Смотрительница Дома оленевода, увидев наши бородатые обмороженные лица, пустила нас переночевать по цене двести рублей с человека.
– Вот видишь! – улыбнулся я Горну. – Значит, все-таки стали мы настоящими оленеводами!
На следующий день за нами приехал Магомет, и мы отправились прямиком на телестудию «Ямал-Регион». Я с удивлением смотрел на улицы города, на людей в европейской одежде. Стеклянное здание студии вообще привело меня в трепет – я стоял в теплых сапогах, в свитере, густо покрытом оленьей шерстью, и изумленно оглядывался.
– Ну что, как в тундре? Хорошо отдохнули? – пожимая нам руки, весело спросил директор Управления по туризму. – Как там ненцы, кочуют еще?
– Да. Все удачно было! – с улыбкой сказал я, а сам неожиданно почувствовал, что не могу никому рассказать о том, что пережил в стойбище. Я прижал к груди амулет, подаренный Гаврилой, и вновь ощутил тепло, исходящее от него.
Мы с Горном сели в удобные пластиковые кресла, в лицо ударил яркий свет, заработали моторы телекамер. Очаровательная журналистка задавала нам вопросы, которые я сам задал бы месяц назад. Но теперь они казались глупыми и пустыми. Мы отвечали односложно, касаясь только бытовой стороны жизни стойбища, рассказывая больше о походе на лыжах, о преодолении трудностей на пути к оленеводам. Амулет Гаврилы согревал мне грудь, словно подсказывая, о чем можно говорить, а что должно остаться тайной, сокровенным знанием народа ненэй ненэч…
– Спасибо, ребята! Очень интересный рассказ о путешествии к нашим кочевникам! – Ведущая одарила нас лучезарной улыбкой. – Напомню телезрителям, в эфире телекомпании «Ямал-Регион» была программа…
Я перестал слушать журналистку, перестал вообще что-либо замечать вокруг. Перед глазами вставали занесенная снегом тундра, черные силуэты лиственниц на фоне закатного неба и чум Гаврилы, над верхушкой которого вилась тоненькая струйка дыма. И вдруг раздался голос ненца – он звучал отчетливее голосов людей в студии, шел со всех сторон, обволакивая меня приятным теплом, теплом очага далекого чума:
«Теперь вы – одни из нас… Мы будем ждать вашего возвращения, сколько бы месяцев или лет ни прошло…»
Я до боли в пальцах сжал бронзовый амулет, висящий у меня на груди, и прошептал:
«Мы вернемся. Мы обязательно вернемся…»
Книга вторая. Уроки тундры
Хозяин леса
В Подмосковье стояло сухое жаркое лето. Мы с Горном и моим учеником, Колей Смирновым, ехали на велосипедах через заросшее бурьяном широкое поле, приближаясь к темно-зеленой полосе дальнего леса. Оказавшись в прохладной тени деревьев, свернули на тропинку, петляющую между золотистыми стволами сосен, и через несколько минут остановились на поляне у огромного дуба. Даже расколотый молнией надвое дуб поражал величием, возвышаясь над другими деревьями, как настоящий Хозяин Леса. «Да он и есть Хозяин!» – улыбнулся я, поглаживая шершавую кору дуба. Вспомнив, чему учил меня Гаврила, я коснулся дерева щекой и прошептал просьбу: мы хотели срубить в лесу несколько десятков елок, чтобы сделать каркас чума для музея.
Горн смотрел на меня с пониманием, стоя чуть в стороне, а вот Коля не скрывал скептического отношения к происходящему.
– Совсем ты там спятил, на этом своем Ямале! – проворчал мой ученик. – С деревьями разговариваешь! Мы что, просто так не могли елок напилить?
– Могли, Колян. Но тогда чум плохой получится, неуютный… И вообще, к этому дубу нас с братом еще малышами папа приводил. Папа говорил, что зовут его Дуб Иванович, что он самый главный в лесу! Мы с ним весной здоровались, когда первый раз в лес приходили, осенью прощались…
– Дуб Иванович! – хмыкнул Коля. – Вроде взрослый мужик ты, Костян, а в сказки веришь…
Я промолчал, а сам подумал: ведь мы такие же «христиане», как и Гаврила! Мой папа, в те годы убежденный коммунист, главный редактор журнала, приводил меня в лес и учил общаться с деревом! А следующей весной и я познакомлю с Дубом Ивановичем своего старшего сына…
После разговора с Хозяином Леса мы пошли в ближайший ельник, и работа закипела. Выбирая высокие ровные елки, мы спиливали их под корень, очищали от ветвей, привязывали по три «хвоста» к багажникам велосипедов и везли к дачному поселку. На второй день утомительной работы Коля, утирая пот, сказал:
– Костян, тебе точно сорок штук надо? Может, поменьше чум сделаем?
– Сорок – священное число у ненцев! – веско сказал я. – Так Гаврила учил. Сорок – это две двадцатки, понимаешь? Что такое двадцатка, Коля?
– Ну, если следовать твоей логике, двадцатка – это две десятки. Или четыре пятерки! – принялся считать мой ученик.
Я засмеялся:
– Нет, Колян! Двадцатка – это человек! Двадцать пальцев! А сорок – это два человека, семья получается. Гаврила рассказывал, что самая большая жертва – сорок оленей. Это когда человек заболел тяжело, жизнь ему спасти надо. Ненцы говорят: не спеши приносить в жертву сорок оленей! Меньше уже нельзя, а больше – некуда… А еще Гаврила учил…
– «Гаврила сказал, Гаврила учил!» – передразнил меня юноша. – Ты его через слово цитируешь, этого своего Гаврилу! Нам еще твои сорок елок обстругивать. Тоже по всем обычаям?
– Конечно, Колян! Как Гаврила показывал…
– О нет! Только не это! – парнишка застонал, взялся за руль велосипеда и начал толкать тяжелую машину вверх по тропе.
Следующие несколько дней действительно ушли на обработку еловых стволов. Кору мы снимали скобелями и ножами. Смола брызгала во все стороны, руки по локоть почернели, в душном воздухе стоял аромат хвои. Затем мы с Горном взяли топоры и заточили нижние части обструганных елок. Сорок шестов были готовы. Осталось просушить их и отвезти в Москву. Старенький «запорожец» моего папы, напоминая гибрид грузовой нарты и снегохода «буран», несколько раз совершил нелегкое путешествие от дачи до музея, кряхтя под тяжестью жердей будущего чума.
Осенью, установив каркас жилища, мы взялись за шитье покрышек-нюков. Чум решили сделать брезентовым – оленьи шкуры просто не выдержали бы сырой московской зимы. Шили всем миром, помогали мои бывшие ученики, а теперь сотрудники музея: Майя Галеева, Варя Айвазян и, конечно, Коля с Горном. Вскоре нюки были раскроены и сшиты. Мы натянули их на островерхий еловый каркас, положили на землю широкие, покрашенные в коричневый цвет доски – чум был готов. Я первым зашел внутрь жилища и положил на женской стороне старинный тучан, подаренный Марией. Тучан одиноко лежал на свежеокрашенных досках пола, являясь единственным экспонатом новой коллекции. Огромный чум был совершенно пуст! Необходимо было срочно организовать новую экспедицию на Ямал, на этот раз для сбора предметов быта оленеводов.
Осенними вечерами мы с друзьями садились в чуме, разводили в очаге небольшой костер, пили чай, пахнущий дымом, и обсуждали предстоящее путешествие. Решили ехать вчетвером: я, Горн, его коллега по туристической фирме Юра и моя бывшая ученица Варя Айвазян. Юре было за сорок лет, это был спокойный, рассудительный мужчина, всю жизнь проработавший в школе учителем физкультуры. Варя училась в художественном институте на дизайнера, прекрасно рисовала и уже не раз участвовала в моих экспедициях. Майя и Коля тоже мечтали поехать, но Коле хотя бы иногда полезно было посещать уроки в школе, а на Майе оставалось все хозяйство музея и многочисленные экскурсии. К тому же вчетвером мы еще могли достаточно мобильно перемещаться, а приехав на Север большой группой, рисковали провести все время экспедиции в Салехарде.
– Ладно, не грустите! – сказал я Майе и Коле, пришедшим проводить нас на Ярославский вокзал. – В следующий раз обязательно поедете на Ямал, обещаю!
Я обнял друзей и заскочил в вагон, расписанный, как и весь поезд, бегущими северными оленями. Состав тронулся, и с перестуком колес началось долгое путешествие к конечной станции Северной железной дороги – городу Лабытнанги…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе