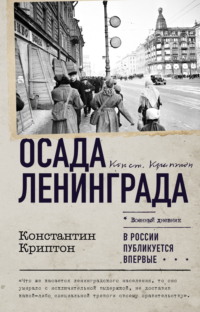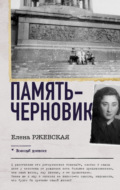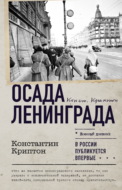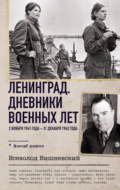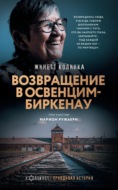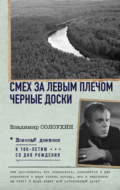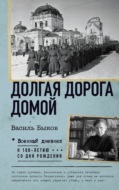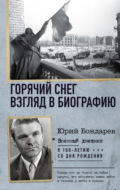Читать книгу: «Осада Ленинграда», страница 3
Было уже совсем темно, когда я подходил к своему дому. Ехать я не захотел и большой путь проделал пешком. Распоряжение о прекращении затемнения еще отдано не было. Видимо, просто забыли. Но часть домов осветилась самовольно, и в беспросветный мрак, владеющий городом, как бы ворвался всепобеждающий свет. Было невольно уютно. Недалеко от своих ворот я обратил внимание на двух пьяных рабочих, вышедших и остановившихся у дверей еще затемненной пивной. Это обстоятельство способствовало более откровенному обмену мыслями в происходившем споре. Первый, менее пьяный, убеждал своего товарища, совершенно пьяного, что дело все-таки не так плохо. «Ведь мы Выборг получили и границу отодвинули». «Правильно, – отвечал ему собеседник, – а мы сколько народу положили? Многие тысячи. А финны? Финны…» – дальше следовало нецензурное определение того, как мало погибло финнов. «Так ведь мы же границу отодвинули, – продолжал убеждать первый. «А на кой мне (следовало нецензурное) эта граница… Мы тысячи положили? А финны чего… Этак мы, что с границей, что без границы, только и будем, что обещания слушать да народ переводить».
На другой день я узнал, что несколько сдержанно приняла сообщение о мире часть партийных работников, хотя для многих из них данная война, являвшаяся явно наступательной, была «непопулярна». Что же касается многочисленных госпиталей Ленинграда, то там разыгрались просто тяжелые сцены. Сообщение о мире было встречено ранеными криками негодования, воплями, истериками. Многие срывали с себя повязки. Врачебные власти вынуждены были временно выключить радио: чересчур сильна была реакция на новое «достижение» правительства со стороны людей, проливших ради него свою кровь.
С Финляндией был заключен мир, прекратились и морозы. Город залечил свои раны, продовольственное положение наладилось. Газеты воспевали успехи советского оружия. С пришедшей весной во вновь присоединенные районы потянулись экскурсии. На Западном фронте между тем началось оживление, вылившееся в большие военные события, кончившиеся Дюнкерком.
Перед Дюнкерком я был в известной неуверенности: будет продолжаться процесс восстановления старых русских границ или нет. До войны с Финляндией в широких кругах населения вспоминали, конечно, о Бессарабии, захваченной Румынией во время Гражданской войны в России. В ответах лекторов-пропагандистов на данный вопрос сквозила мысль, характеризующаяся русской пословицей «Всякому овощу свое время». Уроки Финляндии были столь тяжелы, что, казалось, забыли не только про «время», но и про те самые «овощи».
Оживление военных действий на западе и связанность там Германии создали все же благоприятные условия, чтобы покончить с самостоятельностью прибалтийских государств и вернуть Бессарабию, присоединив к ней еще и Буковину.
Немым укором советскому правительству, перешедшему от решения внутренних задач к международным, оставалась все же незавоеванная Финляндия. Генеральная репетиция была явно неудачна.
Глава 2
Зима 1940–1941 годов
Поражение французской армии, эвакуация с Европейского континента английских сил и последовавшие за этим законодательные мероприятия советского правительства: возвращение к старой семидневной неделе, усиление дисциплины на предприятиях, прикрепление всех к месту работы, наконец, реорганизация Красной армии – заставили почувствовать непосредственное приближение войны уже весной 1940 года. Трудно было предположить, чтобы Германия, оставшаяся в Европе один на один с Россией, не поспешила разрешить желательным для себя образом восточный вопрос. Возможно, она постаралась бы предварительно все-таки покончить с Англией. Тогда следовало ожидать выступления против нее Москвы. Для меня было вообще непонятно, почему советское правительство пропустило такой момент для нападения на Германию, как Дюнкерк. Русское императорское правительство никогда не позволило бы Германии уничтожить Францию и нарушить тем самым политическое равновесие в Европе. Достаточно вспомнить попытку Бисмарка после Франко-прусской войны напасть вторично на Францию с целью ее окончательного уничтожения и демарш князя Горчакова, русского министра иностранных дел, пригрозившего за это войной. Единственным объяснением оставалось то, что советское правительство рассчитывало на более благоприятное положение, когда Германия втянется в войну против Англии, предприняв десантные операции. Возможно, и уроки Финляндии, показавшие, что настоящая «мобилизационная готовность» отсутствует, принуждали всячески оттягивать с началом войны. Бездействие во время уничтожения Франции было все же чересчур рискованным. В этом, нужно надеяться, советское правительство убедилось само через полтора-два года.
Летом 1940 года я проделал большую поездку по Сибири, что невольно отвлекло и заставило на время забыть о том неизбежном и страшном, что надвигается на Россию. Но достаточно было, по возвращении из Сибири, ступить в Москву, чтобы сразу же почувствовать во всем биении столичной жизни близость грядущей войны.
Получив без всякой задержки билет на вечерний поезд в Ленинград, я провел значительную часть дня на сельскохозяйственной выставке. Это был последний или предпоследний день ее работы в этом году. Посетителей было сравнительно немного. Некоторые павильоны стояли закрытыми. Происходила распродажа отдельных экспонатов. Все это на фоне ярких осенних красок и гремевшей музыки точно говорило о конце одной жизни и наступлении новой. Путешествуя по павильонам выставки, я не мог освободиться от тревожного и невольно грустного чувства, что грань, рубеж близок: период так называемого социалистического строительства сменится военным.
Вернувшись в Ленинград и начав работать, я видел кругом все ту же лихорадочную деятельность, свидетельствующую о скорой войне. Была введена даже цензура военного времени. Ряд самых невинных работ, напечатанных и разосланных по библиотекам, изымался из обращения. Ряд работ был задержан в печати, другие даже не были допущены к печати. Несмотря на увеличение весной продолжительности рабочего дня, заработная плата была несколько снижена и, что самое скверное, очень сильно повышены цены на все продукты: продовольствие, одежду, обувь и т. д. Открылся ряд коммерческих магазинов, где только и можно было что-либо купить. Цены там были невозможные. Делали все это довольно открыто. Обычные объяснения и доказательства в том духе, что «хоть цены повышены, но фактически они не повышены», отсутствовали. Много говорилось только о необходимости «крепить оборону страны».
«Мы, большевики, народ честный и прямолинейный, – сказал мне как-то председатель профкома одного завода, где я читал лекцию, – нужно укреплять оборону страны, для этого нужно мобилизовать все финансовые ресурсы. Приходится, конечно, повысить цены на товары и снизить заработки. Мы прямо говорим…».
На фоне сильного понижения жизненного уровня населения, оставлявшего и без того желать много лучшего, было особенно чувствительным лишение студентов стипендий и введение платы за обучение. Об этом законе я прочел еще в Омске, купив на улице местную газету. От неожиданности я просто присел на скамейку у киоска. Можно было сразу же предвидеть большой отсев студентов. Этот отсев и не замедлил последовать3. Новый закон характеризовался исключительной беспощадностью. Не только лишали стипендий, но заставляли платить, не делая разницы между студентами первых и последних курсов. Сама техника проведения в жизнь этого закона была более чем неудовлетворительна. Прием в высшие учебные заведения происходил летом, занятия начинались первого сентября. Самым рациональным явилось бы опубликование закона весной, избавив от лишних усилий тех, кто шел учиться только в расчете на стипендию. И совсем неразумно было издавать его после начала учебного года в октябре месяце. Сколько тут помимо личного страдания оказывалось затраченного напрасного труда: сдача экзаменов, всевозможные устройства, переезды и т. д.
Тогда же я невольно подумал: «Теперь жди чего угодно». И действительно, скоро появился закон о планировании и перебросках инженерно-технического и рабочего персонала. Планирование рабочей силы, может быть, могло явиться и неплохой вещью там, где считаются с человеком как с таковым. Закон о высшей школе вызывал в этом отношении лишний раз грустные размышления. О том, насколько считались с человеком, свидетельствовали студенты последних курсов, вынужденные по распоряжению самого правительства уйти из высших учебных заведений. Что же ожидать от низовых инстанций, когда они займутся переброской отдельных работников из одного места в другое? Тут уж от человеческой личности ничего не останется. Однако планирование технического персонала, как и осуществление ряда других подобных мероприятий, со всей неумолимостью началось. Советское правительство ждало войны.
Приближение войны вызвало у меня чувство большой тревоги. Было больно думать, что русские города, русские памятники культуры могут подвергнуться разрушению. Часто пересекая Неву и глядя на ее чудные берега с анфиладой дворцов, я тоскливо думал: неужели все это станет объектом воздушной бомбардировки? Еще больше думал о населении, которому жилось и так нелегко. Власть тиранически беспощадна, государственно-хозяйственная система бюрократична и просто несуразна, армия к войне не готова. Все это даст ужасные результаты. Линию Маннергейма брали телами десятков тысяч людей, но то была только линия Маннергейма, и сама война не называлась войной4. Что же будет, когда придет настоящая война? Она потребует действительного напряжения всего организма страны, где и в мирное время жизнь далеко не налажена: продовольственный вопрос, промтоварный, жилищный и т. д.
Тревожил и другой вопрос. Что, если советское правительство, скрывающее абсолютно все, что касается национал-социалистов, право, твердя об их намерении полного и немедленного порабощения России? Следовало иметь в поле зрения и эту возможность. Правда, казалось, нужно потерять голову, чтобы пытаться поработить Россию. Однако советская тирания представляет собой вполне реальное явление. Искусство, с каким она забрала в свои руки народ, не имеет в истории прецедентов и, надо надеяться, не будет иметь. Его секрет в умении не только физического, но и чисто психологического насилия. В создании последнего помогли особые условия русской истории, но, как бы то ни было, это реально… Что же касается овладения извне 180-миллионным населением с ярко выраженным национальным credo, совершившим недавно величайшую из революций и переживающим ее еще поныне, то ведь это же химера. Русский народ, показавший на протяжении своей истории высокие образцы защиты национального бытия, может быть пассивен в отношении своей власти, которая сумела повести его за собой. Но ведь совсем другое дело иностранное завоевание. Мало осталось старой русской интеллигенции, но есть новая, стоящая ближе к народу, способная лучше поднять и повести его против всякого видимого врага, каким всегда будет чужеземный покоритель. Да и сам народ – отличный организатор, когда ему приходится становиться таковым. Показательны в этом смысле сами формы его пассивного сопротивления.
Будучи свидетелем и участником Антоновского восстания, я имел в этом отношении обширные наблюдения. Ведь, в конце концов, даже это восстание сломили не только вооруженной силой. Я лично видел трех схваченных антоновцев: кулака, середняка и бедняка, которых под особым конвоем везли в Москву к Ленину для беседы и изучения положения вещей на месте. Подавить восстание удалось только после перехода к новой экономической политике и привлечения части крестьян на свою сторону. А как великолепно организовано было это движение, хоть там вообще никакой интеллигенции не было, ни старой, ни новой, а если и была, то на вторых ролях. С тех же пор многое изменилось. Народ стал еще самостоятельнее. Это подтверждалось и наиболее беспристрастными представителями старого общества. Один очень умный человек, орловский помещик, уцелевший в Стране Советов, знающий хорошо народ прежде и теперь, говорил как-то: «Конечно, народ стал иной. Прежде, например, растерялись бы и не знали, что делать, если случайно губерния осталась бы без губернатора. Теперь сразу сами сорганизуются».
Пришла весна 1941 года. Все по-прежнему говорило о скором начале войны. Меня самого вызывали два раза в воинскую комиссию. Последний раз я подвергся очень внимательному и долгому медицинскому переосвидетельствованию. Одного моего знакомого научного работника, окончившего путейский институт, там же спросили, сможет ли он быстро восстанавливать мосты в случае войны и нашего наступления. Периодическая печать оставалась по-прежнему исключительно сдержанна в отношении Германии. Больше того, всегда подчеркивались заключенный пакт и дружественный характер взаимоотношений с ней. Был случай, что один из более известных ленинградских лекторов-международников, пользовавшихся особым вниманием городского комитета партии, позволил себе на лекции выпады против Германии, указав на неизбежность столкновения с ней СССР и то, что войну в Европе она уже почти проиграла. Выступая подобным образом, он руководился, видимо, какими-то новыми нотками сверху. Однако он ошибся. Газеты писали по-прежнему о дружбе СССР с Германией. Он же получил нагоняй и был отстранен от чтения лекций.
Одно время я даже поверил, что смогу спокойно провести свой летний отпуск. Этот мираж был вскоре же нарушен, и не кем другим, как прачкой, пришедшей 15 июня за бельем. В СССР целый ряд важных и существенных новостей можно было узнать у представителей самой гущи населения. Прачка отказалась в ближайший срок приготовить белье. На вопрос почему последовал ответ: «С сушкой белья трудно». На вопрос, почему с сушкой белья трудно, было сказано: «Все чердаки ломают, война, говорят, скоро будет. Хотят предупредить пожары от бомбежек».
В это же время в интеллигентских кругах обсуждалось другое известие: бегство Гесса, одного из руководителей германского национал-социализма, на самолете в Англию. Сказать что-либо определенное за отсутствием более полных данных было трудно. Высказывались только предположения. Одни считали, что у германских национал-социалистов дела плохи, рыба начинает гнить с головы. Другие говорили, что дело нечисто и не полетел ли Гесс договариваться с англичанами о мире за счет СССР? И в первом и втором случае результат был неизбежно один – война. Чердаки, может быть, ломали и не зря.
Глава 3
22 июня 1941 года
В субботу 21 июня я работал в Публичной библиотеке. В этот день закончил предпоследнюю главу большой работы и был в хорошем настроении. На следующей неделе я намеревался уехать в деревню и начать отдыхать.
Уходя из библиотеки, я просмотрел газеты за предыдущие дни, обратив внимание на небольшую информацию ТАСС. Она говорила, что одна английская газета поместила сообщение о скором нападении Германии на СССР и концентрации большого количества немецких войск на восточной границе, в Польше. ТАСС указывал, что это очередная провокация, но тут же добавлял: «Концентрация немецких войск действительно почему-то происходит». Подобная информация показалась странной. С одной стороны, английская провокация, с другой – собственное недоумение по поводу сосредоточения немецких войск в Польше. Оставалось единственное объяснение, что здесь скрывается какая-то задняя мысль советских дипломатов, преподанная органам печати.
На следующий день, бывший воскресеньем, я проснулся как обычно. Только у моей жены еще в постели вырвалась фраза: «Всю ночь летали самолеты и сейчас летают. Не нравится мне…». Вскоре это было, положим, забыто. Учебные полеты могли происходить всегда. Радио давало обычные передачи. Никаких оснований для тревоги не было.
Напившись чаю, я направился в парикмахерскую. Стоял хороший солнечный день. Выйдя на улицу, сразу же обратил внимание на степенного дворника соседнего дома. Известным образом он был историческим лицом. Все политические события в стране, начиная с усиленной волны арестов и кончая смертью руководителей советского правительства, отражались незамедлительно на его лице, на всей его фигуре. За 14 лет каждодневной встречи я не обмолвился с ним ни одним словом, но всегда понимал, когда происходило что-нибудь новое. Только один раз он находился в состоянии некоторой растерянности. Это был день известия о смерти Крупской, жены Ленина. Как пришлось узнать позже, лицо дворника отражало растерянность, не его собственную, а высших инстанций, не знавших на первых порах, должны они вывешивать траурные флаги или нет. Только через некоторое время после известия о смерти появилось общее распоряжение вывесить флаги.
Утром 22 июня дворник стоял в чистом фартуке, имея явно озабоченный вид. На его боку висел большой противогаз, приведенный в положение готовности. Зная, что никаких сообщений о проведении учений ПВХО5 не было, я невольно спросил, что это значит. Дворник кратко ответил: «Под утро получили приказ установить у ворот дежурства и надеть противогазы». «По всей вероятности, это учение ПВХО», – сказал я. «По всей вероятности, да», – ответил неопределенно он. Дойдя до парикмахерской, наполненной, как обычно в воскресенье, большим количеством людей, я услыхал по радио предупреждение, что через полчаса будет говорить Молотов. Среди оживившейся публики раздались голоса: «С Финляндией, видимо, война. Покончат с ней все-таки». Мое сердце сжалось. Внутренне я не имел никаких сомнений, что это война, но не с Финляндией, а с Германией.
…Речь Молотова произвела впечатление разорвавшегося снаряда. В парикмахерской раздались крики возмущения. Большая часть посетителей была просто растеряна. Сами парикмахеры, правда, абсолютно молчали, как будто ничего не произошло. Даже мой знакомый парикмахер на вопрос: «Ну как же воюем?» – только посмотрел на меня и ничего не ответил, сосредоточенно продолжая стрижку волос. Советские люди зря не болтают там, где их все знают, даже в такие минуты.
Выйдя из парикмахерской, я увидел картину взбудораженного города. Люди бежали по улицам. Они торопились что-то сделать. Трамваи, наполненные обычно в воскресные дни, осаждались сверх всякой меры. Новость была двойная. Во-первых, война с Германией и Финляндией. Во-вторых, она уже происходит около 12 часов. С минуты на минуту, следовательно, можно ждать налета. По радио после выступления Молотова передавалась через каждые 30–40 минут краткая инструкция поведения населения и органов ПВХО во время налета противника.
Магазины буквально штурмовались толпами людей. Все спешили купить какое-либо продовольствие, преимущественно крупу, муку, масло, сахар. «Гастроном», находившийся недалеко от моего дома, был осажден так, что вызвали двух милиционеров. Сделать что-либо они абсолютно не могли. Один из милиционеров, рассвирепев от бесплодных усилий навести порядок, кидался с жестокой руганью, не то укоряя, не то угрожая, просто на отдельных лиц, которые смущенно слушали, ничего не говорили, но продолжали по-прежнему стоять в очереди. Большие очереди образовались у сберегательных касс. Здесь господствовало относительное спокойствие. Администрация касс прекратила всякие операции и ждала указания от вышестоящих инстанций о возможности выдачи денег. Люди в очереди стояли с явно унылым видом, понимая, что ничего не получат ни по сберегательным книжкам, ни по займам. Подходя к дому, я увидел опять дворника. Он стоял все так же чинно у дома, наблюдая серьезным взглядом мечущуюся публику. Встретившись глазами со мной, он, против обыкновения, улыбнулся, как бы говоря: «Вот вам и учение». За все 14 лет это был единственный диалог между нами. В первые месяцы войны я видел его редко. Когда же начался голод, он умер одним из первых.
Созвонившись с рядом лиц по телефону и обменявшись впечатлениями, я занялся немедленно приведением в порядок всех дел на случай всяких событий. Одновременно собрал минимум вещей для спасения при бомбежках и пожарах. Вечером я пошел, как намеревался еще раньше, по одному делу. Город являл вид все того же встревоженного людского муравейника. Магазины по-прежнему осаждались толпами людей. В отличие от обычного на улицах не было большого числа пьяных, попадались только отдельные фигуры. Возвращаясь домой, я увидел небольшую группу людей, стоявших на углу улицы у радиоприемника. Передавалась все та же утренняя речь Молотова. Слушатели были в явно подавленном настроении. Особенно бросилась в глаза простая, уже пожилая женщина, мать, видимо, многих детей. На нее обратил внимание и проходивший мимо высокий сильно пьяный рабочий. До радио ему не было никакого дела, а человека в горе решил утешить. «Ты что, – ободрительно обратился он к ней. – Ты ничего, не смущайся, нас много, мы сильны», – закончил он, взмахнув в воздухе рукой и повысив голос. На фоне встревоженных людей эти пьяные утешения выглядели грустно.
Вечером к нам пришли знакомые и мы слушали радио. Передавался ряд приказов правительства, вызванных военными событиями. Огонь не зажигали. Нужно было бы делать затемнение и закрывать окна, но к этому не располагала духота. Все сидели молча…За громким вещанием радио в сумерках белой ночи выступали, казалось, уже большие грозные события, вторгшиеся в жизнь страны, в жизнь каждого отдельного человека.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе