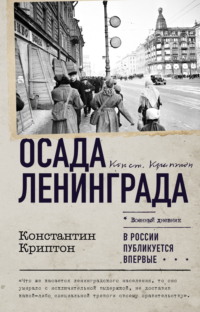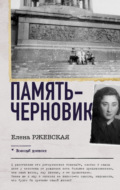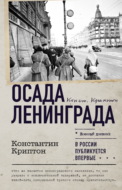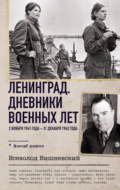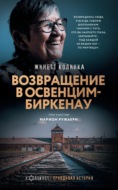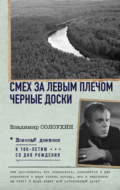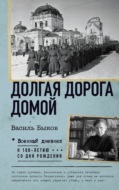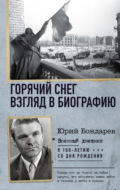Читать книгу: «Осада Ленинграда», страница 2
Не только молодежь, но и более взрослое поколение думало, что завоевание Финляндии представит двух-трехнедельный военный эпизод. Военная молодежь, партийцы, что называется, рвались в дело, говоря стандартное: «Задание партии и правительства» и «Финляндия будет сокрушена». Считали, что для этого достаточно 2–3 корпусов. В кругах старой интеллигенции смотрели более сдержанно. «Орешек может оказаться твердым», – говорил мой старый учитель истории. Эту точку зрения разделял и сам я, руководясь следующими соображениями. Прежде всего крайне выгодное международное положение Финляндии. В Европе война, но все воюющие стороны, без исключения, на стороне Финляндии, а не на стороне СССР. Это обещало большую дипломатическую и военную поддержку. Перечисляя позже страны, которые посылали в Финляндию оружие и даже указывая кто, сколько и какое, Молотов не назвал, правда, Германию, но ее союзницу Италию – прямым образом.
Вторым и собственно главным моим соображением являлось неверие в высокие боевые качества Красной армии. Она обладала отличным людским материалом, по всей вероятности, техникой, но вряд ли имела хорошо слаженную организацию, наличие которой определяет успех всякой армии. Сомнительны были качества командного состава. О его низком уровне, общекультурном и непосредственно-специальном, говорили порой сами представители новой интеллигенции. Приходилось, наконец, считаться с недавним уничтожением лучшей части высшего командного состава армии; Тухачевского, Егорова, Блюхера, Орлова, Уборевича, Якира и тысяч командиров среднего состава, выдвинувшихся за время Гражданской войны, получивших боевой опыт, дополненный позже теоретическим образованием и службой в кадровых частях армии.
События, разыгравшиеся в зиму 1939–1940 года, превзошли самые пессимистические ожидания. Поражение армии, вступившей в северо-восточные районы Финляндии, и тупик, каким оказалась линия Маннергейма, заставили еще раз задуматься о всей политической системе, чересчур безответственной в своих действиях.
«Орешек» был, конечно, твердым. Будущие историки воздадут не раз должное крохотной героической Финляндии. Они отметят изумительную выдержку и большой ум ее государственных руководителей, сумевших понять и предвидеть все слабые стороны своего противника-великана. Они скажут много хороших слов и о настоящем патриотизме народа, поднявшегося как один человек на защиту своей страны. Эти качества, видимо, издревле присущи финнам. Ими объясняется, надо думать, предоставление Финляндии Александром I автономии, определившей ее место в составе Русского государства.
Все данные Финляндии, начиная с исключительно благоприятных для защиты страны естественно-географических условий, только усиливали требования к ее могучему противнику, обязанному, кроме хвастливых деклараций, подумать и о своем авторитете.
Первые же недели войны показали, что если Финляндия сумела хорошо оценить слабые стороны Советского Союза, то ее сильные стороны правительством последнего поняты не были. Доказательством является чересчур поспешное провозглашение нового финского правительства. Помимо ума и известной прозорливости руководителей советского правительства, стал вопрос о советской разведке. Она, видимо, тоже никуда не годилась. Многого не знали. Линию Маннергейма и связанную с ней систему оборонительных укреплений (сплошное минирование целых районов и т. д.) явно недооценили. И что самое скверное, не знали самих себя: ни своих военных, ни своих хозяйственных возможностей. Здесь сказался, очевидно, известный закон социально-психологической инерции: обманывая непрестанно население страны, невольно обманулись сами.
История войны с Финляндией в 1939–1940 годах показывает, что в планах советского командования фигурировали два варианта сокрушения противника. Первый – действие в лоб, т. е. прорыв линии Маннергейма на Карельском перешейке, взятие Выборга, форсирование линии Кюммене, взятие Хельсинки и овладение всей страной. Второй вариант заключался в сосредоточении войск на одном из северных участков восточной границы и проникновении в Финляндию, минуя ее укрепленные линии. Первый вариант требовал высокой военной техники и значительных людских жертв, второй вариант – подвижного, гибкого хозяйства, способного создать на севере исходные коммуникационные базы и поддержать углубляющиеся в Финляндию армии.
Верное своему принципу максимального выполнения всего и вся, советское правительство приступило к одновременному осуществлению обоих вариантов. Большое количество войск, стоявших на границах прибалтийских государств, приготовленных к вторжению туда на случай неподписания ими договоров с СССР, было переброшено на финляндскую границу. Часть их направилась в Северную Карелию, откуда было предпринято наступление, часть сосредоточена севернее Ладожского озера, где тоже были сделаны попытки наступления, и часть – на Карельском перешейке против линии Маннергейма.
Следя внимательно за развивающимися событиями, я считал, что данная война с маленькой Финляндией представляет собою экзамен для советской системы, не только ее армии, но и хозяйства. Советское правительство, привыкшее отчитываться перед безмолвным народом и самим собой, должно было показать себя на деле, когда заговорят не бесконтрольные давно наскучившие цифры, а действительные факты.
Из двух вариантов овладения Финляндией являлся, видимо, лучшим марш с востока как требующий наименьшего числа жертв. Прорыв двух укрепленных линий даже в случае искусного проведения всех необходимых операций потребовал бы все же уложить много людей. Восточный вариант являлся и наилучшим экзаменом советской хозяйственной системы.
Финал похода из Карелии известен. Наступавшая армия была разбита и вынуждена к поспешному бегству назад, потеряв большое количество людей. Попыток нового наступления и обхода укрепленных линий Финляндии не предпринималось.
Легко одетые советские солдаты, неделями находившиеся под открытым небом, не могли противостоять хорошо одетым, бегающим на лыжах финнам, за которыми находилось теплое жилье и хорошо организованные коммуникационные базы. Они не могли противостоять уже потому, что обмерзали и просто замерзали. Можно было обвинять Кагановича в том, что своим хвастовством он заставил забыть о действительных возможностях советского транспорта. Еще правильнее было говорить о всей системе, в условиях которой оказалось возможным отправить людей в легких шинелях и кожаных сапогах в северные широты при начавшихся сильнейших морозах. Кагановича трудно обвинить в том, что армия была без теплой одежды. Во-первых, не он все-таки посылал. Во-вторых, если бы и транспорт лучше работал, то это мало помогло бы делу. Не было теплой одежды. Армии, стоявшие у Ладожского озера и непосредственно у Ленинграда на Карельском перешейке, были первое время также без нее, несмотря на крайне жестокие морозы (до 40 гр.), установившиеся на второй день кампании и продержавшиеся до заключения мира. Обмораживания здесь представляли тоже крайне распространенное явление.
Вопрос о теплой одежде был только одним из тех «узких» мест, какие вскрыла советско-финская кампания. «По Карелии до финской границы, – рассказывал мне доктор, участник похода, – идти было тяжело: дикий лес, никаких дорог. От границы по самой Финляндии двигались легко. Финнами проложены отличные дороги, которые они не стали портить, за исключением бензиновых колонок».
Отсутствие теплой одежды, плохие дороги и целый ряд других слабых мест, несмотря на все свое значение, отступили перед обнаружившейся слабостью большей части командного состава, неслаженностью отдельных войсковых подразделений, неумением проводить самые простые тактические операции, общим хаосом и неразберихой. Еще перед занятием Западной Украины и Белоруссии, при частичном призыве в Ленинграде, происходили случаи, когда не только пожилые профессора, но и академики получали повестки о явке на мобилизационный пункт. Как показали дальнейшие события, это была не случайность, а отражение общего положения. Подбор командного состава только по принципу преданности не замедлил дать свои результаты.
Неудачи на восточных участках фронта заставили советское командование сосредоточить внимание на линии Маннергейма. Здесь были близкие коммуникационные базы, обильное снабжение, много техники и еще больше солдат. На протяжении всей войны последние прибывали из различных районов России. Ленинградцы встречали своих знакомых из-под Москвы, Казани и из других мест. В отдельных районах города непрерывное движение войск происходило неделями. Во время проезда по Лиговке рано утром можно было наблюдать обмерзшие войска, идущие откуда-то походным маршем. Пропускная способность невских мостов, казалось, готова была спасовать перед количеством боевой силы, направляющейся в Финляндию для «военных действий».
Вскоре после начала войны стало известным, что на Карельском перешейке происходит что-то ужасное. Безответственность и безжалостность советской системы в отношении своих граждан выступили со всей силой. Для советской «первоклассной техники и руководства» линия Маннергейма явилась неприступной крепостью. Единственным выходом явилось настлать горы из трупов десятков тысяч человек, чтобы ее прорвать. Советское правительство решилось это сделать. Сделало… и само испугалось, поспешив заключить мир с «низвергнутым» правительством Финляндии. Перспективы прорыва второй линии финляндской обороны и дальнейшего ведения войны оказались чересчур страшны. Заносчивое советское правительство, еще недавно грубо оборвавшее Рузвельта, просившего избавить от бомбардировок гражданское население Финляндии («Президент имеет чересчур большие глаза, если видит такие вещи из-за океана». Молотов), должно было с этой самой Финляндией заключить мир, не пытаясь продолжать ее завоевание.
Экзамен был провален полностью. Не оправдала себя ни хозяйственная, ни военная система, доказавшая, что первоклассной она отнюдь не является, а явно требует лучшей организации и лучшего управления.
Исключительная «несуразность» событий 1939–1940 годов побудила Геббельса, одного из руководителей национал-социалистической Германии, на второй год войны с СССР сказать, что финская кампания представляла ловкий маневр советского правительства, имеющий целью создать ложное представление о своих действительных военных силах. Если развивать это положение, можно было бы поставить вопрос, не является ли вообще поведение советского правительства каким-то маневром, заставляющим забывать силы и возможности страны, которой оно управляет. Что же касается финской кампании, то нужно ближе знать советскую действительность, чтобы понять, что здесь обнаружилась одна из обычных очередных «неувязок», обусловленных мертвой бюрократической системой, препятствующей порой совершенно неожиданно приведению в действие своих собственных сил. В 1944 году, когда Советская армия прошла известную перестройку и обновила за годы войны с Германией несколько раз свой высший командный состав, та же линия Маннергейма была прорвана в короткое время. Предыдущие уроки пригодились, но какой ценой они были достигнуты!
По окончании финской кампании советское правительство сделало известные выводы относительно армии. Был снят с поста народного комиссара обороны долговечный Ворошилов, и проведены некоторые реформы в самом существе ее. Совершенно отсутствовало что-либо подобное в отношении хозяйственной организации тыла. Между тем история войны с Финляндией дала много поучительного и в отношении его.
Весь период войны я провел в Ленинграде. Продовольственное снабжение последнего расстроилось еще за 2 месяца до начала финской кампании. Достаточно было Молотову сказать о движении советских войск в Западную Белоруссию и Украину, чтобы с продуктами в городе стало тяжело. За сахаром и маслом устанавливались большие очереди. Люди были вынуждены идти к 5–6 часам утра, чтобы после 3–4 часов ожидания получить полкило масла или полкило сахара. Многие продукты вообще исчезли. Начало финской кампании ознаменовалось тем, что очереди за сахаром и маслом, насчитывавшие сотни, стали насчитывать тысячи человек. Очень многие, в том числе и я с женой, должны были отказаться от масла и надежды приобретения его на все время финской кампании. Аналогично было с сахаром, который, к счастью, имелся в запасе дома. С рядом других продуктов в городе стало также еще хуже. Многие люди громко говорили о необходимости введения карточек, которые что-то гарантировали бы без очереди. Работники прилавка, которым адресовались эти просьбы, отмалчивались, и только некоторые порой бросали: «Товарищ Молотов сказал, что карточек не будет». Испортилось питание ресторанов и ряда ведомственных и неведомственных столовых. Не раз, уйдя на весь день из дома, я оставался по-настоящему голоден. В столовой института или библиотеки можно было получить что-то несытное, недоброкачественное. Некоторые хорошие рестораны были взяты для обслуживания военных учреждений, и частным лицам там ничего не отпускали.
Наблюдая продовольственное положение города, я искренне жалел торговые организации. Они явно старались что-то сделать, обладая известным запасом отдельных продуктов. Однако это было бесполезно. Происходила настоящая, быть может, и бессознательная борьба между ними и населением. Если торговые организации пытались по ряду продуктов сохранить нормальное положение, то население незамедлительно его расстраивало, делая запасы всего, что только можно было. «Валька, Валька, – слышал я как-то из темноты улицы, – ты знаешь, Любка 8 кило конфет накупила, а сейчас опять в “Гастроном” за мармеладом побежала. К вечеру обещали привезти». Подобные разговоры в менее откровенной форме слышались зачастую.
Переключение населением всей своей заработной платы, хотя бы и временно, на закупку всевозможного продовольствия, естественно, нарушало всякие нормы и пропорции обычного снабжения, рассчитанного только на потребление. Что побудило население делать запасы? Неверие, которое культивировала фактически сама власть. Не верили ее заверениям о достаточных запасах продуктов. Не верили и тому, что война с Финляндией ограничится только Финляндией.
Можно ли как-то судить за это? Нет, и ленинградцев, большей части которых пришлось позже все-таки умереть от голода, в особенности. Наконец, и действительно продуктов наиболее необходимых было недостаточно. Как только по заключении с Финляндией мира выпустили в продажу больше масла, очереди на него моментально прекратились. То же наблюдалось и с другими продуктами.
Начало военных действий с финнами помимо обострения продовольственного положения ознаменовалось еще двумя событиями: полным затемнением города и необычайно сильными морозами, продержавшимися, как говорилось выше, до заключения мира. Последнее, хотя и было не от войны, а от природы, все же явилось обстоятельством, крайне ухудшившим жизнь города. Топливный вопрос, вообще всегда непростой после революции, в связи с событиями осени 1939 года усложнился окончательно. Большой процент населения мерз самым отчаянным образом, не имея дров и не имея возможности их купить. Плохо было и со снабжением керосином, являвшимся основным средством приготовления пищи, а для многих и средством обогревания.
Не знал, совсем не знал Родзянко, докладывая государю незадолго перед Февральской революцией, о катастрофическом положении Петрограда и его жителей, что такое катастрофическое положение. Немного помогли бы ему и месяцы финской кампании. Жизнь-то, собственно, «нормальной» была. Пришлось бы, видимо, подождать еще два года до блокады немцами Ленинграда и прямого вымирания населения от голода не при 8–9 градусах в жилых помещениях, как указывал его доклад, а при 2–3 градусах и ниже. Положим, это катастрофой тоже не было. Блокада как блокада, и жаловаться нечего.
Упорные морозы периода финской кампании сказались отрицательно на домах города, большой процент которых находился в плохом состоянии. Происходили частые нарушения работы водопроводной и канализационной сетей. Люди должны были путешествовать в поисках воды по квартирам соседних флигелей и ближайшим колонкам. Исправление частых повреждений требовало больших хлопот, свидетельствуя о том, что ремонтное дело, как и вообще жилищное хозяйство, поставлено из рук вон плохо.
Осложняющим фактором жизни являлось раннее погружение города в темноту. Этому сопутствовало если не расстройство, то крайнее ухудшение работы городского транспорта. Сильно сократилось число не только курсирующих автобусов, мобилизованных на военные нужды, но даже трамваев. Последние появлялись редко, будучи в буквальном смысле слова набиты людьми. Попасть в них было исключительно трудно, зачастую невозможно. Предельное заполнение вагонов и темнота (горели слабые синие лампочки) привели к тому, что все ездили не платя. Кондуктор был физически не в состоянии двигаться по вагону. С людей, находившихся поблизости от него, он еще получал деньги. Основная же масса пассажиров считала бесполезным передавать деньги в темном вагоне кондуктору, как это было принято обычно. Многие прямо злоупотребляли возможностью бесплатной езды.
В первые же дни погружения города в темноту поднялась многочисленная «шпана»1, решившая, что когда же ей и развернуться, как не сейчас. Помимо всевозможного хулиганства под покровом темноты начались очень дерзкие ограбления, принявшие характер эпидемии. Нападали не где-нибудь на окраинах, а на главных улицах города, начиная с Невского проспекта. Вырывали из рук портфели, женские сумки, срывали шапки, шляпы, порой просто останавливали и снимали пальто. Особенно проявила себя армия беспризорников. Вделав лезвия безопасных бритв в специальную оправу, они резали лица, зачастую глаза и руки проходящих людей, чтобы что-то выхватить и убежать. Порой нападали группами, и справиться с ними в темноте даже нескольким человекам, пришедшим на помощь ограбляемому, было очень трудно. Уголовные власти ответили суровыми репрессиями, выслав из города всех подростков, имевших судимость или просто в чем-либо запятнанных. Это дало сразу результаты. Явное хулиганство прекратилось, уменьшились и грабежи, но только уменьшились. С одной моей знакомой уже после этих мероприятий сорвали в трамвае шляпу.
Если оставить в стороне вопрос об отдельных сторонах жизни и обратиться только к продовольственному положению, то приходится констатировать полное расстройство всего уклада жизни, что находилось в противоречии с заверениями правительства о мобилизационной готовности страны и в первую очередь приграничного Ленинграда. Вряд ли здесь были сделаны по окончании войны попытки каких-либо серьезных улучшений. На это просто не обратили внимания. Мало что изменилось бы, если бы даже обратили внимание. Какие-либо улучшения требовали серьезной перестройки колоссального бюрократического аппарата, да и самой экономической системы, по милости которой независимо от войны с финнами по всей стране за исключением Москвы продовольственный вопрос был еще хуже, чем в прифронтовом Ленинграде. Для улучшения аппарата не было уже времени, война надвигалась очевидным образом, а экономическая система представляла собой нечто непогрешимое, во имя чего должна была происходить сама война.
Трудно было, конечно, заподозрить, что советское правительство не думало совсем о своем тыле. Нет, оно думало о нем, и думало как о тыле, но так, как это могло делать только советское правительство. Одним из шедевров этой заботы, имевшей в виду политико-моральное состояние населения, явилось полное запрещение последнему общаться с ранеными красноармейцами, прибывшими с фронта. Солдаты наиболее демократической в мире армии изолировались от народа.
Этим запрещением советское правительство выдавало себя с головой, подтверждая банкротство на финском фронте. Раненые поступали в необозримых количествах. Везти их через город старались ночью. Помимо специально развернутых госпиталей ими был занят ряд гражданских больниц. Бесчисленные корпуса больницы имени Мечникова, превращенной в советское время в настоящий больничный городок, были, например, заняты ранеными на 9/10. К отдельным больницам были проведены специальные трамвайные рельсы для подвоза раненых. Большой процент их после непродолжительного лечения в Ленинграде, а иногда сразу же, направлялся вглубь страны, размещаясь по всевозможным городам, вплоть до Урала. В городе работало несколько эвакуационных пунктов, распределявших прибывающих раненых. Около одного из таких пунктов я часто бывал, наблюдая стоявшие на путях вновь прибывшие эшелоны. Территорию, где они останавливались, обнесли специально построенным деревянным забором в рост человека. Когда этого оказалось недостаточно для изоляции раненых от населения, то выставили двух-трех милиционеров, отгонявших неизбежно собирающуюся и задающую вопросы публику. Проведение данной изоляции было очень последовательно. Даже медицинским сестрам и другому вспомогательному персоналу непосредственно из населения, пришедшему добровольно на обслуживание бесчисленных госпиталей, было запрещено говорить с ранеными на темы, касающиеся войны и фронта. Это же предупреждение было сделано и самим раненым. Ко мне обращались в эту зиму с бесконечными предложениями лекций, и я прочел их очень много во всевозможных госпиталях. Каждый раз я ехал туда с искренним желанием развлечь и просто согреть души этих страдающих, порой очень сильно покалеченных людей. Ради этого, читая лекцию, старался вызвать как можно больше вопросов, задержаться и поговорить. Однако ни я, ни мои слушатели ни разу не коснулись самых больных вопросов, какими являлись вопросы войны. Это был советский стиль. Конечно, из этого не следует, что я, как и все население города, не знал, что делается на фронте. Тысячи нитей связывали Ленинград со столь близким театром военных действий, начиная с командиров и красноармейцев службы интендантства, постоянно бывавших в Ленинграде.
Советских же людей можно обвинить в чем угодно, только не в пассивности. Они пытались узнавать, что делается на фронте, и, несмотря на запрещение, все знали. Это был тоже советский стиль.
В один из выходных дней, проходя мимо площадки эвакуационного пункта, куда прибывали железнодорожные составы с ранеными, я обратил внимание на небольшую группу людей, стоявших у ворот забора. Подойдя ближе, я узнал, что вот-вот должен подойти из Карелии поезд с ранеными. Кто сумел получить такие сведения, осталось неизвестным, но минут через 5–10 поезд действительно пришел. По какому-то недоразумению милиционеров не оказалось, ворота не были заперты, и ожидающая группа людей проникла вовнутрь, устремившись к пришедшему поезду. Пошел с ними и я. Глядя на простых людей, среди которых было много молодежи, бросившейся к вышедшим из вагонов более легкораненым, я невольно подумал, что советским корреспондентам, воспевающим патриотизм, следовало бы заглянуть и сюда. Был ли это патриотизм в желательном для них смысле, трудно сказать, но искренне горячее чувство к своим людям, посланным на страду, было налицо. Мне удалось поговорить обстоятельно с 2–3 человеками. Нового я не узнал. Отличная организация, хорошее руководство и крайне ожесточенное сопротивление на той стороне; плохая организация, плохое руководство и легкая одежда при страшных морозах на нашей стороне. «Если бы мне хоть раз в три ночи да дали поспать в тепле, – грустно сказал простой, явно деревенский парень, – так разве такое бы дело было? А то как отошли от Ладожского озера, так, почитай, месяц под открытым небом. Ни палаток таких, как у финнов, ни одежды теплой, ничего!»
Неумолимые факты, принесенные войной, вызвали большое разочарование у населения. До сих пор многие прощали тяжесть советской жизни, считая, что причиной ее является усиленная подготовка к войне. Финские события показали, что и здесь больше слов, чем дела и, во всяком случае, ни самой передовой, ни самой могучей страной Советский Союз не является, споткнувшись даже о маленькую Финляндию. Не прошло мимо внимания широких кругов ленинградского населения и то, как упорно финский народ защищает свою капиталистическую родину, не прельстившись советской социалистической системой. Померкли и осенние иллюзии относительно того, что капиталистические страны воюют, а Советский Союз нет.
«Втянулись все-таки в войну», – вырвалось безнадежно грустно у партийного секретаря одного из учреждений в разговоре со мной. Этот человек еще недавно говорил радостным тоном: «Популярен, популярен у нас советско-германский пакт. Пускай-ка они одни повоюют».
Разочарование коснулось даже того слоя населения, который представлял всегда наиболее надежный оплот власти, – молодежи, и именно вузовской, студенческой молодежи. Большой процент ее явился участником войны с финнами. Нужно было начаться последней, чтобы выяснилось, что финны отличные лыжники и что им нужно противопоставить тоже лыжников. Это обстоятельство или еще какое-нибудь явилось причиной того, что большое количество ленинградских студентов, занимавшихся спортом, было мобилизовано на фронт. Я много слыхал отзывов об их поведении там и старался проверять эти отзывы. Неизбежным заключением являлось «дрались, как львята, не щадя себя». Вера в государственную власть, открывшую для молодежи двери высших учебных заведений, была сильна. Чересчур беспощадно только эта государственная власть распорядилась их жизнью в месяцы финской кампании. Целые студенческие подразделения были искрошены, в чем признавались даже некоторые политруки. Искрошены потому, что кидались брать вручную при крайне плохом руководстве те позиции, где нужны были техника и большое военное искусство. Большой порыв и самоотвержение сопровождали их не только в более напряженные минуты сражений, но вообще на всем протяжении войны со всеми ее тяжестями.
Мне рассказывали такой случай. Студенческий батальон, в котором были даже некоторые лица, имеющие родителей, высланных в Казахстан2, залег в снегу против хорошо укрепленной позиции, занимаемой батальоном финских женщин. Позиция же студентов была крайне неудобной. Нельзя было поднять ни головы, ни рук, финки пристреливали. Никто все же не помышлял об отступлении перед женщинами. На третий день пришел приказ отойти. Молодежь волновалась, бурлила, хотела все-таки идти на приступ или хотя бы оставаться в снегу до лучшего момента, но приказу пришлось подчиниться. К их великому огорчению, обрадованный батальон финских женщин кинулся занимать оставленную позицию. Через 10 минут этот батальон взлетел в воздух. Советские военные руководители тоже успели кое-чему научиться, и место было перед оставлением минировано.
Среди десятков тысяч убитых в лесах Карельского перешейка заняли свое место и ленинградские студенты. Многие семьи недосчитались своих сыновей, а институты – большого количества студентов. Не вернулись отдельные лица и в аудитории мою и моей жены. По горькой иронии судьбы это были лучшие студенты. Те же, что пришли, принесли с собой большое разочарование, сообщившееся их товарищам по группам, курсу, всему институту. Если раненый красноармеец говорил об одной ночи тепла в течение трех суток, то студенческая молодежь – о качествах командиров, которые были приставлены к ним и ничему не могли научить, да и вообще – лучшей организации всего. В этом отношении они, правда, не расходились и с раненым красноармейцем.
Новый год, когда нужно было подводить, как обычно, «большие итоги необычайных успехов», встречался с явно траурным налетом. Месяц войны с крохотной Финляндией был тоже итогом. На фронте тысячи людей уже сложили свои головы, госпитали забиты ранеными. Даже хваленые советские танки, превращенные в металлический лом, бесконечными грудами заполняли дворы различных ленинградских предприятий. Эти дворы были скрыты от взглядов посторонних людей, и содержимое их являлось государственной тайной. Однако можно скрывать еще отдельных государственных преступников, но скрывать сотни разбитых танков оказалось невозможным. Население знало о них. Знало, что качество их оказалось таким же низким, как и стратегическое управление. И самое главное – не было видно конца. Маленький противник стоял, издеваясь одним этим над великаном, поспешившим изречь ему свой приговор.
Встреча Нового года в радиопередаче осталась все же встречей. Была дана какая-то особенно комедийная и поэтому особенно бессмысленная, продолжительная болтовня. Потом последовали «итоги» 1939 года. С особенным чувством диктор говорил о больших успехах в жизни страны за истекший год и, в частности, о колоссальном достижении – заключении дружбы с великим германским народом. И все же чувствовалось, что сам диктор сознает, что о том главном, о чем думают все, он не говорит.
Потянулись мрачные зимние месяцы 1940 года. Январь, февраль, начало марта. На фронте началось наконец некоторое оживление: что-то прорывалось, что-то бралось. Движения вперед, однако, большого не было. В увеличенном количестве прибывали раненые. Военные власти искали новых солдат. Был вызван на мобилизационный пункт и я. В мрачной, совершенно не топленной зале бывшего особняка находилось большое количество людей. В конце ее был стройный командир, работавший стоя, т. к. совершенно замерз в своей легкой шинели. Он пропускал людей быстро, делая отметки в их воинских документах и давая некоторым направление. Минут через 40 ожидания я протянул свой билет и повестку. Командир почему-то смутился, безнадежно махнув рукой, сказал: «Опять они…» – обратившись же ко мне, закончил: «А вы тут зря должны были терять время».
Сообщение об окончании войны явилось чем-то совершенно неожиданным. В одном батальоне, находившемся на прифронтовом участке, красноармеец, слышавший радио и передавший новость о заключении мира, был немедленно арестован.
День известия о мире (сообщение было дано рано утром) остался у меня в памяти. Город точно что-то осенило. Обыватель радовался. На лицах прохожих было написано: «Кончилось, кончилось». Трамваи, путавшиеся препорядочно в своих маршрутах, путались в этот день еще больше, но, видимо, «от счастья, а не от горя». Кондуктора радостно уговаривали платить, выкрикивая: «Война-то кончилась, можно и по совести ездить». Возбужденные пассажиры платили с особенным усердием, война ведь действительно кончилась.
Еще несколько дней назад я условился о лекции в 4 часа дня в одном небольшом техническом учреждении. Когда я приехал туда, то нашел аудиторию в сборе. Инженеры, конструкторы, технический персонал, мужчины и женщины – все независимо от возраста радостно и весело встретили меня. Их довольные лица говорили: «Кошмар кончился». Бедные люди, как и сам я, не знали, что настоящий кошмар еще впереди, и через два года они вспомнят тепло не только этот день, но и все предыдущие. Лекция должна была быть короткой, всего 40 минут, и совсем не на тему Финляндии. Поддавшись настроению аудитории и проговорив минут 20 на тему, я заговорил о Финляндии, которую хорошо знал, бывая там в прежнее время и много читая о ней. Говорил, конечно, в пределах возможного, но и это было встречено с восторгом. Повествование о Финляндии представляло прямое нарушение дисциплины лектора. Но если в этом учреждении и был придирчивый культработник, то жаловаться он не стал. В тот день и для него «война кончилась».
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе