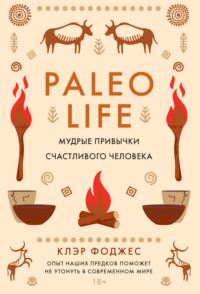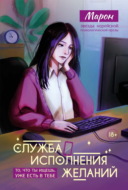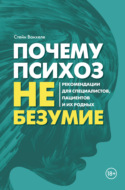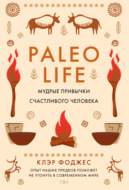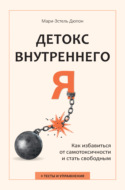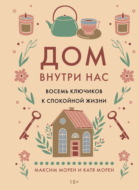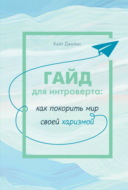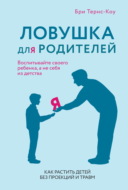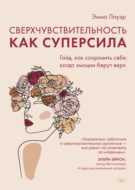Читать книгу: «Paleo life. Мудрые привычки счастливого человека», страница 2
«Отвратительная, жестокая, короткая»?
Все, что мы знаем: наши предки думали многогранно, любили искренне, охотились ловко, увлекались творчеством, мыслили сложными категориями. Да, но были ли они довольны своей жизнью?
Увы, человеческий череп – это не черный ящик, из которого мы можем узнать о содержащихся в нем радостях и горестях. Мы не сможем наверняка выяснить, были ли наши предки более удовлетворены своей жизнью, чем мы сегодня. Однако постоянно идут бурные дебаты о том, была ли жизнь в тот длинный доисторический отрезок лучше нашей.
Ключевым моментом в истории жизни homo sapiens стала аграрная революция, которая началась 12 тыс. лет назад. По мере того как люди научились выращивать урожай и одомашнивать животных, таких как коровы и свиньи, охотники-собиратели начали откладывать копья. Вместо того чтобы мотаться по округе и заниматься охотой и собирательством растений, фермеры могли производить более чем достаточно для пропитания, оставаясь на одном месте и занимаясь выращиванием пшеницы, ячменя, маиса8 и риса.
Необходимость хранить где-то всю эту еду привела к появлению деревень, маленьких, а затем и больших городов. К 6000 г. до н. э. появился первый на земле город Чатал-Хююк на территории современной Турции. Он стал домом для почти 6 тыс. человек. Этот лабиринт из зданий, слепленных из кирпичей, сделанных из грязи, напоминает, если смотреть сверху, улей: никаких улиц, просто дыры в потолке, через которые жители города могли выбираться по деревянной лестнице наружу и возвращаться назад.
Всем горожанам не было нужды заниматься фермерством и ухаживать за полями, а тот факт, что животные могли производить более чем достаточно еды, позволил другим людям тратить свободное время на освоение других навыков и умений, например: разделывание туш животных, производство одежды, деревообработку, политику, религию. Они могли изобретать, экспериментировать, сотрудничать. Рождение городов означало появление того возвышенного, что мы называем «цивилизацией». Все остальное буквально история.
Итак, сельскохозяйственная революция – это большой взрыв, гигантский прыжок, определяющий момент до и после в выдвижении homo sapiens на мировое господство. Если прирост населения – успех, можно утверждать, что эта революция важна для нашего вида в целом; но была ли жизнь отдельных людей лучше до или после нее?
Философ XVI–XVII вв. Томас Гоббс, как известно, утверждал, что жизнь до этой революции была «одинокой, бедной, отвратительной, жестокой и короткой»9. Понятие «бедная» трудно оспаривать с точки зрения современного комфортного проживания. Мы, избалованные создания, включаем отопление в сентябре, чтобы избежать холода – представьте жизнь на морозе зимой. «Короткая» – вряд ли можно спорить и с этим утверждением, средняя продолжительность жизни была значительно меньше, чем у нас сейчас.
Однако можно не согласиться с людьми, называющими ту жизнь «отвратительной» и «жестокой» – кто-то утверждает, что жизнь людей постоянно улучшается с 10 000 г. до н. э., но есть и те, кто придерживается совершенно противоположной точки зрения. Известный историк Джаред Даймонд назвал сельскохозяйственную революцию «самой ужасной ошибкой в истории человеческой расы… катастрофой, от которой мы никогда не оправимся»1011.
Но почему, если люди получили больше пищи и свободы? Потому что она посеяла семена собственности, породила иерархию, жадность, приведшую к соперничеству, а затем к войне и рабству. Более того, хотя фермеры получали больше пищи, чем собиратели, их диета была в действительности хуже и менее разнообразной, и доказательством тому служат дюймы, на которые снизился средний рост человека после аграрной революции. Также распространились болезни: из-за проживания бок о бок в таких городах, как Чатал-Хююк, туберкулез и проказа стали быстро распространяться среди населения.
Кто прав? Был ли мир до аграрной революции Эдемом или Чистилищем? Являлась ли жизнь для индивидов лучше или хуже, чем та, что пришла за ней?
Конечно, невозможно поместить весь обширный спектр человеческого опыта в категории «лучше» или «хуже». Если вы богатый купец из Вавилона 1700 г. до н. э., жизнь, возможно, приносит вам больше радости, чем если бы вы были охотником-собирателем из древнего мира, живущего в период засухи. Если вы рабочий фабрики, вкалывающий по 14 часов в день в Викторианской Британии, жизнь, возможно, хуже, чем для представителя человечества в доисторическую эпоху, живущего в Африканской саванне, занимающегося собирательством по несколько часов в день, а потом пирующего, проводящего время с семьей и просто спящего.
Наивно рисовать жизнь до сельскохозяйственной революции как потерянный Эдем. Однако в этой книге я докажу вам, что некоторые привычки охотников-собирателей способны сделать нашу жизнь более удовлетворительной.
Давайте же переключимся с прошлого на настоящее. Не все охотники-собиратели сложили свои копья во времена революции неолита. Тысячи из них живут и сейчас, являясь хранителями образа жизни, существующего вот уже 2 млн лет.
Как живут охотники-собиратели сейчас?
В долине Эяси в Северной Танзании обитает племя хадза, которое все еще охотится на антилоп и птиц. На берегах реки Маиси в Бразилии живут пирахи, что собирают фрукты, орехи, охотятся на мелкую дичь в джунглях и едят пищу сразу после того, как добывают ее. На льдах Арктического океана живет племя инуитов, их рацион в основном состоит из мяса морских котиков и карибу12, на которых они охотятся вот уже 5 тыс. лет.
Некоторые из оставшихся охотников-собирателей очень сильно сопротивляются налаживанию контактов с внешним миром, самые известные среди них – сентинельцы, живущие на берегах Бенгальского залива. В 1970-х гг. кинематографическая группа журнала National Geographic приехала на побережье, чтобы взглянуть на это племя затворников, оставила подарки, среди которых были живая свинья и кукла. Сентинельцы убили свинью, похоронили куклу, а выпущенная стрела попала в бедро режиссеру-документалисту13. С тех пор их никто не беспокоит.
Другие племена настроены более дружелюбно, открывая свои дома и рассказывая о своей жизни антропологам и лингвистам, приезжающим познакомиться с ними в течение последнего столетия. В отличие от охотников-собирателей, живших в доисторические времена, о чувствах которых мы никогда не узнаем, эти люди могут поговорить и поделиться тем, что они думают о своей жизни. Результаты этих встреч заставляют задуматься. Снова и снова обзоры и доклады антропологов после контактов с этими группами людей демонстрируют определенный уровень удовлетворенности жизнью, которому мы в нашем мире WEIRD14 (западном, образованном, индустриальном, богатом и демократичном) можем только позавидовать.
Исследования показывают, что у отдаленно живущих племен, таких как инуиты и масаи, наблюдается более высокий уровень удовлетворенности жизнью15; и что люди из химба, отдаленно живущей народности в северо-западной Намибии, занимающейся скотоводством, значительно более довольны своей жизнью, чем химба, которые мигрировали в города16; и что знакомство с рыночными отношениями и материальными благами людей народности цимане, живущих в Боливийской Амазонке, не ведет к повышению благосостояния17.
Наиболее интересными являются исследования народности хадза, одного из последних отдаленно живущих сообществ охотников-собирателей на земле. Каждое утро, когда лагерь просыпается, у людей нет никаких запасов еды, нет пасущихся животных, которых можно забить, или урожая, который можно собрать. Ежедневно они уходят из лагеря, имея при себе только заостренные копья, топоры, луки и стрелы (и то, что им подскажет смекалка), чтобы поискать что-то подходящее.
В дождливый сезон они могут выкопать немного корней. В солнечную погоду – наткнуться на куст, сгибающийся под тяжестью ягод, или плод баобаба, или даже золотистые соты, застрявшие в дереве, которые они будут есть прямо с личинками. Если им повезет, стрела поразит бородавочника или антилопу, и они смогут попировать.
Они ведут кочевой образ жизни, устраивая лагеря, сделанные из веток и сухой травы, и двигаясь дальше, когда понимают, что в другом месте смогут раздобыть больше еды. У народности хадза самая старая в человеческой популяции митохондриальная ДНК18, которая когда-либо подвергалась тестированию; ученые считают, что хадза проживают на одной и той же территории Танзании по крайней мере в течение последних 50 тыс. лет.
Несмотря на то что повседневность древних охотников-собирателей не может полностью совпадать с жизнью охотников-собирателей нашего времени, люди из племени хадза настолько близки к ней, насколько возможно. Довольны ли они своей жизнью, по сравнению со всеми нами? Ответ, несомненно, да.
Исследование, сравнивающее степень удовлетворенности жизнью людей из племени хадза с десятком других культур и наций, выявило, что охотники-собиратели превзошли всех. Со средним рейтингом, показывающим уровень удовлетворенности в 5,83 по семибалльной шкале, они более удовлетворены жизнью, чем опрошенные в Малайзии, Турции, Испании, Италии, Словакии, на Филиппинах, в Чили, Гонконге, Австрии, Соединенных Штатах, Мексике, то есть чем любая другая нация19.
Многие, кто наблюдал за оставшимися на Земле собирателями, поражены их удовлетворенностью жизнью. Дэниел Эверетт, проживший годы среди людей племени пираха в тропических лесах Бразилии, удивлялся их свободе от тревоги, депрессии, панических атак и склонности к самоубийству20. Джеймс Сазман, в течение 25 лет навещавший ю’хоанси в Калахари, отмечал их завидную способность жить настоящим: «Люди никогда не тратят время, представляя свое будущее или чье-то еще»21. Они работают, чтобы получить пищу, примерно пятнадцать часов в неделю, еще от пятнадцати до двадцати часов уходит на домашние дела. Остальное время они отводят на расслабление, сон, семью и друзей.
Вы когда-нибудь мечтали о подобной жизни? Разве какая-то часть вас не стремилась к простоте, спокойствию, наблюдению ночного неба, полного звезд? Нам, конечно, стоит избегать снисходительных упрощений. Идеал XVIII в. – «благородный дикарь», не испорченный цивилизацией, теперь по праву заставляет нас морщиться. Такие стереотипы минимизируют широту и глубину этого образа жизни. У племен пираха, хадза и других представителей современных собирателей есть свои трагедии, и представление о том, что они «простые люди, с простыми жизнями», наверняка покажется им нелепым.
Тем не менее, поскольку степень удовлетворенности жизнью в «традиционных» обществах превосходит таковую в WEIRD-обществах, а удобства современного мира, похоже, больше не способны улучшить наше благополучие, стоит задуматься: что есть у охотников-собирателей, чего нет у нас? Что мы можем узнать как от предков, так и от тех собирателей, которые живут сейчас? Реально ли восстановить важные элементы жизни в эпоху палеолита, о которых говорят наши инстинкты? Читайте дальше, чтобы узнать.
2
Племя и дружба
Гроб украшен белыми лилиями, толпа – в черных пальто. Наемный органист исполняет «Останься со мной» (Abide with Me). На одной из последних скамей плакальщик смотрит перед собой, взгляд его затуманен. «В жизни и в смерти, Господи, пребудь со мной…» По мере того, как звуки гимна становятся громче, он падает, начинает рыдать, громко сморкается в платок, затем незаметно сверяется со своими записями, чтобы вспомнить имя парня в гробу.
Профессиональные плакальщики появились очень давно. Их нанимали еще во времена Древнего Египта. Впоследствии для этой профессии даже придумали название: моиролог. В настоящее время в Великобритании даже есть фирма, предлагающая плакальщиков в аренду – актеров, одетых во все черное, которые провожают незнакомцев в последний путь. Они будут «мрачными» или «веселыми» по желанию нанимателя. Разбитые горем люди выкладывают деньги, чтобы избежать позора из-за низкой явки. Но что в этом плохого?
Хотя многие из нас даже не подумали бы о том, чтобы нанять плакальщика, само существование такой профессии подтверждает глубоко укоренившееся убеждение: популярность – признак успешной жизни. Если на похоронах дядюшки Тома только трое гостей, многие будут рассматривать это как трагедию, даже если те трое были близкими друзьями. Важно количество.
За несколько месяцев до своего тридцатилетия я надумала изменить своим привычкам и устроить вечеринку. Обычно я в такой же степени не люблю быть в центре внимания, как мотыльки любят лететь на свет прожекторов, поэтому у меня не было вечеринки по случаю моего дня рождения с тех пор, как на мое шестилетие пригласили Капитана Корнфлейкса22. Но в конце бурного десятилетия что-то заставило меня внести залог за комнату со шведским столом над пабом в Лондоне.

Когда до важной даты оставался месяц, мною стала овладевать паника из-за количества гостей. Комната была достаточно большой, чтобы свободно вместить до двадцати пяти человек. Я могла рассчитывать на братьев и сестер, свою лучшую подругу, нескольких коллег. А еще? Терзаемая образами нетронутых булочек с колбасой, я подумывала пригласить рабочего, который клал плитку у меня в ванной. «Комнатное мясо» – так называют таких людей; тела, чтобы заполнить пространство и не испытывать стыд из-за низкой явки. В конце концов, около двадцати гостей весело провели время, но, если быть честной, паника касательно их количества портила все, пока я не выпила три бокала просекко.
Одержимость быть (или казаться) популярным – это причина, по которой хвастуны скромно жалуются на то, как забит их календарь; почему завсегдатаи соцсетей выставляют на обозрение многочисленные букеты цветов, подаренных на дни рождения; почему люди заваливают камины рождественскими открытками и хор Санта Клаусов провозглашает: «Я нравлюсь множеству людей». Проще говоря, мы думаем, что иметь много друзей и знакомых – признак хорошей жизни. Но что, если это не так?
Почему мы мечтаем о большом племени?
Стремление к популярности заложено в нас, потому что на протяжении тысячелетий быть социально успешным означало оставаться в живых. 50 млн лет назад наши предки-приматы обнаружили, что, объединившись в свободные социальные сообщества, имели больше шансов избежать пасти хищника23. Тот, кто оставался сам по себе, имел ничтожный шанс дожить до утра. Те, кого приняли в племя, пользовались его защитой и могли оставить потомство. Выживание сильнейших означало выживание самых дружелюбных. И поэтому в течение всех долгих темных тысячелетий нашей доисторической эры стремление к социальному признанию закладывалось в головы наших предков.
2,5 млн лет назад, после появления первых людей, принадлежность к племени все еще была вопросом жизни и смерти. В саванне безопасность в буквальном смысле слова заключалась в количестве. Наши предки охраняли друг друга по ночам, поддерживая костры, чтобы отпугнуть хищников, пока другие спали. Путешествие группами означало наличие большего количества рук для собирательства и охоты. Члены племени делились пищей, сообща работали и растили детей. Принадлежность к племени имела массу преимуществ – и социальное поведение являлось гарантом, что вы останетесь его членом.
Чтобы понять, как важно было социальное признание в течение сотен тысяч лет, представьте, как ужасно оказаться одному в мире, полном хищников. Исключение из племени означало подписание смертного приговора – вот почему мы так глубоко переживаем отказ и одиночество по сей день.
Многочисленные исследования доказали, что боль, которую человек испытывает, если его отвергают, сродни физической. Социальные психологи из Калифорнийского университета сканировали мозговую активность волонтеров с помощью МРТ, пока они играли в виртуальную игру Cyberball, в которой участвовали три игрока. Когда виртуальные игроки перестали «бросать» мяч волонтеру, даже этот незначительный отказ усилил активность в тех частях мозга, которые реагируют на физическую боль24. В ходе другого, более жестокого эксперимента Колумбийского университета волонтеров попросили посмотреть на фотографии их бывших, разорвавших отношения с ними. И опять сканеры мозга зафиксировали активность в частях мозга, отвечавших за физическую боль25.
Палки и камни могут переломать наши кости, но отказ может также причинить физическую боль. Одинокие люди больше подвержены сердечным приступам26 и раку27. В то время как социально активные люди испытывают наслаждение и другие положительные эффекты, такие как, например, улучшение сердечного ритма28 или более быстрое заживление ран29.
Как племена получили быструю подпитку?
Эволюция научила нас искать связи. Большинство с жадностью накапливают контакты, знакомых и друзей, потому что где-то глубоко внутри древний голос кричит: «Безопасность в количестве!» Однако большую часть времени, проведенного людьми на Земле, желание налаживать связи ограничивалось географическим положением и обстоятельствами. Если вы жили в городке или захолустной деревушке, где всего одна повозка, вы вряд ли бы смогли найти много «дружеского мяса». Сблизившись с незнакомцем за пинтой медовухи, вы не могли обменяться телефонными номерами и обещаниями позвонить позже. Еще долго после сельскохозяйственной революции мы продолжали сохранять крепкие связи со своим племенем.
Затем, в прошлом столетии, произошли две социальные революции, которые подпитали наше стремление увеличить племя. Первая из них – телекоммуникационная. Вместо того чтобы с помощью ручки и бумаги поддерживать связь с далекими друзьями, нам достаточно взять телефон. Теперь для дружбы даже не обязательно встречаться. Телефон очень сильно сократил расстояние между людьми, удовлетворил наше стремление увеличить социальные контакты.
Однако, если говорить об увеличении размера племени, более серьезная революция произошла только в последние двадцать пять лет: возникли социальные сети. Они трансформировали наши племенные возможности. Теперь мы всегда в пределах досягаемости для друзей, соседей, коллег. Одним касанием к экрану телефона мы можем завести тысячу новых «друзей».
Вы наверняка знаете, как выглядит телефонный зомби: голова склонена над смартфоном, большой палец постоянно листает ленту, он не способен оторваться от гаджета даже во время прогулки, приготовления пищи и похода в туалет. Большинство считает таких людей «антисоциальными», но на самом деле все ровно наоборот: они «гиперсоциальны». Они одержимы поисками связей.

Небольшие дозы дофамина, которые мы получаем, если кому-то понравился наш пост, являются отголосками далекого прошлого, когда «нравиться» означало оставаться в племени и выжить. Вот почему так сильно воздействие социальных сетей и почему люди часами пропадают в соцсетях: глядя на фото далекого знакомого на пляже в Дубае, мы как будто больше узнаем его, а знакомство с другими подпитывает наш древний голод социализации.
Конечно, когда возникает сильная потребность людей в чем-то, появляются и желающие на этом заработать. Компании, управляющие социальными сетями, очень быстро поняли, как создать продукты таким образом, чтобы они удовлетворяли наши гиперсоциальные инстинкты, и предоставили еще больше возможностей для соединения людей по всему миру. Наши мозги из каменного века жаждут социальных связей, а нам предлагают двадцатичетырехчасовой шведский стол, вызывающий полное привыкание к этим продуктам. Результат: интернет-пользователи по всему миру проводят по два с половиной часа в день в социальных сетях30.
В итоге социальные сети, электронная почта и сообщения позволяют нам постоянно быть на связи с огромным количеством так называемых друзей, знакомых и коллег. Переписываетесь ли вы с парнем, с которым познакомились на курсах дайвинга семь лет назад, или спорите в соседском чате – мы постоянно проводим время, поддерживая социальные связи. Среднестатистический американец сейчас знаком примерно с шестью сотнями людей, а если сюда добавить тех, с кем он пересекался пару раз онлайн, их количество становится намного больше31. Когда-то размер нашего племени ограничивался географией, расстоянием и культурой, теперь он не ограничен ничем.
«Что в этом плохого?» – спросите вы. Мэй Уэст32, как известно, однажды пошутила: «Слишком много хорошего – это замечательно». Так, может, иметь много друзей – это чудесно? Может ли быть «слишком много социальных связей», не важно, в реальной жизни или виртуальной?
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе