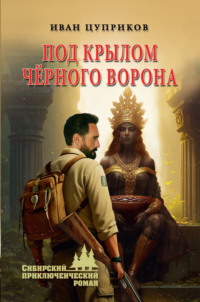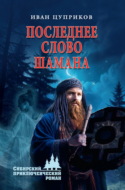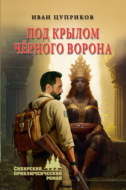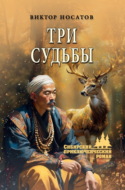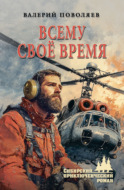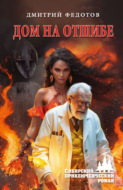Читать книгу: «Под крылом чёрного ворона», страница 2
– Да нашел на кого обижаться, – похлопал по колену Михаила Виктор Николаевич.
– Да я это так, с грустью. Они тогда нашли фрагменты тигля, емкости для переплавки металла с остатками золота. Это представляете, на Эсске, в болоте, откуда же там золото? Он же потом и геологов туда вызывал, и те ничего там не нашли, ни золота, ни алмазов.
– Мишенька, ну, он же простой человек, который живет своими верами, своими идеями, и он же находит поддержку среди таких же людей, как он, – растягивая слова, как наставляя, начал говорить Виктор Николаевич. – А золото, ну, честно говоря, он всегда его по крупицам собирал. Это так тебе, между нами скажу, и на реке Конде, и на берегах Эсски, и у реки Ух. И, знаешь, Мишенька, принесет этот ворох камней, тыкает пальцем в еле видные крупицы на них и говорит, что это золото. И, знаешь, доказал ведь! В Екатеринбурге ученые с ним согласились. Только больше их заинтересовало не золото, а сами камни, их история непонятна. Ручьи-то этих рек родниковые, из болот идут…
– А что же он сейчас нашел, Виктор Николаевич?
– Ой, даже стыдно говорить…
– Золотую бабу, – вступила в разговор молчавшая до этого Инга. – Уперся лбом и говорит, что Золотая баба не на реке Казыме покоится, а где-то… Виктор Николаевич, можно ему говорить? – И посмотрела на своего свекра.
– Так мы за этим и пришли к тебе, Мишенька.
– На Эсске? – улыбнулся Филиппов.
– Вот, и ты об этом говоришь.
– Так Виктор об этом тоже говорил мне. Представляете, все ученые говорят, что Золотая баба спрятана хантами в низовье Оби, на реке Казыме, а этот – нет, на Эсске. Он что, там был в то время с ними? – придавил усмешку Михаил.
– Вот и я о том же, – глубоко вздохнул отец Виктора. – Хотя я с ним тоже в какой-то степени согласен. Рядом Урал, золото в наших краях тоже было, так что и Золотых баб ханты, манси можно было иметь не одну. Ведь все начиналось здесь с язычества.
– А поиски Виктора по Эсске вы, Виктор Николаевич, вели? – решил изменить тему разговора Михаил.
– Так где только мы его уже ни искали. Каждое деревце, кустарник осмотрели за километр от Эсски с обоих сторон, каждую тропку прошли с собаками. Таких знаменитых кинологов приглашали из Екатеринбурга и Перми, и ничего. И ручей Вой прошли весь, и Большой и Малый, и Ух, на десятки километров по всей округе от него, и ничего. Неужели мишке в лапы попал или росомахе, или… я даже уже не знаю, что и думать. – У Виктора Николевича голос задрожал.
– Да уж, – вздохнул Михаил. – А я чем в таком случае смогу вам помочь, Виктор Николаевич?
– А я, Мишенька, уже и не знаю, к кому обратиться. Ты же старый друг Витькин, да еще и даром таким обладаешь, экстрасенсорикой.
– Да я же…
– Наслышан, Мишенька, наслышан, – встал с кресла Виктор Николаевич и развел руками. – Ты уж прости меня, Мишенька, за такую просьбу. Я с собой карту района принес. – И положил большой сверток на стол. Я прошу, ты не обижайся на старика, помоги. – И, приложив руку к сердцу, направился с Ингой в коридор, к входной двери.
4
Карта Советского района была огромной, по краям прихватывала границы Урайского, Березовского и Октябрьского районов Свердловской области. Михаил положил ее на пол и стал рассматривать очертания железной дороги, бегущей через таежные просторы к далекой Оби. У реки Эсс приостановился и провел пальцем по ее кривой синей линии, уткнувшейся в более широкую синюю змейку реки Конда. Повел над ней ладонью, потом – тыльной стороной назад, пытаясь уловить хоть какое-то изменение температуры воздуха. Сначала до реки Конды, потом назад, до озера Тор, к которому летом без мощного внедорожника никак не добраться: дороги размыло, болота поднялись, а ручьи своими бурными потоками разбили и так уже на ладан дышащие мостики. А на Торе места девственные остались, и лось непуганым был, и олень. Бывает, сидишь на лодке у берега, рыбачишь, а он тут же стоит в воде, водорослями лакомится и на тебя свысока поглядывает.
Михаил вздохнул. Да уж, здесь с Витькой они любили бывать. На той стороне озера, где Эсска впадает в Тор, несколько изб было. У той избы, что на самом болоте стояла, хозяина не было, стояла полуразвалившаяся. Ее фундамент, полы, правда, еще крепкими были, да и стены из толстого бруса тоже, только крыша просела, и то по самому верху… Чья была изба? Что-то по этому поводу Витька ему говорил. Кто, кто? А Борис Иванович Балашов! Он в семидесятых годах был председателем поселкового совета поселка Комсомольский, который в девяностых годах стал городом Югорск. Да, да, Балашов, говорили, заядлым охотником был. До этого в Великую Отечественную войну чекистом служил, потом – в Смерше, потом – в КГБ, и на старости занесло деда в таежный поселок. И глаз у него был цепкий, по-хорошему говорил, выведывал все, и любил во всем пунктуальность. Если сказал, что буду там-то и в такое-то время, то обязательно в это время и появлялся. И от других того же требовал.
…А изба его была необычной. Такие толстые бревна, из которых были сложены стены, Михаил не так часто встречал в том лесу. А какими ровными были у них края спила! Провел по ним рукой и не нащупал даже ямки или какого-то подъемчика или сучка от сердцевины. Какой же длинной должны быть пила, которой их распиливали? Метра под два-три, не меньше. А какая лестница была высокая, которая стояла у окна! Чтобы на первую рейку наступить, нужно высоко ступню поднять, почти до пояса. У Мишки это не получилось, а вот Витька с легкостью взлетел и на первую ступень, и на вторую, и на последнюю, и скрылся.
Значит, нужно по веревке к нему забираться, а то один Мишка у избы останется. А где она, эта веревка?
Зашел Михаил за избу, а там Борис Пантелеймонович что-то копает под деревом, в яме стоя по пояс. Побежал Мишка об этом сказать Витьке, а того не видно на крыше, куда же он пропал? Вернулся Михаил к Балабанову, а тот по шею уже в той яме стоит и продолжает копать, выкидывая из нее лопатой землю. И вдруг, выпрыгивает из нее и кричит: «Тащите его сюда, тащите!»
И появляются у ямы люди, лица которых Михаил никак не может рассмотреть. И подтаскивают они к ней лося. А это вовсе и не лось, а Витька в его шкуре. Он сопротивляется, не хочет лезть в яму, но его с силой туда заталкивают эти четверо. Но вдруг потемнело все вокруг, а когда начало светать, одна лосиная шкура осталась в яме. Поднял голову Михаил и увидел огромную птицу, уносящую Виктора. И не держит она его в своих когтях, а он сидит на них, истекающий кровью, и зовет за собой Михаила…
– Ты жив? – кричит ему Михаил.
– Спаси меня! – кричит ему в ответ Виктор. – Спаси от них! Спаси от них, Миша! Спаси!
Михаил осмотрелся по сторонам, но никого нет, и холодно стало…
…Первым, что сделал Михаил, когда проснулся, закрыл окно и, перед тем как идти в спальню, еще раз глянул на карту, лежащую на полу, и, прищурившись, стал рассматривать, словно что-то выискивая в ней.
«А что я ищу?» – опустившись на колени, спросил у себя Михаил. И увидел гусеницу-машину, плывущую по болоту, и сидящих в ней четырех человек. Теперь хорошо рассмотрел Бориса Пантелеймоновича Балабанова. Да, да, это именно он кричит водителю остановить машину прямо посреди покрытой водой трясины. И кричит: «Сбрасывайте его, топите!»
Четверо незнакомых людей в черных рясах поднимают связанного человека и бросают его в болото. Тот тонет и кричит: «Я ему в спину стрелял, не выживет Воробей. Спасите меня, что вы делаете?»
«Фу ты!» – проснувшись, Михаил начал массировать виски, оторвал глаза от карты и прикрыл их. Боль в висках становилась нестерпимой.
…Вот она наполнила стакан, который нужно аккуратненько поднять, чтобы не разлить яд, наполнивший его, и убрать подальше от своей головы. Михаил пальцами ухватился за змею, выглядывающую из виска, вытащил ее из головы и отбросил от себя, продолжая наблюдать, как воздух разрушал ее на мелкие части…
На мониторе сотового телефона поблескивал золотой конвертик – письмо от отца Виктора: «Выручи, найди сына».
«Да уж! – Михаил сел на диван и хотел было перезвонить старшему Воробьеву, да вовремя себя удержал, на часах только половина пятого утра. – Совсем непонятная история получается, Виктор Николаевич Воробьев. Скорее всего, не на археологические поиски собирался ваш сын, а на охоту, на лося. Что-то здесь не сходится, Виктор Николаевич, что-то вы мне не договариваете с Ингой. Это кто же заинтересован убить его и за что? Кто же ему стрелял в спину? Почему я увидел именно Бориса Пантелеймоновича Балабанова? Балабанова, местного мафиози? Хм. А ведь давно не думал о нем, и на тебе, во всей своей красе предстал, Витьку убивает. Да уж!»
Глава 2
Ведьма
1
В комнате было не только сумрачно, но и холодно. Напрягая мышцы груди, спины, бицепсов, чтобы хоть немного согреть свое тело, Михаил осмотрелся по сторонам. Справа от входа вся стена была закрыта светло-серыми стеллажами-пеналами с одинаковыми по размеру ящиками и наклеенными на них бирками. Левая стена от пола до потолка – книжные полки. С торцевой части комнаты, слева и справа от двери, ящики, из которых выглядывали концы множества разноцветных трубок-тубусов.
– Извини, Мишенька, – зашел в кабинет Виктор Николаевич Воробьев, включил свет и, остановившись у стены, нажал на включатель небольшой пластмассовой коробочки.
Заработал калорифер, нагоняя теплый воздух в помещение.
– На улице за тридцать, а здесь семнадцать, сейчас немножко теплее сделаю, Мишенька. Двадцать пять градусов будет, нормально?
Михаил пожал плечами.
– Ну и отлично, сейчас кофе будем пить. А это все Витькино богатство, – поджав губы и обведя руками комнату, сказал Воробьев.
– Не понял.
– Ну а что понимать, дорогой мой. Это бывшая комната Виктора, он, когда переезжал от нас, попросил ее оставить за собой и хранит здесь самые важные документы. Здесь находится все, что он не хочет показывать другим. – Виктор Николаевич, открыв один из ящиков, вытащил небольшую деревянную коробку. – Читай. – И протянул ее Михаилу.
– Четырнадцатый, нет, извините, шестнадцатый век, кольца от кольчуги. Интересно. – Михаил посмотрел на стоящего рядом улыбающегося отца Виктора.
– А вы дальше читайте, Мишенька.
– Кольца кольчуги казака отряда Ермака, поселок Пелым, сорок семь километров на северо-восток к поселку Пионерскому, на границе ХМАО-Югры, река… – И, не дочитав, открыл коробку и стал внимательно рассматривать наполовину съеденные ржавчиной тончайшие прутки-проволоки. – Даже не верится, что это железо, вернее, булатное железо, которое когда-то выдерживало топор и меч, а сейчас труха.
– Так вот, Мишенька, на каждом ящичке стоит нумерация. Там, – мэр ткнул пальцем в другую сторону стенки, – есть полка под этим номером с записями Виктора. А там, – он обвел рукой ящики с тубусами, – карты. На каждом пенале есть такая же маркировка с номером. Я, к сожалению, ничем больше помочь не могу тебе.
– А Инга, работники музея?
– Инга, говорите? Вы знаете, Мишенька, я ее не переношу. – И мэр вплотную подошел к Михаилу и посмотрел на него сверху вниз. – И вам не советую ей рассказывать об этом месте, где мы сейчас с вами находимся. Между нами, – Виктор Николаевич наморщил лоб, – они вместе уже давно не живут, разве что только в одном доме. Что создавал я для сына – все прибрала в свои руки, пытается теперь и его находки прибрать в свои руки.
– Не понял? – удивился Михаил.
– А очень просто, Мишенька. – Виктор Николаевич подошел к одному из пеналов, ткнул рукой в ящик, расположенный на первом этаже от пола, и попросил Михаила открыть его. – Вы в него в самый конец руку протяните и нащупайте коробку картонную. Там, там, нащупали? Вытаскивайте ее.
Коробка была большая, из-под обуви, заполненная ватой. Внутри нее спрятана коробочка, в которой лежала замотанная в бинтах тонкая зеленая полукруглая пластина.
– Осторожнее только, Мишенька, посмотрите в ее центр. Что там видите?
Михаил прищурился, всматриваясь во вдавленную печать посередине пластины.
– Вроде орел двуглавый?
– Так вот, Мишенька, Виктор хочет доказать, что это пластина Ермака. Вроде бы золотая она.
– Какого Ермака, Виктор Николаевич, который при Иване Грозном, что ли, с казаками Сибирь завоевывал?
– Вот, и ты грамотный, как Виктор, – глубоко вздохнул Воробьев-старший. – Там все прочитаешь про это, – махнул он в сторону библиотеки. – И многое другое узнаешь, а там и сам поймешь, стоит ли о том, что нашел Виктор, говорить с людьми вслух, особенно с его женой.
Кофе был ароматным и непривычным для Михаила по своей горечи.
– Виктор Николаевич, так сколько дней уже нет Виктора? – И только теперь начал рассматривать лицо мэра. Оно было сильно загорелым, но и шоколадный оттенок кожи не смог спрятать за своими красками множество мелких морщинок под свисающими тяжелыми мешками под глазами, множество ломаных трубок-вен, словно приклеенных к коже на висках, окрашены проседью волос, и усталость в глазах – молочной мутью заполненных.
– Сорок семь дней и семь с половиной часов, Мишенька, – прошептал Виктор Николаевич, смотря своим мутным взглядом в глаза Михаила.
– Один?
– Он почему-то мне об этом не сказал ничего. Да я и не спрашивал, потому что не знал о его сборах. И он так всегда делал, бросал в почтовый ящик письмо. Оно, Миша, перед вами на столе. – Виктор Николаевич указал подбородком на край журнального стола. – Все прочитаете, Мишенька. – И, приложив руки к сердцу, продолжил: – Мишенька, только не отказывайте старику. На все готов, только бы сын вернулся…
– Да, да, да, – закивал головой Михаил, – но я через две недели, то есть не это я хотел сказать, – смутился Филиппов. – Завтра должен вылететь в город Белоярский, там мэр района будет встречаться с коммерсантами, обсуждать вопросы по оказанию им помощи в развитии бизнеса…
– О, сейчас, минуточку. – Виктор Николаевич достал из бокового кармана сотовый телефон и, что-то быстро найдя в нем, позвонил. – О-о, всеми уважаемый президент страны Заобской-Белояркой, – с восторгом сказал он. – Да, да, угадал, это я, властелин Югорский. Ха. Да все что могу делаю, да, да. Верю, верю, что жив и здоров сын. Ты уж извини меня, Сергей Николаевич, что отвлекаю от дел. Завтра у тебя там встреча с бизнесменами вроде бы? Послезавтра?! А, ну-ну. Выручи меня, собкор окружной газеты должен быть у тебя… Да, да, Филиппов Михаил. Он здесь мне очень нужен, Сергей Николаевич. Ну что, да, по Виктору, они ж друзья с детства. А что? Спасибо. Так вот пришли мне на факс заметку по твоему совещанию с бизнесменами. Да, да, только так, поострее чтобы было написано. Ну, ты сам понимаешь, окружная все-таки газета. Та кто там тебя критиковать будет-то. Ты у нас всегда на первом месте, тебя губернатор в пример всегда нам ставит. Вот-вот. Ну а я о чем?! Просто решения, принятые на вашей конференции, чтобы все знали, как ты заботишься о людях. Спасибо, спасибо, давай, ага. Да, до свидания, дорогой. А ты, Мишенька, что-то хочешь передать мэру? – Виктор Николаевич передал телефон Михаилу.
Но Михаил, приподняв руки, замотал головой.
– Ну ладно, да он уже и трубку положил. А потом куда-то еще собираешься?
– Да, в Березово губернатор собирается приехать в середине месяца.
– А что, у него своих нет корреспондентов?
– Так, Виктор Николаевич, это же губернатор!
– И здесь все решим, Мишенька, решим. Сам все возьму под контроль, а тебя отпрошу у твоего редактора в отпуск за свой счет, то есть за мой.
– Поймите меня, Виктор Николаевич, но я ведь не тот экстрасенс, который читает карты, в звездах разбирается как астролог или там ясновидящий.
– Ты друг его, Мишенька. Ясновидящая у Инги сейчас живет, но что-то толку от нее никакого. Где уже только Витьку благодаря той ведьме ни искал. Пусто.
– А кто?
– Да все ее по НТВ показывали, лучшей экстрасенсоршей назвали, чи Феодора, чи Федора.
– Феодора, – подсказал Михаил, – очень сильный экстрасенс, с духами разговаривает, видит потусторонний мир.
– Так что, Мишенька, поможешь, а? – Глаза Виктора Николаевича обрели четкие очертания, из бело-голубого тумана выглянули зрачки, которые примагничивают к себе внимание Михаила.
– Так я же…
– Да мне плевать, кто ты, экстрасенс или простой человек. Мишенька, ты старый друг Витькин. Ну и что, что давно не виделись. Бери в охапку еще кого-то себе в помощь, и попробуйте найти моего сорванца. Попробуйте, а, Мишенька? Я вам во всем буду помогать, выделю, то есть дам и деньги, и технику, договорюсь с кем нужно, только помогите. И… – Виктор Николаевич на выдохе схватился за сердце и, отстраняя от себя кинувшегося к нему Михаила, прошептал. – Только помогите. Сейчас выпишу тебе сто тысяч рублей, нет, двести. – И, сделав несколько неглубоких вздохов, еще раз прошептал: – Только не бросайте его. Это все Инга, она стерва… И ни слова ей, что будешь искать Витьку. Не верю я ей, все под себя стягивает. Боюсь, что это она его…
2
«Стерва, стерва, – подвигая к себе поближе толстую тетрадь, думал Михаил. – Да просто вы ревнуете сына к ней, Виктор Николаевич. Хотя… – И, осмотрев комнату по сторонам, еще раз удивился. – Наверное, каждый из вас старается его перетянуть к себе. Вот простой пример: в этой комнате все сделано для хранения архивов, как в лучших домах Лондона. Кругом стеллажи, пеналы, изготовленные где-нибудь в Германии, Париже. Каждый стеллаж имеет свой секретный код. Тысяч на сто баксов выложился отец, чтобы сделать такое для своего сынка. Кругом сигнализация с защитой: все для сыночка. И как только Инга выдерживает этих мужиков? Дети, настоящие дети!»
Откинувшись на спинку кресла, раскрыв тетрадь, Михаил углубился в чтение.
Каллиграфическому почерку Виктора он всегда завидовал. Строчки ровные, буковка к буковке, словно на компьютере их набрали. Единственное, чем сейчас отличается у Виктора почерк от школьного, буковки в два раза по высоте выросли, значит, тоже зрение подсадил.
Пробежав глазами по нескольким листам, остановился на третьем, заинтересовал заголовок, написанный большими буквами высотой в три клеточки «Изготовление кольчужных нитей».
«Для изготовления кольчуги требовалась проволока толщиной 4 мм. Чтобы сделать ее, использовали способ волочения. Он назывался сутужным и заключался в том, что железный прут протягивали через ряд постепенно уменьшающихся отверстий в железной доске. Для этого в кузнице устраивали особое сооружение: врывали в землю два столба, на них крепили железную волочильную доску, а напротив подвешивали к потолку качели. Кузнец садился на качели, захватывал клещами просунутый в первое отверстие кусок раскаленного железа, отталкивался ногами от столбов и летел вверх, таща за собой светящуюся металлическую нить…»
«Интересно, вот как раньше проволоку делали, на качелях катаясь?» – пролистав еще несколько страниц вперед, остановился, вернулся назад, будто что-то упустил из виду.
«…Вплетая через ряд склепанные кольца и цельносеченные, кузнец начинал собирать кольчугу с плеч, кончал подолом. Грудь и спина имели более массивные кольца, бока – средние, рукава и плечи – самые тонкие. Рукава и горловину вплетали в доспех в последнюю очередь…»
«Нет, не это. А что же пропустил? А-а, вот. Обнаруженные на вершине у сопки Верблюжки на 43 км зимника на Сосьву, где протекает ручей Большой Вой, с восточной его стороны в заросшем шиповником и старой елью месте, была обнаружена трещина в земле. Это меня несколько удивило, так как сопка состоит из песка с глиной. Когда очистил слой грунта, лопата стукнула о камень, им оказалась мореная осина. Ей не менее тысячи лет. После продолжения раскопок обнаружил еще несколько таких стволов из мореной осины. И что особенно подтолкнуло меня к мысли, что именно это и есть древняя кузница: в один из стволов осины был вкручен железный толстый шуруп. Верхняя часть, где было острие, была окована широкой пластиной 12/33/6».
И все? Дальше другой заголовок: «Кода». Что же это слово обозначает?
«Кода, территориально-племенной союз ханты в Западной Сибири, по нижнему течению Оби. Оно было известно русским с XV века, как часть Югорской земли. В 1484 «Кода» признало себя вассалом русского государства и обязалось поставлять в казну дань с подвластного населения. Кодские князья Алычевы активно содействовали русской колонизации Сибири. В XVII веке автономия Коды была упразднена и оно приравнено к прочим волостям Югорской земли».
Ниже сноска: «Лит.: История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 1. Л., 1968. С. 369. 33/12/6.
Ниже следующий заголовок, «РЫНДА». А это что такое? «В XIII–XVII веках при великих князьях находились оруженосцы-телохранители (рынды), которые сопровождали монарха в походах и поездках, а во время дворцовых церемоний стояли в парадных одеждах по обе стороны трона. Князь Дмитрий во время Куликовской битвы «…великое знамя черное повеле рынде своему над Михаилом Ондреевичем Бренком возити» (Никоновская летопись).
Когда рынды несли свою службу во дворце, их вооружение составлял большой «посольский топор». Он делался из булата и стали, украшался серебряной и золотой насечкой. Рукояти этих топоров украшались поясками из драгоценных металлов или золоченой медью 14/7/25».
И снова текстовка заканчивается непонятными цифрами. Михаил перевернул лист. Следующий текст начинался с заголовка «Шишак». А это еще о чем?
«Это вид защитного головного убора на Руси в XII–XIV веках – «шапка бумажная». Делалась на вате из сукна или из шелковых тканей, иногда усиливалась кольчужной сетью и простегивалась».
И все. Следующий заголовок «Мисюрка»
«Железная шапка с бармицей и наушами…»
Дальше: «Ерихонка» – это «Высокая шапка с венцом покрывавшаяся репьем – металлическим украшением. К венцу прикреплялись уши, затылок и полка, сквозь которую проходил «нос» со «щурупцем». Такие шапки носили богатые и знатные воины и отделывали их золотом, серебром, драгоценными камнями.
Все защитные головные уборы надевались воинами на шапки или толстые подкладки…»
Михаил перелистал всю тетрадь и, кроме коротких заголовков и текстов, рассказывающих о боевом снаряжении русских воинов времен XI–XVII веков, ничего не нашел, как и цифр, разделяющихся косыми полосками, как в начале тетради.
Вытерев пот со лба, Михаил допил кофе и набрал на телефоне номер старшего Воробьева, но, к большему удивлению, услышал в ответ от искусственного коммутатора, что абонент находится вне зоны связи. Как же так, ведь еще полчаса тому назад сидевший рядом с ним старший Воробьев звонил отсюда мэру Белоярского?
Интересно девки пляшут. Ну, Виктор Николаевич дает, тоже начал с сыном в войнушки играть? Ну, дети. И что же дальше? Может, из другой комнаты можно позвонить? Набрав на железной пластинке со светящимися кнопками, прикрепленной посередине двери, шесть цифр, открыл ее и вышел из кабинета. Рыжий кот, сидевший в другой комнате, увидев гостя, весь ощерился и, отпрыгивая боком от Михаила к дивану, запрыгнув на его спинку, зашипел.
Надавив на своем телефоне кнопку повторного звонка, Михаил прислушался к трубке:
– Да, Миша, – отозвался голос Виктора Николаевича на той стороне.
– Я что-то растерялся.
– Сейчас, погоди, погоди, – остановил его Воробьев.
Слышалось, что мэр с кем-то разговаривал и только через минуту-другую после этого обратился к Михаилу:
– Ты там нашел цифры?
– Да, да, о чем они говорят?
– Тогда не перебивай. – Голос Виктора Николаевича стал резче. – Вспомни, что я тебе показывал и говорил. Вот они и есть указатель тому, где тебе нужно найти продолжение твоему вопросу. – Говорил старший Воробьев скрытно, значит, рядом с ним были люди.
Понятно.
Михаил вернулся в кабинет, закрыл за собой дверь и заново раскрыл тетрадь. И что же обозначают эти цифры «12/33/6»? Посмотрел на обложку тетради. Ничего. На последней странице тоже ни одной подсказки. Задумался. И к чему Воробьеву нужны эти секреты? Неужели он действительно что-то нашел такое, что может заинтересовать бандитов каких-нибудь? Может, золотой прииск? А чего смеяться? Одноклассник Сережка Шаповалов ему как-то признался, что на берегах реки Конды он находил какие-то камни и сдавал по просьбе одному мужику, приезжающему к соседу из Нижнего Тагила. За некоторые из этих камушков получал неплохой гонорар – пачку конфет или упаковку халвы. Но потом сосед сказал, что пропал его родственник.
Точно-точно, а потом пошли слухи по поселку, что какие-то мужики всех соседей в их стоквартирном доме, как и в соседних тоже, замучили вопросами, искали какого-то Клаву. Не его ли, Шаповалова Серегу? А потом и тот сосед Серегин пропал, пошел за грибами и исчез. Что только про него потом люди ни сочиняли – и медведь его задрал, и сам потерялся и помер, и даже о том говорили, что арестанты, сбежавшие из Ивдельской тюрьмы, его убили. С тех пор Сережка замолчал, а через год уехал с родителями на Большую землю, никому из одноклассников так и не оставив своего адреса.
Может, все-таки Воробьеву удалось найти это золото? А может, то было совсем и не золото, а какой-то другой ценный камень? А если Золотую бабу?
Михаил присел у открытой дверцы пенала, перед тем как положить в него тетрадь, засунул руку поглубже и, нащупав в вате коробку со старинной медной бляхой, успокоился. Все на месте, это хорошо. Положил на вату тетрадь и только сейчас обратил внимание на бирку, приклеенную к нижней части дверцы. На ней мелким шрифтом было написано: «А 6». Погоди, погоди, это же и есть, наверное, та самая подсказка, которую он искал и о которой подталкивал подумать его отец Виктора.
На библиотечных полках бирок не было. Потеряв к ним интерес, хотел было перейти к ящикам с тубусами, как что-то его удержало у библиотечных полок. Что? Погоди-ка, может, просчитать сами разделенные стенками друг от друга полки? Начнем слева направо, снизу вверх. Так, один, два, три… десять, одиннадцать, двенадцать. Что у нас здесь? Книги, самодельные, сшитые в типографии, заполнены Витькиным каллиграфическим почерком. Взял коричневую тонкую брошюрку. Называлась «Кодское княжество». Что-то такое слышал, о чем это? Открыл и тут же вспомнил, это же он только сейчас прочитал об этом княжестве в той тетради. Кодское – это хантыйское княжество.
«Вдоль обоих берегов реки Оби, в ее среднем течении – от Березова на севере и до устья реки Ендырь на юге, было расположено около десятка городков, являвшихся главными населенными пунктами Кодского княжества – самого значительного, по мнению С.В. Бахрушина, государственного образования остяков, более пяти тысяч человек, им удавалось сохранять это свое государственное образование практически не зависимым от московских властителей вплоть до 1644 года, т. е. еще более чем полтора века после сокрушительных экспедиций по его землям ратей великого московского князя Ивана III. И еще более полувека после Ермаковых побед…».
«Что, что? – Михаил уселся в кресло. – Это что же, Витька сам сочинил? – И глянул вверх. – А нет, автор Лев Сонин. Ну что ж. Так что он пишет дальше?» – И побежал глазами по тексту.
«…Кодские земли географически расположены не очень-то выигрышно в смысле климатических условий – неудобья заболоченных таежных урманов, тянущихся вдоль левого берега Оби, переходящих к северу вообще в малопригодные для проживания болотистые лесотундровые заросли. Несколько приемлемее для проживания в кодских пределах был правый берег Оби – более высокий, почти без болот и потому, вероятно, все городки кодские располагались на нем.
Но, с другой стороны, кодские городки стояли очень даже выигрышно – в центре угорских земель, на главной дороге Западной Сибири – Оби, по которой происходило сообщение с севера на юг – от самоедов к татарам, и с запада на восток – от славян вглубь Сибири. Ну и само собой, немаловажно, что кодские земли располагались в середине почти десятка остяцких княжеств и связи между ними тоже контролировали, таким образом, правители Коды.
Под властью кодских князей находилась территория, примерно полностью занимаемая ныне Октябрьским районом Ханты-Мансийского автономного округа».
«Совсем рядом, получается, – подумал Михаил, – сколько на Ендыре рыбачил, а даже не знал, что те дикие, девственные на первый взгляд, таежные места еще лет четыреста назад были обжитыми цивилизацией. Удивительно, а сегодня нефтяниками. Да уж, если посмотреть на деревню в поселке Каменистом, то вообще жуть берет: нищета, дома полуразваленные, магазин вот-вот разъедется по бревнышкам. Фу!»
Вытерев пот со лба, Михаил продолжил читать дальше текст, переписанный Воробьевым.
«Жили кодские подданные и в укрепленных городках, и в близких к ним неукрепленных поселениях, бывших, по сути дела, сезонными промысловыми стойбищами нескольких семей. Каждое такое поселение являлось вполне самостоятельным… с законченным циклом производства. Как установили археологи, большая часть кодского населения проживала именно в этих неукрепленных поселениях. Городки же являлись военно-оборонительными, административно-политическими, торговыми и культовыми (религиозными) центрами княжества. В каждом таком городке правили свои князья, находившиеся в свою очередь в вассальной зависимости от «большого князя», имевшего своей резиденцией Кодский городок, или Нанга… Нангакар, стоявший на протоке Нягань.
Главой Кодского княжества являлся властитель из династии Алачевых. Нангакар был издревле резиденцией этого княжеского рода. Вообще городок представлял собой классическую древнефеодальную усадьбу-крепость. Князь обитал здесь в окружении многочисленной родни и челяди. Проведенная в 1627 году перепись здешнего населения зафиксировала, что в городке тогда проживало только мужского пола дворовых людей семьдесят пять человек. Надо думать, что женской прислуги у Алачевых было не меньше».
«Ладно, это, конечно, интересно, – подумал про себя Михаил, но что-то заново притягивало его продолжить читать текст. – Кодский князь в своих владениях был не только главным сборщиком налогов, самолично объезжавшим подданных для сбора даней и поминок (особая форма подати, которую давали князю его дружинники), не только главным и верховным судьей своего народа, но и главным хранителем его моральных устоев – главным сберегательным святынь своего государства. Естественно, его столица была и религиозным центром княжества. И когда в кодские земли стало проникать… христианство, то первая церковь – храм во имя Животворящей Троицы, тоже была поставлена в Кодском городке.
Остяки неохотно переходили в веру христианскую, упорно оставаясь в язычниках. В этом же городе жил и главный шаман княжества, неподалеку от православного храма располагалась и самая почитаемая кодская «кумирия», где совершались языческие обряды…»
Перелистав еще несколько страниц брошюрки, Михаил пробежал глазами по тексту:
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе