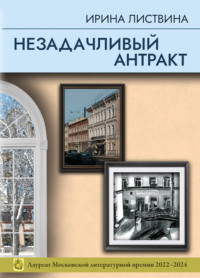Читать книгу: «Незадачливый антракт», страница 3
V. Автор (в свою очередь) знакомит читателя с Тамарой Юрьевной
Её речь с выделенными репликами
…Да, её речь была старомодно учтивой, но её взгляд на упомянутых выше «подзащитных» был лишён той сентиментальной виноватости, которую (к сожалению, надолго) ввели в русскую литературу шестидесятники XIX века. Напротив, осмелюсь утверждать, что её речи, при всей мягкости и бережности, была присуща саркастическая вежливость (т. е. в какой-то мере острая, не без соли).
Кроме того, ей была свойственна совершенно вневозрастная живость реакции. Точность речи не исключала ни противоречивости оценок, ни их полнейшей естественности. Вот одно из её высказываний мимоходом – о известной тогда писательнице В. Ф. Пановой: «Она была человек мягкий, но душевно грубый, недоверчивый».
Однажды в 50-х, ещё при И. В. Сталине, Т. Ю. не побоялась уйти с выборов писательской секции после высокомерного высказывания Пановой о критиках. «Мне здесь делать нечего», – сказала и вышла. Она вступилась не за себя, а по собственному её выражению, «за корпорацию». На следующий же день Панова прислала извинения через своего мужа, Давида Яковлевича Дара. Этот незаурядный человек вырастил и «оперил» многих молодых тогда (по сути дела, а не по рангу) ленинградских поэтов и прозаиков. После этого случая Давид Яковлевич и Тамара Юрьевна стали друзьями.
Нас (или её собеседников помоложе) просто зачаровывали её голос и дикция, нам самим уже ни в коей мере не присущие. Старинное «э» вместо «е» (но отнюдь не всегда, а как полагалось в те «бывшие» времена, когда она училась)… Это была речь петербурженки, а не ленинградки, хотя бо́льшую часть жизни и главные её события Т. Ю. довелось пережить в Ленинграде. Если бы не старинность речи и не явность её лет, нам бы казалось, что её разговор13 отличается скорей уж не важностью, а живостью… Да, это был именно лёгкий, но и «осторожный разговор»14.
Перехожу к её репликам – выборочно, как запомнилось. И как подсказывает запись её голоса на магнитофон, смонтированная Алексеем и Галиной Любегиными. Как жаль, однако – что-то осталось, запомнилось, а многое исчезло…
«…Злоба дня уходит, и является голод по вечности, а настоящее искусство – это скрещение современного и вечного».
…Да, не скрою, она привила мне (и далеко не мне одной) это странное чувство тоски по вечному и просторному миру, которого мы толком и не знаем, это детское желание перейти через линию горизонта…
«…Читаю “Дневники” Бунина. Бросается в глаза, что главное испытываемое им чувство – то, что он больше уж ничего не напишет, что всё позади, всё ушло вместе с той Россией. Боязнь того, что ты сделаешь хуже, что ты деградируешь, – это свойство всякого художника. Искусство – область болезненно честолюбивая. Художник мучается, что уже не может или что его не поняли, недооценили, и в этом нет смирения. Казалось бы, люди, не пишущие пером или красками, с возрастом должны смиряться и начинать воспринимать жизнь, как она есть, с благодарностью и естественностью. Но у них то же самое переходит на детей, у них чувство, что те за них должны что-то успеть. Возникает всё та же честолюбивая боль, но уже за детей…»
«…Интеллект – это не только рассуждения, это прежде всего интуиция». Т. Ю. не раз говорила мне: «То, что человек пишет, – это свыше, но необходимо самой понимать написанное, хотя бы на интуитивном уровне, а потом непременно стараться перейти на разумный. Вам это нелегко, но поймите, что не вам одной, это трудно всегда…»
Об известном литкритике Лидии Яковлевне Гинзбург, которую она «при всём при том» высоко ценила: «У неё одно рацио, одно рассуждение, всегда безошибочное; а сердце иногда и ошибается». И тут же следовал острый (но с отрешённо уважительным отношением) пересказ высказывания домработницы Нюши, которая нашла пропавшее махровое полотенце и принесла Лидии Яковлевне. А та сказала: «Как хорошо, что вы его нашли, я уж начала сердиться». Нюша в ответ: «Это Вы-то – сердиться? Да у Вас и сердца нет – а значит, сердиться Вы не можете».
Тамара Юрьевна искренне восхищалась писательской честностью Лидии Яковлевны, которая (тоже высоко ценя точное, острое словцо) ввела этот эпизод в свои воспоминания. Анекдот этот не был злословием со стороны Т. Ю., так как она считала, что сплетни – всё равно что донос. Да так оно фактически и было во времена их молодости. Она понимала и ценила, что писатель возобладал над человеком, не пощадил себя. И тем не менее искренно забавлялась острым словцом Нюши: «Она своим утробным чутьём попала в самую точку».
VI. Немного о ней самой
Возвращаюсь к своему рассказу о ней. Тамара Юрьевна жила на Загородном, в доме 21, кв. 41. Как удивительно было это сочетание цифр: «двадцать первое июня, сорок первый год…», последний день накануне войны, ещё по-прежнему беспечный. Ведь в войну она потеряла всех близких – родителей и мужа, пропавшего без вести, а самой ей довелось пережить Блокаду.
Похоронив мать и получив похоронку, она тоже собралась умереть – тихо, отрешённо и безразлично. Неожиданный звонок из Союза писателей привёл её в общежитие санаторного типа (на Петроградской) для пострадавших от голода, которое просуществовало недолго, но спасло несколько жизней. Там она оставалась до 1944 года, там подружилась с переводчицей «Дон Жуана» Дж. Г. Байрона Татьяной Гнедич.
После войны она осталась одна в сорок лет с небольшим. Всё пришлось начинать заново, но она была неспособна «жить сначала». Правда, были работа и друзья, был уже некоторый успех, её печатали в предвоенные годы (как исключение, без них правил и не бывает). Немногочисленные собратья по перу (сколь удивительно безошибочно чувствовали они тогда друг друга!) сразу оценили её как критика и «веда». В тридцатых же её долго не печатали, она служила секретарём в библиотеке Академии художеств. По странному совпадению одной из её коллег (кажется, там было три секретарши) была моя будущая мама, но они почти не были знакомы. Маму (студентку консерватории по классу вокала, недавно приехавшую из провинции) интересовала только музыка, а Тамару Юрьевну литература. Однако кое-что ещё в их жизни совпадало: Т. Ю. в те годы много позировала мужу, а мама подрабатывала как натурщица и фотомодель.
Талантливый художник Иван Петровский (муж Тамары Юрьевны) был человеком своеобразным, своего рода однодумом15. В предвоенные годы он вёл дневник, сохранить который не удалось, но она читала мне вслух свои выписки из него. Эти отрывки отличались угловато афористической прямотой мысли, поразительной на фоне тогдашнего (иезуитски лжепокаянного) тона пишущей братии. Они имели нечто общее с прозой Хармса и вполне могли бы войти в литературную летопись тех лет. Иван Алексеевич был близко знаком с юродивым поэтом Аликом Ривиным, написавшим в 1936 году стихи со строкой: «Вот придёт война большая», надолго оставшейся в устном ленинградском фольклоре.
Петровский погиб на фронте в возрасте тридцати семи лет, оставив немало картин, которые пропали бы без вести, как и он сам, если б не верность Тамары Юрьевны, сохранившей их и на стенах комнаты, и «в запа́снике» (или попросту в кладовке). Я не знаток современной живописи, городской пейзаж и портрет 30-х годов говорят мне не так уж много. Но я понимала, что картины неотъемлемы от неё и атмосферы дома. Они столько рассказывали о Тамаре тех лет (как он видел её, как она была любима). С удивительной живостью и тонкостью были переданы выражение и очерк её глаз, её мимолётные (юные тогда) движенья… Да и некий ангельский ореол, исходивший от её горбоносого и нежного, окружённого лёгким блеском светлых волос, отнюдь не типажно красивого, но удивительно милого лица.
Бо́льшую часть своей жизни Тамара Юрьевна провела в коммуналке на Загородном. Когда-то это была квартира её семьи, а потом вселили соседей и бывшим хозяевам оставили комнату. Она к этому привыкла со временем, но так и не смогла смириться с условными звукопроницаемыми перегородками, пристроенными для разделения семей (что превращало большие питерские квартиры в грязные запущенные закулисья или же в помещения дачного типа).
Она говорила, что коммунальщина и порождала доносы: соседи всё время что-то слышали сквозь тонкие стены из чужих комнат, но недослышивали, не понимали. И тут начинали работать фантазии, домыслы, никак не творческие, а находившиеся в соответствии со стереотипами доносов (на «освобождённую жилплощадь» в первую очередь могли претендовать соседи). Рассказов о коммуналке № 41, одновременно страшных и смешных, у неё было множество. Кажется, жизнь в этой квартире в немалой мере отразилась и на её ощущении времени как второго пространства (или как пространства временного, с тонкими коммунальными перегородками). Вот ещё одно её высказывание – о старости: «Ощущение, что меня выписали, у человека есть также и квартира возраста. Вот пришла старость, а прежний возраст не хочет уходить и прячется по углам, как непрописанный».
По-видимому, дело было не только в возрасте. Это чувство частичной непрописанности (неприкаянности) было в Ленинграде присуще многим петербуржцам, чьё детство прошло до революции. Именно это заставляло их чувствовать себя прежде времени постаревшими, но они не «давались» (и не сдавали раньше времени).
Немало было (и есть ещё) у неё друзей; люди помнят, как гостеприимна она была. Нет, не потому, что из-за стойкого и упрямого уважения к памяти близких она не рассталась с родительской мебелью. На приведение её в порядок денег не хватало, но она продолжала держаться за эти (впрочем, привлекательные, опрятные) обломки кораблекрушения.
Нет, дело было далеко не только в этом. Попав в эту комнату, сев за стол, накрытый к чаю (скорей, уж по-английски плотному, с бутербродами, консервами и пирожными), крепкому и свежезаваренному, приглашённый вдруг ощущал себя гостем с большой буквы, оказывался в атмосфере старинной питерской квартиры, со всем тем, что явно и неявно в ней присутствовало. В числе прочего – давно исчезнувшие в ломбарде фарфор и серебро; а явно – множество не всем доступных книг и то учтивое, мягкое вежество, которое не имеет ничего общего с холодной, полуофициальной вежливостью. Оно легко сочеталось с тёплым и живым гостеприимством, исстари присущим интеллигентскому кругу (и дому как таковому). Дружелюбие без тени высокомерья, «без чинов»; в этой атмосфере каждый из нас оттаивал, как замёрзшая птица в «Дюймовочке», и начинал живо, весело чирикать. Но при этом (говорю о себе, не о других) я не переставала чувствовать себя немного «на отлёте, на краешке стула», хотя и понимала, что она любит меня, и знала, как обижается, когда мои визиты становятся реже.
Должна отметить ещё одну её особенность общения (думаю, что далеко не со мной одной). У Тамары Юрьевны имелся большой запас историй из своей жизни – коротких устных рассказов. Обычно она начинала разговор с одного из них, заряжая собеседника своей открытостью и тем почти неуловимым, лёгким и колким юмором, который был присущ ей как рассказчице. Но стоило гостю оттаять и разговориться, как интерес сосредоточивался на нём самом, на его стихах или прозаических отрывках, на его разговоре о себе. И если её всерьёз интересовало то, чем он занимался (а его – её мнение об этом), то чтения и разборы продолжались чуть ли не за полночь, так что он едва успевал попасть в метро до закрытия. А когда оба они уставали, хотелось сделать перерыв, на столе сразу же появлялся вместительный чайник, и на несколько минут возникал лёгкий разговор про общих знакомых.
Именно так мы с Нелли Ореховой и познакомились заочно (то есть почти), намного раньше, чем реально подружились. Вернее, теперь мне кажется, что именно так мы с ней в конце-то концов подружились на самом деле. Разумеется, я не смогу ни перечислить, ни пересказать все эти Тамарины рассказы (а очень жаль!) – в частности, о её дружбах военных лет (с переводчицей Татьяной Гнедич, с популярной в Москве 70-х годов писательницей Е. Грековой и её мужем генералом (военкомом?) Венцелем…). Или о круге друзей Ивана Петровского, или же, на худой конец, о её подзащитных – впоследствии ограничусь очень немногим из всего этого.
К сожалению, мне приходится прервать рассказ о «саде Тамары», так как пора переходить к другим героям и персонажам повести-эссе. Ведь, говоря о развитии событий (как бы скромны они ни были), надо придерживаться и хронологического порядка…
Фрагмент
«Кабинет с садовым балконом»
I. Зелёный балкон
«Но как это?» – раздастся возглас его маститых учеников. Ведь никакого балкона у него и не было. Они с женой жили на четвёртом этаже, выше Тамары Юрьевны (но уже на Петроградской), в трёхкомнатной квартире переходного типа, между сталинками и хрущёвками-брежневками. Но я собираюсь говорить не о квартире с балконом, а совсем о другом; упомяну лишь, что мебель там была в отличном состоянии и выглядела антикварно. Домашний круг общения у него был у́же, чем у Тамары Юрьевны, он включал лишь коллег, учеников и двух-трёх соседей по дому. Из большого «сада Тамары» он звал к себе кого-то иногда, в том числе Нелли Орехову и меня. Быть званой к нему и означало попасть в узкий избранный круг. Но этого всё же маловато для объяснения словосочетания «садовый балкон».
Дело в том, что Дмитрий Евгеньевич был не только известным университетским профессором (филологом и литкритиком), но и прекрасным, хотя никак не парковым, садовником. Он растил (даже и вырастил) учеников, иные из которых впоследствии обрели известность. Всех мне не перечислить, назову критика Долгополова, написавшего книгу об Андрее Белом, поэта Виктора Кривулина, защитившего у Д. Е. Максимова университетский диплом по Иннокентию Анненскому, поэтессу Елену Шварц, по неясным причинам сбежавшую с русского отделения филфака (и перешедшую в театральный институт, на факультет киноведения), и поэта Сергея Стратановского, с которыми я была знакома. Но круг его учеников был значительно шире.
Это по поводу названия фрагмента, так как садовый балкон – крайне ограниченное пространство для выращивания всевозможных кустарниковых насаждений. В данном же случае тех, с кем нужно было как следует повозиться, или тех, кто был несколько оторван от земли. Этот невидимый балкон был его личным экспериментальным участком. Если же говорить о критическо-профессорском поприще Дмитрия Евгеньевича, то место для него могло скорее б найтись чуть ли не в Михайловском саду. Его книги издавались большими тиражами, с ним в высшей степени считались коллеги (в том числе из Тартуского университета), среди его давних друзей был и академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв…
Но пора переходить к общению, уклоняясь от общих замечаний и слов. Должна оговориться, что ввожу Дмитрия Евгеньевича в повесть-эссе преждевременно (знакомство с ним предстояло мне после переезда Тамары Юрьевны на Петроградскую), но некая зацепка в памяти заставляет меня сделать это. Так как впервые он запомнился мне на лекциях и блоковских семинарах в ЛГУ, а остальные действующие лица появились позже.
Познакомившись с Дмитрием Евгеньевичем (и несколько с ним освоившись), я узнала, что он имел склонность к спору – бескомпромиссному, даже язвительному. В этой области он был магистром фехтовального клинка, но только с истинными противниками, равными по мастерству. Я же отделывалась лёгкими ученическими туше, сразу испуганно сообщая, что «задета» в темпераментном словесном поединке. Вообще говоря, он был человеком сложнейшим: сдержанность, учтивость и доброжелательность уживались в нём со страстностью – кажется, почти во всём. Вместе с тем, он не столько жил, сколько обитал и присутствовал в своей эпохе (впрочем, довольно спокойно и комфортабельно). А на самом деле являлся живым воплощением человека-перекрёстка. В нём и пересекались, и как-то сотрудничали весьма разные культурные линии, иной раз довольно спорные и неуживчивые. Первая из них – немецкий романтизм школы «бури и натиска», но в современном (с его точки зрения) представлении кружка «Серапионовы братья» двадцатых – тридцатых годов XX века. А из немецких классиков ему был ближе И. В. Гёте, но это было присуще Дмитрию Евгеньевичу скорее личностно, чем как филологу.
Кроме всего прочего, он был одним из последних, кто провёл отрочество и юность в Царском, имея полное право повторить слова великого поэта: «Отечество нам Царское Село». Однако на первом месте для него было всё же «не то и не это», а русский символизм, притом лично избирательный, что и было характерно для его университетского семинара по Блоку. Дмитрий Евгеньевич всю жизнь хранил верность своему Александру Блоку, видя в нём, как это нам ни кажется странно, хранителя обрывающихся культурных связей с русской литературой классического XIX века. Но также и рыцаря бедного – в самом глубоком, прекрасном и печальном смысле этого слова (опять-таки, по отношению к литературе, не только к Прекрасной Даме). Это первая тема для целой статьи (о нём и его Блоке) – одна из двух главных. Вторая же – о стихах Дмитрия Евгеньевича. Разумеется, статьи эти будут написаны не мной16, право на них предоставлено его ученикам. К тому же я смогу подойти к этим двум темам только в дальнейшем, этот первый отрывок имеет обзорный и ознакомительный характер. О его стихах – тоже потом; скажу только, что долго ждала знакомства с этой коричневой старой тетрадью в сухом коленкоровом переплёте.
Ещё Дмитрий Евгеньевич очень любил животных, но я уже не застала их в доме. Сам же он слегка напоминал мне учтивейшего ворона из сказки «Снежная королева», но лишь внешним обликом и манерами, а никак не речью. Его искривленные пальцы, отмороженные и обезображенные во время войны, прекрасно держали перо, да и со всем остальным отлично справлялись. Но, бросаясь в глаза, они внушали мне чувство бережной и сочувственно ранимой жалости. Надеюсь, что он об этом не догадывался, иначе – может, и не простил бы.
Впрочем, ни руки, ни возраст его не портили (хотя и не красили), ведь в разговоре с ним собеседники о таких вещах забывали. Дамы разных лет готовы были сражаться за его благосклонность, в соответствии с феминистическим духом эпохи. Это очень осложняло жизнь его жены Лины Яковлевны, принимавшей подобные вещи всерьёз. Впрочем, я не знаю, насколько серьёзным это могло быть раньше, на всём протяжении их многолетнего брака. Тамара Юрьевна высоко ценила её, считая человеком тончайшим – и не столько при этом раздёрганным, сколько ранимым, а её отношение к мужу скорее материнским. Цитирую: «Это вечное материнство к сверстнику мужу давно уж как воспалилось в ней». Однако всё это – пока лишь вводные слова. Так как познакомилась я с Дмитрием Евгеньевичем по-настоящему и стала регулярно бывать у него дома (а затем и почти подружилась) только года через три-четыре после первого чаепития на Загородном.
А сейчас наступает время переводческого семинара Эльги Львовны Линецкой в Доме писателей на Шпалерной, который начался (для меня) года на полтора раньше знакомства с ним. Свой несколько несвоевременно начатый рассказ о Дмитрии Евгеньевиче я вскоре продолжу.
Пора вновь заглянуть на одно из чаепитий на Загородном. Вскользь и как бы между прочим Т. Ю. замечает:
– Ирина, я недавно говорила о вас с Эльгой Львовной Линецкой. Она не стала всерьёз просматривать ваши стихи, только взглянула и пролистала. Они её не поразили, но вместе с тем произвели некоторое впечатление.
– Тамара Юрьевна, вы не могли бы вспомнить, что она сказала?
– Она сказала: «Какие все они сейчас всё-таки незрелые – ни пунктуации, ни чистоты слога. Но, может, это даже не без таланта, вернее – обещает быть». А вы не хотели бы попробовать посещать её переводческий семинар? Вы ведь довольно свободно читаете по-французски и по-английски?
Я что-то ей тогда ответила, но полупропуская мимо ушей. Так как ни разу в жизни не пыталась переводить стихи. Однако в моей памяти что-то из её слов – не знаю, как сказать – отпечаталось или застряло; пусть неясно и с вопросительным знаком.
Фрагмент
«Стоический сад»
………………………………………
Отдайте нам чудище в башне —
И более ничего!
И тут была страшная битва,
И дым, и грохот, и снова
Наш город тихий
Живёт задумчивой жизнью,
Похожий с высот на гвоздику,
Империи остров великой.
И перипатетики-духи
Гуляют в прохладных аллеях,
И чуткое чудище в башне
Их слушает странные речи.
Елена Шварц. «Чудище»
I. О семинаре романских переводов Линецкой – в общих чертах
Начну с традиционной фразы – как это начиналось. Я впервые побывала на переводческом семинаре Эльги Львовны Линецкой в середине 70-х. В последний же раз была там (как участница) в 84-м, а потом только «забегала на огонёк»…
Нет, я не вознамерилась вдруг стать переводчиком, никогда раньше об этом не помышляя: с юности я хотела стать «просто литератором». Боюсь, что начать на этот раз мне придётся из дальней дали институтских лет (переход на 4-й курс, мне девятнадцать). Я хотела уйти из ЛИТМО, чтобы поступить на филфак в университет, но дома начались скандалы, отец (от которого обе мы с мамой материально зависели) «встал на дыбы», хотя и я не сдавалась: «Папа, я не умею чертить и не хочу быть инженером, хватит с меня диплома техника. Я хочу быть образованным человеком, а не белым воротничком в конторе». Мама была на моей стороне и сумела уговорить отца устроить мне зачисление на заочное отделение филфака ЛГУ – при условии, что я всё же кончу институт. Почему же «устроить», разве я не была способна сдать вступительные экзамены? Но недавно был принят закон, согласно которому нельзя учиться в двух высших учебных заведениях одновременно, а также и поступать во второе из них, не отработав три года по распределению. Поэтому отец именно «устроил» меня – притом не на русское отделение, куда мне хотелось, а на французское, где конкурс (даже и на заочном) был меньше. К тому же так больше «устраивало его самого»: «Будешь по крайней мере прилично знать французский и английский, сможешь прожить уроками и переводами».
С тех пор прошло пять лет, я работала в инженерной конторе и тайком писала там стихи, заодно учась на французском (вечернем) отделении и посещая лекции на русском и на истфаке. Вышло, что на французском я оказалась случайно, хотя любила этот язык больше других с детства – ведь он имел прямое отношение к русской литературе.
У меня не зафиксировалось в памяти, когда (и как) я начала работать техническим переводчиком с английского и французского. Когда учишься на вечернем, приходится работать, особенно если ты молодой специалист по распределению, а конструктором быть не можешь. Впрочем, вначале служба мне попалась очень удачная: нужно было каждый вечер относить готовые переводы статей на физфак (совсем рядом с филфаком). И два раза в неделю, ранним утром, ездить на производственный объект. Между лекциями в университете и забрасыванием готовых переводов на факультет напротив – приходилось сидеть часа по три в библиотеке (БАН) и переводить. Впоследствии, года через три, это незаметно превратилось в профессию, в обычный рабочий день (уже на другом предприятии). Не стоит и говорить, что занятие это имело мало общего с литературой, было из области «хлеб насущный даждь нам днесь». Но по-прежнему я разбиралась с накопившимися трудными местами в библиотеке, теперь уже в Публичной и раз в неделю, это называлось «библиотечный день». Работы хватало до закрытия (с десяти утра почти до десяти вечера).
Технические справочники и словари полностью забивали голову, порой она переставала работать. В свободный час я уходила на прогулку или заходила в зал основного фонда почитать (по старой памяти) любимых поэтов начала века. Если же на это времени не было, то в узеньком Справочном зале (около Технического) можно было получать литературу на иностранных языках. Так постепенно и случилось, что моими постоянными спутниками стали три «тамиздатных» тома стихов, схожих лишь толщиной: Эмили Дикинсон, Поля Верлена и Т. С. Элиота.
Я хотела бы объяснить кое-что ещё, перед тем как продолжить. Нет, чтение стихов на иностранных языках не было и не стало моим любимым занятием, я больше любила русские стихи, как прежде. Более того, иноязычные стихи в подлиннике я до того и не встречала, и почти не знала. Но в Публичке было два главных читальных зала (огромные, типа вокзальных) – Читательский и Технический, оба на вторых этажах весьма солидных лестниц, находившихся на немалом расстоянии одна от другой. Я их не любила, но по диплому и роду занятий относилась к Техническому. Однако сосредоточенно работать в нём я не могла, поэтому сидела рядом, в Справочном зальце, где выдавали технические журналы на разных языках, словари по специальности17, а заодно и иноязычные книги по предварительному заказу.
Итак, выходит, что «всё это вместе взятое» было из области предопределения, а не личным выбором занятий. Но выбор авторов всё же был моим. Однако надо отметить, что мои ранние стихи (часть их вошла в «Привал в облаках», а часть и нет) были написаны в соответствии лишь с двумя традициями – с русской классической (XIX и Серебряного веков) и с менее проявленной, как бы скользнувшей мимо – из второй половины пятидесятых и начала шестидесятых. Примерами второй, довольно пунктирной, традиции могли бы служить стихи Новеллы Матвеевой («Я леплю из пластилина, / Пластилин нежней, чем глина…») и несколько наивные строки Р. Рождественского («А весною я в несчастья не верю / И капели не боюсь моросящей. / А весной линяют разные звери, / Не линяет только солнечный зайчик…»). Да ещё, пожалуй, мой любимый французский шансон – во всех его проявлениях.
Что до первой из традиций (классической), то в полном соответствии с нею мои ранние стихи делились на лирические, гражданственные и о природе. Именно они нравились моим однокурсникам и Ирине Чемодановой. Если не лень, можно заглянуть на «Литрес» и «Озон» в избранное: «Прогулки вдоль линии горизонта» и найти там «Конец осени» («Дождь, захлёбываясь, крошится / Голышами хлеба. / Тучи, пегие, как лошади, / Вытоптали небо…») – это о природе. Но там есть и гражданственное: «Вершители судеб, творцы и палачи, / Тираны, стоики, строители, солдаты…»; что же до стихов о любви, то их намного больше.
И всё же было кое-что ещё – нет, не в этих ранних стихах, а где-то возле них, около. Я любила многих поэтов, особенно же некоторых (перечислять не стану). Но знала наизусть около половины стихов двух русских поэтов-акмеистов – Н. Гумилёва и О. Мандельштама. И только их, хотя также по нескольку стихотворений других поэтов, начиная с Ломоносова и далее. Не стану объяснять эту странность, хотя самой мне ясно, что она была плодом восторгов отроческого сердца перед двумя его избранниками.
Теперь два слова о выборе иноязычных поэтов в Публичке. Верлен (эта всеобщая любовь русских лириков), конечно же, был выбран за музыкальность. Мелодия у него не царит, а живёт над строфами, то и дело не просто появляясь в тексте, но и являя себя – почти как в музыке. Американку Эмили Дикинсон я выбрала как поэта, замкнувшегося в мире особых пространства и времени, мире высокогорном и «существующем где-то над», хотя притом вполне реальном, во всяком случае, ничем реальности не противоречащем.
И наконец, Ти Эс Элиот… Пожалуй, с ним дело обстояло сложнее. Вначале он привлёк меня тем, что мыслил абстрактнее, шире и обобщённее многих современных (или XX века) поэтов. И ещё – поистине латинским лаконизмом. Институт ЛИТМО каким-то непонятным образом развил во мне склонность к абстрактному мышлению, без которой невозможно освоить целый ряд предметов, например теоретическую механику и высшую математику. Но если б дело было только в этом, Элиот вскоре бы мне наскучил, как это случилось (на несколько лет раньше) с Ломоносовым. Однако вскоре я поняла, что в Элиоте заключена энциклопедия западной поэзии XX века. И что он многое в ней издавна задал и определил, создав свою поэтику, как запустелый новый материк вроде Австралии, имеющий свой рельеф и вполне определённые, заданные границы. Кроме всего прочего, Ти Эс Эля нужно было разгадывать, в его текстах было немало пазлов, аккуратно, ловко и почти незаметно вписанных в текст (во всяком случае, не торчащих из него и не мешающих пониманию всего остального).
Ограничусь пока этими краткими и неглубокими характеристиками. Притом должна заметить, что эти спутники неприметно оказывали влияние на мои стихи, которые за эти два с половиной года (1971–1974) стали меняться. Кстати, и Верлена, и Ти Эс Элиота приметили тогда в Публичке многие, а не я одна. Вообще-то в Справочном зале, как правило, выдавали для чтения только книги, востребованные неоднократно. Эмили Дикинсон не была так популярна, поэтому я сочла её нежданным и личным подарком.
Утомившись от долгих разбирательств с агрегатами насосов и их деталями, я забиралась взглядом то в облака в окне, то в эти стихи. В них мне тоже следовало бы «вчитаться» серьёзнее, со словарём, но они были для души. Можно было иной раз читать их, просто скользя, а забираться вглубь – наугад и как придётся… Так почему-то проходила головная боль, и мысли оживлялись, и всё успевалось. Однако неожиданно выяснилось, что мои новые стихи нравятся немногочисленным поклонникам меньше прежних. Новый, усложнённый стиль не вызвал у них восторгов, а Ирина Чемоданова прямо сказала: «Ирка, ты начинаешь развиваться куда-то не туда. Тебя заносит!»
Лёши Хвостенко (с которым я давно не виделась) в городе не было, кажется, он уехал в Москву или его уже выслали как тунеядца. И показать эти стихи было просто и некому, кроме Тамары Юрьевны, которая, напротив, как-то больше заинтересовалась ими, чем прежними. Но поначалу тоже была недовольна, назвав сгоряча парниковыми: «Ирина, вам не кажется, что они эклектичны? Не знаю, можно ли так свободно смешивать ваш современный и постакмеистический стиль с сугубо западным». Я промолчала, избегая искреннего ответа, что только этот стиль кажется мне действительно современным. Что Т. С. Элиот и Эмили Дикинсон жили много лет тому назад, хотя у нас их «считают современными» – наверное, с лёгкой руки Иосифа Бродского или кого-нибудь ещё. Кстати, именно тогда у Т. Ю., возможно, и возникла мысль пристроить меня в семинар Э. Л. Линецкой.
Затем как-то раз, в магазине старой книги на углу Литейного и Жуковского нашлась для меня прелестная и недорогая книжечка стихов Бодлера на французском. Начав её листать, я удивилась лёгкости понимания и увлеклась. И вдруг перевела вечером дома два стихотворения. Точнее, они как-то «перевелись» сами; впрочем, это удивило меня не больше, чем появление моих стихов. И всё же я не поленилась справиться (всё там же, в Публичке) об имеющихся переводах, опасаясь, что кто-то перевёл их в точности так же, но раньше. Очень уж как-то легко получилось, а вдруг я просто вспомнила что-то? Но нет, оказалось, что их никто так не перевёл. Мои переводы Бодлера ничуть не привели меня в восторг, но всё же я показала их Тамаре Юрьевне, а та передала маститой переводчице Э. Л. Линецкой.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе