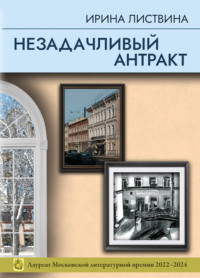Читать книгу: «Незадачливый антракт», страница 2
Фрагмент
«Из жизни ленинградской богемы»
II. Интермеццо мансарды и двора между упомянутыми садами
Попробую вернуться на миг в далёкий 1971 год, при этом в клинику неврозов на Васильевском, где я посещала (раза три, кажется) приятельницу, временно потерявшую почву под ногами из-за несчастной любви. У Маши (так её звали) ничего особенного врачи не нашли, поэтому поместили её в большую общую палату – не знаю, на сколько человек. Ей нравились мои стихи, и я читала их вслух (но с перерывами, негромко и понемногу). На выходе я столкнулась в дверях с коренастой и худощавой женщиной (лет под сорок на вид) в казённом халате, сером и застиранном; в левой руке она небрежно держала зажжённую болгарскую сигарету. Рука была очень приметна – скорее, мужская, но красивая, как бы выточенная из одного куска (но не воска, а дерева светлого тона). То есть я и не сталкивалась с ней, а натолкнулась на её взгляд в упор и невольно остановилась. Не отводя глаз, она представилась, протянув мне правую руку: «Ирина Чемоданова, литератор, будем знакомы. Сразу вас заметила, ведь вы в своём роде редкость». Я была немного ошеломлена, но протянутую руку пожала, сказав: «Очень приятно, Ирина Литвин». В дверях мы не задержались, и разговор не продолжился. Я спустилась в гардероб, подумав: «Да, конечно, здесь бывают чудачки и покруче».
А в свой следующий визит (дней через десять) я с недоумением убедилась, что вся палата хорошо меня знает, девушки и женщины разных лет улыбаются, говорят со мной запросто, называя кто Ирой, а кто даже Иришей. Я слегка вздрогнула и даже обиделась на мою Машу, но совершенно напрасно, она была тут ни при чём.
Дальше у меня лёгкий провал в памяти, хотя они мне и несвойственны (особенно же тогда, в двадцать с коротким хвостиком). Мне в общих чертах кажется, что я довольно долго не видела Ирину и ничего о ней не слышала.
Как и у других девушек, у меня бывали мимолётные знакомства, случались и вечеринки – в прежнем институтском и в новом (для меня) университетском общежитиях. Среди моих знакомцев был итальянец Лео Сфорцини, он мне нравился; кстати, его соотечественники были в моде в городе. Роман наш оборвался в самом начале, на первых же поцелуях, но мы успели побывать на фестивале старых французских фильмов (в частности, на «Детях райка» Марселя Карне). И ещё успели по одному разу побывать у друзей: сначала у моих (общежитских), а потом у его знакомых на Ковенском. Как и везде тогда, было шумно и людно, пили вино и громко разговаривали, но не танцевали (а в общежитиях умудрялись курить и танцевать где угодно – в коридоре и даже в простенках между шкафами). Я спросила у Лео, кто хозяйка этого дома, он показал, и я узнала Ирину. Как только наши глаза встретились, она подошла, обняла как старую знакомую и представила всем: «Знакомьтесь, это Ирина Литвин, она пишет хорошие стихи».
Пока никакого провала в памяти ещё не было, но теперь пришло его время. Я абсолютно не помню, как происходило моё сближение с ней, оно шло на фоне поначалу коротких, но запоминающихся разговоров. И главным образом через Светку, которая была (примерно) моей ровесницей. Та умела быть и приветливо обаятельной, как киноактриса, и скрытно неприступной («Что вам угодно?»). Она попала к Ирине в качестве машинистки – после неудачной попытки самоубийства. Банальная для того времени история – роман с афро-арабским шейхом, обещавшим жениться и сделавшим ей ребёнка, которому не суждено было родиться на свет, так как шейх внезапно испарился и как ни в чём не бывало уехал в Африку (адреса не оставив). Постепенно беседы с Ириной становились длиннее и откровеннее, собственно говоря, это были её рассказы – то об одном, то о другом. О довоенной семье и детстве (её растила бабушка из рода Нелидовых, возможно, что и из потомков императора Павла. А её мама, тоже писательница, находилась тем временем в ссылке в Магадане). И о беспризорщине во время войны – детей вывезли из города перед объявлением Блокады, а поезд, на котором была восьмилетняя Ира, разбомбили. Дети рассыпались, как горох, кто куда; это было в средней России и далеко от дома. Да, конечно, у Ирины были аристократические руки (без маникюра, но всё равно обращали на себя внимание). Однако её вполне литературная речь была разбавлена изощрённым матом, это осталось с тех самых пор.
Квартира была большой коммуналкой, но она умудрилась проживать там «отдельно в маленькой семье», состоявшей из двух комнат, Светки и трёхногой полубульдожки Рикки, которую Ирина извлекла из-под машины, доставила в ветеринарную клинику, а недели через две взяла к себе.
Медленно и с трудом познавала я всю необычность места, в которое попала. На вид это были самые невзрачные и обшарпанные комнаты. Но по мере осознания они превращались в нечто похожее на пещеру Али-Бабы. Заходившие туда ненадолго незнакомцы и незнакомки приносили и оставляли еду (от невкусных батонов с колбасой или сарделькой до жареных кур пополам с копчёными сигами), а также самые разные вещи, которые потом раздавались другим. Постепенно меня стали звать и на вечера, бывавшие примерно раз в две недели. Посетителей на них было б немного – один-два литературных критика с именем и кто-нибудь из писателей, временно попавший в немилость (например, А. Битов), – если бы они не приводили с собой знакомых. Откуда-то брались старинные фарфоровые, но также и простые чашки с блюдцами, хрустальные рюмки и стеклянные стаканы, к чаю всегда были пирожные и сухое грузинское вино, а общий разговор носил самый оживлённый характер. Помнится, на дворе был 1973 год, в журнале «Новый мир» недавно появились первые статьи о «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова, а за столом восседала худая и седая, несколько вертлявая дама, автор этих самых статей. Бывала иногда и Тамара Юрьевна – к моему удивлению, она меня узнавала и приветливо кивала, входя. Бывали и другие люди, очень разные, но «кто из них кто», я так и не разобралась в силу непринадлежности к литературному миру тех лет.
В частности, там впервые промелькнула передо мной и Нелли Орехова, чем-то очень расстроенная. Она курила на холодной лестничной площадке, набросив, а не надев зимнее пальто стандартного пошива с сереньким недорогим воротником. Казалось, она вот-вот разрыдается, большие голубые глаза были полны слёз и буквально прыгали от обиды, да и губы тоже – но только слегка и реже. Я так и не узнала впоследствии, кто же и чем обидел её. Она меня в тот вечер не заметила, а годы спустя решительно ничего не могла припомнить.
Ирина ни разу не просила меня читать на этих вечерах, но время от времени передавала машинописные листки с моими стихами кому-нибудь из посетителей со словами: «Вот это – настоящее!»
А дальше пошли настоящие фантасмагории, одна другой невероятней. Так, например, запросто иногда заходившая к ним важная немолодая дама, высокая и не лишённая привлекательности (с обилием колец на пальцах), оказалась родной сестрой поэтессы Ольги Берггольц, Марией Фёдоровной. И как-то заодно выяснилось, что Ирина несколько лет (ещё совсем недавно!) была секретарём и другом Ольги Фёдоровны.
Вот и ещё один фантастический пример: я еду в Москву, командировка, видимо, будет лёгкой (зайти в два места – что-то передать), останется время на знакомство с окрестностями. Ирина просит меня заглянуть в Третьяковку и обратить внимание на парсуну боярина Чемоданова, одного из её родовых предков. А заодно даёт мне записку к известному московскому экскурсоводу (по бывшим поместьям невдалеке от столицы). Пожалуй, на этом пора остановиться, не перегружая читателя чересчур разнородными, к тому же и маловероятными впечатлениями.
III. Визит в редакцию
…Постепенно я привыкла к этим двум комнатам, в которых обшарпанность сочеталась с пещерой Али-Бабы. (А кто знает, как на самом деле выглядела та изнутри? Может, сверкание сокровищ сочеталось там с заплесневелой чернотой сводов и закоулков.) Искренне привязавшись ко всем трём обитательницам жилища, я иной раз даже оставалась там ночевать, как совсем недавно – в общежитской скученности, на случайно свободной койке. Хотя мне и не случалось быть так бесприютно одинокой, как герою «Лестницы» талантливейшего А. Н. Житинского, но его кочующий образ жизни был кое в чём сходен со студенческим моим. Ночлег на Ковенском был не лучше и не хуже других, но больше запомнился. Комнаты были смежные, в задней была спальня, а на входе из коридора в большую комнату был простенок, отделённый портьерой. Там находились три предмета: гардеробная вешалка (громоздкая и обветшалая), диван и стул. Ложе приходилось поневоле иногда делить с Рикки, вначале я бурно протестовала, но потом научилась так заворачиваться в одеяло, что она не очень мешала спать. Не знаю, кто из нас при этом обходился с другой бесцеремонней, я или она. Кажется, ей приходилось труднее, так как она забиралась с краю, тесня меня к стенке. Вообще не понимаю, за что меня любили собаки: у меня ни одной своей в жизни не было. Впрочем, Рикки любила всех, кто не отшвыривал её, а только отпихивал, тузил и ворчал, ведь ласковость и доверчивость были у неё врождёнными, как и бесцеремонность.
Хозяйки дома вскоре со мной освоились, выразилось это в том, что Ирина стала изредка давать мне ответственные поручения, а Светка посылала за продуктами в магазин; о её заданьях сказать мне нечего, но об иных Ирининых – другое дело. Первое я получила в конце года нашего приятельства, ещё одно – намного позже.
Круг знакомств и родства Ирины был довольно широким. В частности, Ирина Александровна, жена поэта Всеволода Рождественского (бывшего акмеиста и ученика Н. Гумилёва), приходилась ей тёткой по линии Нелидовых, если не ошибаюсь. Ирина ценила мои стихи и решила, что должна проводить их (вместе со мной) в редакцию журнала «Нева». Для этого она специально договорилась с женой Всеволода Александровича по телефону, потратив на это полчаса. С ним самим она давно не разговаривала, считая чинушей и ретроградом.
Итак, «мне было назначено», и я появилась в его приёмной2 в час дня. За письменным столом восседал человек в высшей степени почтенной и благородной наружности, лет семидесяти пяти. Два слова о том, что представляла собой внешне я сама. В двадцать пять я выглядела двадцатилетней, на мне были болгарская дублёнка, привезённая отцом той осенью (впоследствии их стало очень много, но тогда была редкостью), и пушистая шапочка с выбившейся на лоб чёлкой. Очки я носила только на работе, дома и в сумке – так что их просто как бы не было. Боюсь, что я произвела на него не совсем взрослое впечатление. Всеволод Александрович был инструктирован супругой, поэтому изучал мои вирши долго, минут двенадцать. Затем он вздохнул, слегка откашлялся и обратился ко мне с не самой краткой (для него в подобном случае) речью: «Вы человек, безусловно, способный, вот тут у вас (тычет пальцем) хорошо, да и тут вот (ещё раз тыкает…), и далее в том же духе. Но зачем вам искать свою тропинку в поэзии, идти непроторённым путём? Вы достаточно владеете стихом, чтобы начать выход на шоссе советской поэзии. Прошу вас понять это и самостоятельно исправить… именно в этом духе. И тогда я охотно поспособствую их публикации в журнале “Юность”. Так как в “Неву” вам, пожалуй, обращаться пока что рано».
Сама не понимаю (даже и до сих пор), почему я ждала от него каких-то других слов. Нет, не похвал; я, наоборот, боялась упрёков в неточности рифм и необоснованности метафор. А других – просто в память моих любимых Гумилёва и Мандельштама. Ведь мне казалось, что он может сказать мне словечко от их лица, как это вышло в Комарове с Анной Андреевной. Поэтому я растерянно молчала и не сразу встала, чтобы уйти. Видимо, Всеволод Александрович подумал, что я жду от него чего-то ещё. Он понял меня на свой лад (мало ли девочек шляется в редакцию, предварительно заявив о своём визите телефонным звонком от разок кутнувшей с ними персоны) – и предложил мне поужинать с ним завтра вечером в ресторане.
Тут я встала, поблагодарила за внимание, вежливо откланялась и ушла. Как-никак он был бывшим акмеистом, отшивать его всё же не следовало. Но если бы дело этим и кончилось! Нет, конец этой сценки предстоял мне в парадной напротив кинотеатра «Баррикада» на Герцена (Большой Морской). Я зашла туда на две минуты в состоянии полной растерянности, остановилась лицом к окну на втором этаже и закурила сигарету, положив перчатки на подоконник… И вдруг совсем неожиданно разрыдалась. Продолжалось это недолго, а придя в себя, я поскорей убежала оттуда, чтобы это не могло повториться. Так закончилось моё посещение журнала «по знакомству».
Реакция Ирины была бурной, но предсказуемой. Конечно, она ругала свойственника последними словами. Но дала понять, что так обычно ведь и бывает. Она иной раз называла меня лопушком3, но как-то по-доброму.
Фрагмент
«Хмельницкая и сад Тамары»
(продолжение)
IV. О краеугольном камне её трудов и лекций
Хмельницкая, как и все старые интеллигенты, надеялась (наивно, наверное) на возобновление настоящей великой русской литературы через посредство западноевропейской (и американской, латиноамериканской, etc., которые на стыке двух последних истекших веков «много взяли у неё взаймы»). Им казалось, что наступает пора возврата долгов; когда, вернув на русскую почву человечность и гражданство мира, о которых писал Ф. М. Достоевский, молодые писатели обретут высокий статус, вернут многоименитую славу российской словесности…
На самом деле всё обстояло сложнее – и не только оттого, что шестидесятые были коротки, как бы отправлены за штат. Не стану писать об этом «долго и всерьёз», но дело было также в том, что гуманистической культуры (и просто человеческой, с образом-подобием Божиим) на само́м Западе было уж на донышке. Тогдашнее возобновляемое окно в Европу приоткрылось – но оказалось зеркальным с обеих сторон. Обращённая к нам сторона отразила пустое, как и прежде, металлически белое, клубящееся европейское небо – всё того же XX века. Оттуда ещё сильнее прежнего (XVIII и XIX века́) пахну́ло на нас трёхмерной буржуазностью с характерными для неё примесями: нигилизма, деловых и деловитых игр – в бизнес, секс, нуклеарную семью, etc. И ничем иным более.
Но этой прекрасной иллюзии моё поколение было обязано многим… А в частных случаях, упоминаемых здесь, тем её отношением к нам, которое удивляло на первых порах так, что трудно было поверить.
Теперь я должна перейти к значительно менее проявленной4 части дела её жизни. К тому же не одной Тамары Юрьевны, а всего редеющего ряда её друзей. Их общей затаённой любовью оставался переходный период между классической русской литературой и революцией. Или период конца и первого тридцатилетия двух истекших веков. Но если условиться считать конец XIX и начало XX первой и второй третью этого недолгого времени (обе принято называть Серебряным веком5), то ведь имелась и завершающая треть, раздвоившаяся на советскую и эмигрантскую. В двадцатых годах XX века известные писатели и поэты довольно-таки прерывисто курсировали между советской Россией и Европой, то уезжая, то возвращаясь. Исключением из правила не стал ни «большевик» Максим Горький, ни «граф» Алексей Толстой (красный, в отличие от великого и зеркального Льва Николаевича6). В конце двадцатых и в начале тридцатых часть писателей-эмигрантов (в том числе Андрей Белый) вернулись в СССР, а другие опоздали.
Далее идёт мой краткий пересказ некоторых мыслей Тамары Юрьевны с вкраплениями её запомнившихся реплик. «Нужно признать, что этот “третий акт”7 оказался судьбоносно трагическим – как для ряда писательских имён, так и для отечественной литературы…»8 Не станем писать здесь о тех, кто нашёл дорогу к советскому, а затем и к российскому читателю, невзирая на множество препон, эти имена всем известны. «В качестве примера обделения и обеднения нашей литературы назову лишь два имени: Нину Берберову и Бориса Поплавского (или просто мельком упомяну их) – им как-то особенно не повезло. Начну с Берберовой. Её великолепно написанная и трепетно проникновенная (пусть и приправленная чёрным юмором с солью, которая по-другому именуется боль) проза “Биянкурские рассказы” заслуживает стоять на книжной полке рядом с “Летом Господним” Ивана Шмелёва».
Но Нина Берберова принадлежала к эмигрантской молодёжи, не успевшей обрести популярность в России, к тому же она была женой известнейшего поэта Владислава Ходасевича, обладавшего нелёгким характером. И вышло так, что на этот сборник (такой единый, что его можно счесть романом, составленным из рассказов)9 дружно набросились эмигрантские писатели-классики, включая А. И. Куприна. «Причина – необычный язык, которым написана книга, язык сказа, но не фольклорного, а разговорно-сленгового; главным персонажем является рассказчик, а говорит он на том русском, который характерен для его героев. Эта сленговая примесь была не так заметна на слух, но оказалась броской в печати». Герои книги – юнкера и курсанты (вроде Николки Турбина), младшие офицеры, которых крымская волна выбросила из России вместе с армией Деникина. Большинство не успели окончить высшие учебные заведения, их понизили, списали; так они стали рабочими на заводе «Рено» под Парижем. «Ни одной равноценной книги (кроме ещё нескольких небольших повестей) Н. Берберова не написала. Эмигранты-классики стреножили её, как норовистую скаковую лошадь». Её романы из серии «ЖЗЛ» и воспоминания о Максиме Горьком (включая «Железную женщину»), написанные позже, да и личные воспоминания «Курсив мой» по мастерству и красочности пера ни в какое сравнение с «Биянкурскими рассказами» идти не могут.
Ещё сильней не повезло Борису Поплавскому, «чей дар поначалу сравнивали с огромным талантом В. Ходасевича, даже с гением Бориса Пастернака. Но ему выпало совсем иное – раннее самоубийство». Его печатные сборники (за исключением «Флагов» и немногих отдельных стихотворений) остались едва известны русскому читателю. Его поэзия по истокам близка к позднейшей классике: к Н. Гумилёву, Г. Ива́нову, относительно раннему О. Мандельштаму (до 30-х годов), но затем в ней стали преобладать черты эмигрантского романса и раннего шансона (вспомним, что первым шансонье на Западе считался А. Вертинский, который был старше него, но вначале на одной волне с ним).
«Однако лирика Б. Поплавского по настрою темнее, пессимистичнее и прозападнее. С юности он впитал в себя декаданс и струю французского постромантизма (идущую не от В. Гюго, А. де Мюссе и Э. де Ростана, а от поздних романтиков – Ш. Бодлера, А. Рембо… и вплоть до первой послевоенной волны10).
А потом была вторая, ещё более страшная война, до которой он и не дожил».
«К сожалению, современная поэтесса Елена Шварц глубоко неправа, утверждая, что в начале XX века гении как сорняки росли. Нет, во все времена они нуждались в бережном выращивании. Б. Поплавского не вырастили, был сам по себе и впоследствии внезапно впал в мрачноватую мелодекламацию (“В небе розы реют”)».
Добавлю от себя, что его проза «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» могла бы прийтись по вкусу российским олигархам девяностых, но те читать не любили, предпочитая «делать дела». Тамара Юрьевна продолжала: «Да, но и великая поэтесса Марина Цветаева дошла до нас почти случайно, она вернулась в СССР вслед за дочерью Ариадной, против собственной воли и воли сына Георгия. В Москве из поэтов её поддержали только Борис Пастернак и три-четыре молодых – Арсений Тарковский и поэты близкого к нему круга (известные нам в качестве фронтовых; иные из них не вернулись в 1945 г.). Благодаря присущей (именно и только им) ответственности перед отечественной литературой мы и имеем М. Цветаеву».
Казалось бы, какое отношение имеет эта краткая вставка о писателях-эмигрантах к рассказу о самой Тамаре Юрьевне? Напротив, в своё время она была ученицей тех профессоров, которые считаются основателями школ конструктивизма и формализма. Они жили и мирно скончались в СССР, однако был и Роман Якобсон, основатель наследовавшего этим течениям структурализма, который жил не в СССР, а в США. Дело в том, что годы окончания Т. Ю. аспирантуры в ЛИИИСКе (конец 20-х, преддверие 30-х) совпали с переломным моментом, когда СССР закрывал свои границы. Те, кто смог вернуться, остались в России; а иные из тех, кто не вернулся, остались в относительной безвестности надолго, если не навсегда. Их имена живут лишь в относительно узком кругу литкритиков и литературоведов.
Тамара Юрьевна и тогда обладала даром общения, но трудно представить, с кем могла бы она переписываться в те годы. Не исключено, что её литературный круг был не так уж и узок. Впоследствии кому-то из её знакомцев предстояло физически исчезнуть, а кому-то таиться, не предпринимая попыток печататься до конца тридцатых. Всё же можно сказать с уверенностью, что она не входила в оба круга – Михаила Кузмина и Анны Ахматовой, живших в том же районе, наподалёку от Литейного проспекта. С Анной Андреевной она познакомилась после войны, но с людьми, знавшими в своё время и А. Белого, и Н. Гумилёва, и М. Кузмина, всё же знакома была. Однако впоследствии глухо молчала об этом, так как в тридцатых её неоднократно вызывали из-за них в Большой Дом. Судя по выпискам из дневника её мужа, оба они были ближе знакомы с «малыми обэриутами», возможно, из кружка К. Вагинова. И даже с так называемыми уличными поэтами тех лет – примером последних может служить Алик Ривин.
Но ей всегда была близка тема великой русской литературы – и внутри страны, и в эмиграции. Этим, по всей вероятности, объяснялся её пристальный интерес к творчеству И. С. Тургенева, жившего по большей части во Франции. Жаль, что нет возможности взглянуть на страницы её книги о нём, да и на рукопись её статьи о Данииле Хармсе (и других обэриутах); к сожалению, они пока недоступны.
Автору хотелось бы прибегнуть к одной несколько спорной гипотезе, нуждающейся в подтверждении. Главным для Хмельницкой всегда являлась гармония, она всем своим существом стремилась к скромной, незаметной и притом естественной гармонизации окружавшего её мира. Подобное восприятие строится на нахождении ряда тонких взаимосвязей между явлениями, порой имеющими не так уж и много общего между собой.
Ей, знатоку русской литературы XIX–XX веков, не могло не бросаться в глаза, что ряд оборванных революцией литературных связей стремился на протяжении лет как бы вновь выстроиться в устойчивые цепочки. Но только совсем по-другому, с учётом изменившихся парадигм власти и сопутствующих обстоятельств. К семидесятым годам эти связующие цепочки были фактически выстроены реконструктивно. Но им (почему-то) не хватило простора и сил для дальнейшего роста. Кроме того, была резко прервана (оборвана?) акмеистическая линия, идущая от Н. Гумилёва и О. Мандельштама (до тридцатых годов), которая обещала дать намного больше. «Широко известными последователями этой линии в шестидесятых остались Анна Ахматова и Самуил Маршак (последний – через Елизавету Дмитриеву-Васильеву11, в юности привившую ему основы стихосложения и введшую в советскую детскую поэзию. Сама она возникла как поэт под влиянием двух родственных школ12 – М. Волошина и Н. Гумилёва)».
Отсутствие простора и перспектив роста грозило ущербностью, это хорошо понимали Тамара Юрьевна и её собратья по перу: Д. Е. Максимов, Л. Я. Гинзбург. В конечном счёте всех их интересовала не зарубежная и даже не эмигрантская литература. А та большая (более того, великая) русская литература, которая в двадцатых годах XX века взяла да и разделилась на рукава, подобно дельте реки Невы на входе в Финский залив. Напоследок должна добавить к сказанному о ней, что со мной она могла говорить о Н. Берберовой и Б. Поплавском, как о примерах обеднения русской литературы. А с кем-то другим – о совсем иных именах, в частности А. Платонове, Е. Замятине, Б. Пильняке… и ещё о многих. Она была «ходячей энциклопедией» русской литературы XX века и глубоким её знатоком века XIX.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе