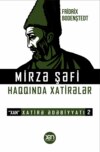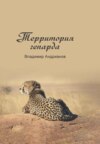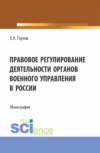Читать книгу: «Повесть о чтении», страница 4
Тяжелая двустворчатая дверь открывается медленно, но закрывается за нами ещё медленней. Может быть, не закрывается полностью вообще. Или это опять моё ложное впечатление, что дверь углового магазина приоткрыта всегда… Приглашает… Заманивает…
И мы входим в КОГИЗ. Что это слово обозначает? А-а-а, вот расшифровка в интернете: «Книготорговое объединении государственных издательств». Язык сломаешь. А вот аббревиатура запомнилась сразу. В раннем детстве. И до сих пор рождает приятные ассоциации. Поэтому радуюсь случаю им воспользоваться. Скажешь «КОГИЗ» – и мгновенно возникают широкие застеклённые прилавки, внутри которых выложены только что полученные, нарядные книги. За прилавками – красивые, да-да, красивые, потому приветливые, внимательные женщины-продавцы. А за их спинами – полки. Опять книги! Эти колонны держатся скромно, тесно прижавшись переплёт к переплёту… Впрочем, и тут бывают исключения: какую-нибудь важную особу вдруг развернули к покупателям лицом, чтоб обратили мы внимание на обложку с картинкой или на завлекательное название. Вот именно так: в таком месте, в такой обстановке, в таких деталях начиналось каждое утро в моем новобытовском детстве.
В действительности – не каждое. Были обстоятельства, когда мы вообще не выходили: плохая погода, состояние здоровья. А если мы с бабушкой собирались в кино (в «Хронику» примерно раз в пять дней, в «Юнгштурм» – пореже, но ни «Чапаева», ни роммовскую «Лениниану», ни «Юность поэта», ни «Волгу-Волгу», ни «Кукарачу» не пропустили), то посещение КОГИЗа отменялось. Однако, хотя кино высоко ставилось в наших с бабушкой ценностях и его посещение всегда имело привкус праздничности, визит в КОГИЗ – это совсем другое. Это то, в чём испытываешь постоянную потребность, без чего жить нельзя. Совпадали такие ощущения у меня с бабушкой изначально? Конечно, нет. Мои дошкольные мысли были коротенькими и пустяковыми, скорее всего их вообще не было. Это только сегодня я высматриваю и определяю бабушкины предпочтения. Но все строительство наших будней с их дотошным повторением, мнимой непоследовательностью, разнообразным однообразием создавали сначала привычку, а потом и предвкушение события, уверенность в том, что оно состоится. Я имею в виду КОГИЗ, потому что вместо бакалеи мы могли отправиться в гастроном «Три поросенка», а после сорокового года – в «Маслопром» или вообще обойтись без пищевых покупок. Книжный же был неизбежен. Плюс обилие тамошних впечатлений. Так и образовалось формально ложное, но фактически истинное воспоминание, что мой день в детстве начинался встречей с книгами. Как же она протекала?
Прежде всего, мы разглядываем: что выложено на прилавке под стеклом. Загораемся, я – увидев яркую обложку, бабушка – прочитав новое название. Или наоборот – знакомое, но ещё мне не читанное. А то продавщица, для которой мы уже свои люди, достаёт нам что-то с книжных полок. Я помню если не сотни, то многие десятки книжек, которые мне в те годы купили. И которые не купили, пропустили, опоздали. И потом их приходилось искать для прочтения у знакомых. Или пересказывать своими словами, как пересказывала мне мама «Снежную королеву», которую удачливая сослуживица предоставила ей в обеденный перерыв.
Это действительно было время бума детской литературы? Или это моя фантазия? Или это результат нашего ежедневства? Но уже через год мой «подвал» в этажерке был забит отлично иллюстрированными стихами Чуковского, Маршака, Михалкова, Барто. Тут и «Человек рассеянный», и «Сказка о глупом мышонке», «Бармалей», «Путаница», «Доктор Айболит», «Игрушки», «Дядя Степа». А через два-три года – толстенькие, в переплёте, – их же «Избранное». Однако любая из этих покупок – момент удачи. Непременным же, каждодневным событием было приобретение книжечки из специальной детской серии, которые вылетали из типографий, как конфетти из ёлочных хлопушек: много, непрерывно, а главное, баснословно дёшево, доступно любому, самому скромному карману (копеек пять-десять) и удивительно разнообразно по жанру, по стилю, по содержанию. Просто гвозди от всех стен: из дворцов, из хижин и даже из юрт и чумов (если в них пользуются гвоздями). Вот вам навскидку несколько названий из самой массовой серии «Книга за книгой» (тоненькая тетрадочка в двадцать-тридцать страниц, рассказ или крошечная повесть для детей от семи до десяти лет). Вспоминаю из тех, что поселились в нашей квартире: «Ванька» и «Каштанка» Чехова, «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, «Тёма и Жучка» Гарина-Михайловского, «Белый пудель» Куприна, «Дед Архип и Лёнька» Горького. Сплошные русские классики о жизни детей в проклятом прошлом. «Тёма и Жучка», впрочем, скорее психологический этюд, чем социальный. Зато сугубо пролетарскими настроениями проникнут отрывок из другой книги, из «Рождённых бурей»; под названием «Гудок». «Книга за книгой» опубликовала историю с Андреем Птахой и его братишкой. Эпизодам гражданской войны посвящён «Агитмедведь особого отряда» Кассиля. Но и зарубежные авторы не были забыты. Через эту серию я познакомилась с Гюго – конечно, «Гаврош» и «Козетта», с Джеком Лондоном – «Рыжий волк». И, между прочим, с прекрасными авторами, которые только тогда у нас и промелькнули: «Нелло и Патраш» Уйды и две главы из повести «Сердце» Эдмондо де Амичиса. Обе эти книжки так затронули мои чувства, что я запомнила не только содержание рассказов и их названия, но и фамилии авторов. И потом уже подросшей и даже взрослой библиофилкой искала и сведения о писателях, и их книги. Об Эдмондо де Амичисе узнала довольно много. Может быть, благодаря тому, что его повесть «Учительница для взрослых» послужила сначала основой для киносценария Маяковского и либретто к балету «Барышня и хулиган», а потом канвой фильма «Весна на Заречной улице». Но и «Сердце» в конце концов у нас перевели и издали полностью. Дважды. В первый раз – в 58-м году в Москве. В оттепель я ее отхватила для детей, которых пока не было (даже мужа не намечалось), но я уже куда-то слала бланки-заказы «Книга почтой». Во второй раз, выпасая внуков в 93-м, я налетела на «Сердце», изданное в Ленинграде, в магазине, комплектующем библиотеки. И купила не то 10, не то 15 экземпляров, чуть ли не на четверть семейного бюджета. И оделила не только всех внуков собственных, но дружественных, чем горжусь и поныне. А вот Уйда так и осталась в моем представлении автором единственной книжечки из вышеупомянутой серии. Правда, появлялась она в моей жизни трижды. Первый раз году в тридцать седьмом. Читала мне её бабушка. Погружаясь в трогательную историю дружбу мальчика и собаки, мы обе испытали много добрых и грустных чувств. Кто сказал, что сентиментальность – это плохо? Это, прежде всего, необходимо, чтобы душа, сердце учились чувствовать (не зря же во французском эти слова однозвучны). У дошкольника весь организм активно растёт, формируется: скелет, мозг, мышцы, зубы… Поэтому как раз такая повышенная, открытая, откровенная чувствительность, если её вовремя пролить на детскую душу в достаточном количестве, подействует благотворно. И не бойтесь переборщить. Не опасайтесь передозы. Излишки сентиментальности быстро отожмёт, оторвёт прессом повседневности. Потом всю жизнь будешь в себе раскапывать её крохи…
Так что чувствительный рассказ Уйды пришёлся весьма кстати. Впрочем, ведь и «Гуттаперчевый мальчик», и «Янко-музыкант» Сенкевича, те же «Ванька», «Дед Архип и Лёнька» – все они взяты из того кармана писательской души, в котором хранятся сантименты.
Второй раз Уйда попалась мне в руки тоже в тридцатые, но уже с двумя рассказами. Под одной обложкой с историей о Нелло и Патраше соединили новеллу о маленькой дочери итальянского революционера. В ней акцент падал уже на такие качества юной героини, как верность, мужество. И тоже всё достаточно романтизировано, педалировано, чтоб доходило до моего возраста. Так вот – выбор этого автора я считаю большой заслугой составителей серии «Книга за книгой». Потому что имя Уйды не только в моей памяти удержалось, но декларировалось мною уже во взрослые годы, как образец детской литературы. Я взахлеб рассказывала об этой книжечке молодым вроде меня, а потом – уже моложе меня – мамам; пыталась пересказать истории (особенно «Нелло и Патраш») своим и чужим детям. Но по-прежнему ничего не знала о писательнице и не знала, где взять книжку. И вдруг, чуть ли не в девяностые годы – кто? почему? – издал эти два рассказа. И вроде бы в той же серии «Книга за книгой». Она ещё существовала? Или я просто ухватила на развале довоенное издание? И была счастлива! И читала рассказы Уйды уже внукам. Но когда подросли правнуки (первый родился в 2008 году, значит, к 2013-му) книжка из моего дома опять исчезла и, кажется, безвозвратно. Хотя есть у меня один хитрый план её возрождения. Попробую. Но интересно другое. Буквально на днях, из того самого охаянного, отброшенного мной интернета, заказав в нём справку, я получила исчерпывающие сведения о таинственной незнакомке моего детства – Уйде. Оказалось, что это – очень плодовитая и, наверное, в своё время известная писательница. Уйда – не странная фамилия, а псевдоним Марии Луизы де ла Раме, образованный из ее детской клички, когда ей не удавалось выговорить свое имя (Луиза – Уиза – Уида – Уйда). Родилась Уйда в 1839 году в Англии (отец – француз, мать – англичанка). Жила преимущественно в Лондоне, последние годы – в Италии, где и скончалась в 1908 году. Написала более сорока (!) авантюрно-сентиментальных романов, которые автор справки характеризует так: «С точки зрения чисто литературной критики и по соображениям морали и вкуса романы Уйды могут быть осуждены». Смысл реплики мне не совсем понятен. Насчет погрешностей вкуса – я могу сделать предположения. А мораль каким образом нарушена? Излишняя фривольность, натурализм? Не похоже, не вяжется с другими фактами биографии писательницы. Во-первых, Уйда была активисткой борьбы за права животных (ей даже памятник во Флоренции поставили с акцентом на этот момент её жизни). Во-вторых, кроме романов был у Уйды ещё более любимый жанр – литература для детей. Она регулярно писала для них рассказы, выпуская сборник за сборником. Кроме того, оценка творчества Уйды, опубликованная в интернете, противоречит реплике Джека Лондона, который в интервью заявил, что одним из важнейших факторов, подтолкнувших его к писательству, стал роман Уйды «Signa», прочитанный им в восемь лет. Впрочем, в конце своей рецензии автор одобрительно отозвался о романах «Мотыльки» и «Под двумя флагами».
Вот, пожалуй, и всё, что я извлекла из интернета. Но и это уже достижение! О скромном месте Уйды в мировой литературе я догадывалась. Ведь кого только не вытащили из небытия сегодняшние издатели, а вот Марию Луизу де ла Раме обошли. Зато в моей жизни она свой след оставила. Пусть не такой, как в жизни Джека Лондона (в эту сторону меня увлекли другие авторы). Но в формировании моего внутреннего мира… И опять поклон в сторону создателей серии «Книга за книгой». Какой инстинкт или удивительное знание необъятного поля мировой литературы помогли им вырвать из громадного объема книг Уйды этот крошечный шедевр. Впрочем, жемчужное зерно так или иначе отыскивается. И даже не одной персоной, а многими. К истории о дружбе мальчика и собаки не только сама Уйда обращалась несколько раз, меняя жанр, увеличивая объём, но и киносценаристы, и японские аниматоры. В интернете это парой строк упомянуто. И название ремейков – «Собачье сердце», «Фландрийский пёс». И какие-то комбинации имён главных героев.
Но я возвращаюсь к неоконченной фразе: «В формировании моего внутреннего мира… роль Уйды неоценима». А сегодня она ещё даёт повод вернуться к разговору об интернете. Вот его истинное место в мировой культуре: безотказный, сверхэнциклопедический справочник; словарь, объясняющий значение всех – старинных и суперновых – слов и выражений; корректор, выправляющий все ошибки. Однако ни тот, что занимал когда-то целую стену, ни тот, что помещается сейчас на столе, на колене, на ладони, не мог и не может породить столько чувств в прошлом, столько воспоминаний в настоящем, столько черт в моей личности, сколько вызвала к жизни эта крошечная книжечка «Нелло и Патраш».
Теперь вернёмся в тридцатые, новобытовские годы, в КОГИЗ, и пороемся с бабушкой в ещё более пёстрой и почти ежедневно пополняемой серии книжек для малышей. Действительно, для самых маленьких. Это и названием серии подчеркивается «Книжки-малышки», и фактическим размером – с мою ладонь, и яркостью обложек, обилием иллюстраций – на половине страниц. А остальные страницы – всегда рифмованные. Поэтому они прочитываются залпом, запоминаются сходу, целыми книжками. И такими смешными, звонкими, как про котяток, которые потеряли перчатки (перевод с английского Маршака), и такими серьёзными, требовательными, как михалковские «Жили три друга-товарища в маленьком городе N» – про гражданскую войну в Испании. Мы до сих пор выясняем с подругой, кому правильно подсказывает память – мне («Не о чем нам разговаривать», – так он фашистам сказал») или ей («Не о чем нам разговаривать», – он перед смертью сказал»). Я думаю, мы обе правы. Скорее всего, Михалков сам менял текст, в зависимости от времени публикации – до подписания акта Молотова – Риббентропа или после. Ещё помнится, я всегда радовалась появлению в КОГИЗе книжек про зверушек. Животных я любила. Хотя вблизи с ними не сталкивалась, но зато в книжках! Котята, которые теряли перчатки, сорок четыре веселых чижа, белый пудель, лев и собачка, их нежная любовь, глупый мышонок и его ещё более несообразительная мать – это всё был мир, внушающий доверие и нуждающийся в моем покровительстве. Хотя уже приходили со страниц книжек животные, у которых можно было чему-то поучиться, над чем-то подумать. Например, Рваное Ушко и его мама-крольчиха Молли. А тем более – Королевская Аналостанка. Это Сетон-Томпсон мне о них рассказал. А ещё были милые, со славными картинками, зарисовки о зверятах Чарушина и Бианки, типа «Никита и его друзья». И замечательный «Воробьишко» Горького. Но удивительно другое. Эти простенькие истории знакомили меня с окружающим миром, развивали добрые чувства, но и обогащали мою лексику. Ну, не в четыре года, конечно, но уже лет в шесть, когда я хотела остроумно и кратко объяснить собеседнику, что инцидент обошелся малой кровью, то говорила, что «все окончилось благополучно, если не считать, что мама осталась без хвоста». Этим афоризмом любимого моего Алексея Максимовича я до сих пор пользуюсь.
Но ведь и другое важно: вот это рассматривание, перелистывание страниц, прикасание, ощупывание, откладывание… И наконец – выбор, решение, покупка – одной или даже двух из предложенного десятка. Это ведь тоже формирование личности, её потребностей, интересов. Мне кажется, что у четырех-пятилетнего ребенка, который ежедневно приходит в книжный магазин, чтобы выбрать и купить книжку, и у ребёнка, который два-три раза в неделю ходит с мамой в бутик или косметический салон (даже если в ожидании, пока маман освободится, он разглядывает глянцевые журналы), вырабатывается разное представление о жизненных ценностях.
Но вот наконец-то мы (или все-таки решала бабушка?) сделали выбор. Покупка оплачена. С пустыми руками из КОГИЗа мы не уходили ни разу. И если новую книжку несли в бабушкиной сумке, то предвкушение удовольствия, которое так украшает жизнь человека, разгоралось в моем сердце? душе? Не важно, в каком вместилище горит это чувство, но именно оно делает нас счастливыми. А я испытывала его ежедневно благодаря посещению КОГИЗа. Как ощущала там всегда и необходимый хорошему читателю инстинкт охотника. На книгу?.. За книгой?.. Но была ещё одна особенность в моей читательской биографии. Все эти навыки, чувства, инстинкты во мне развивались, формировались одновременно, параллельно с овладением азбукой.
Да, да… Как раз в эти первые новобытовские не дни, конечно, но если не недели, то месяцы – точно, ещё в неустаканенной обстановке, в нехватке необходимых вещей, с окнами без занавесок (бабушка их делала сама из марли, мережила и туго крахмалила), с раскладушкой Юрия, торчащей в углу вверх козлами, мы с ним выкладываем на стол листы картона, и дядя режет их на хорошенькие квадратики, а бабушка подсовывает нам какую-то коробочку для их хранения. Но я категорически против. Я рассыпаю эту массу по всему столу, все тридцать три картинки (это сегодня я знаю, что их тридцать три). И любуюсь аппетитно нарезанным арбузом, четырехцветным мячиком, широкополой шляпой, встопорщенным ёжиком. А Юрик приговаривает, в зависимости от того, какую картинку я схватила: «Мячик – ммм, ель – е, а ёжик – ё; видишь – две точки…» А уже несколько дней спустя я вижу себя складывающей два мяча и два арбуза в коротенькую строчку (значит, листов картона было несколько, а квадратиков больше, чем тридцать три; или рисунки помещались и на обратной стороне). Поглядывая искоса на сидящую рядом бабушку (так? правильно?), я тяну:
– Ммма-ммма – мама!
Сколько длились эти забавы (я их воспринимала, как игры, развлечения, а не учёбу, не труд)? Но, по-моему, уже через месяц я читала по складам «Игрушки» Агнии Барто:
– И-дёт бы-чок ка-ча-ет-ся; у-ро-ни-ли миш-ку на-пол; сспит сспо-кой-но сста-рый-сслон…
А потом и «Азбуку» Льва Толстого (особенно назойливо мне втемяшивали историю про съеденную без разрешения сливу). Бабушка всё приговаривала:
– Запомни, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Тексты все усложнялись, новые возникали чуть не каждый день. Простенькие книжки я уже читала в гордом одиночестве, без бабушкиного или дядиного (реже – маминого) участия. И, наконец, такие длинные, как «Сказка о глупом мышонке». И уже в КОГИЗе могла выбрать покупку не по картинке, а прочитав название или несколько строчек текста. Лучше всего – рифмованного. А через полгода (год?) дошло до того, что в нашем домашнем театре под названием «Чтение» амплуа полностью переменились.
Когда театр открылся, в нем участвовал «главный режиссер» – кто-то из взрослых – и начинающий, спотыкающийся актер – я. Время прошло, но хотя число персонажей осталось тем же, я превратилась в приму, солистку, звезду, которая ни в партнёрах, ни в суфлерах, ни даже в режиссёрах не нуждалась. Я довольно бойко, без запинки, почти выразительно читала вслух любые стихи Чуковского, Маршака, Михалкова, недлинные прозаические тексты, вроде «Тёмы и Жучки», купринского «Слона» (нет, в этом рассказе есть некоторые длинноты, отвлечённые рассуждения, вряд ли он подходил для триумфа). Впрочем, успех был мне в любой ситуации обеспечен. Ведь вторая роль при новом раскладе была «зритель». Вернее «слушатель». Исполняла её сплошь и рядом бабушка. Причём слушателем она была не только доброжелательным, но и кровно заинтересованным. От наших «спектаклей» она получала сплошное удовольствие. Сценарий разыгрывался такой: бабушка в столовой занималась неотложными хозяйственными делами: вытирала пыль, перебирала гречневую крупу, нарезала лапшу, лепила пельмени. А я, забравшись с ногами на кушетку (уже купили Юрию вместо раскладушки, время дивана ещё впереди), читала вслух новую книжку. Содержание которой бабушке, как и мне, было неизвестно и поэтому не менее интересно. Которую мы с ней сегодня утром, ну в крайнем случае вчера, купили в КОГИЗе… Я к чему в десятый раз возвращаюсь? Что новобытовский период был важнейшим, главнейшим, когда происходило превращение меня из гомо сапиенс в представителя особого этноса, называемого «читатель».
К термину «этнос» я ещё вернусь и постараюсь расшифровать его более полно и точно. Сейчас – о некоторых особенностях, которыми отличается «профессиональный читатель» от остального человечества, от других… классов, типов, содружеств. В частности – от потребителей интернета. Но зато объединяется с профессионалами из мира искусств: художниками, скульпторами, архитекторами.
Последние погружены в свою профессию не только за счёт образования. Их влечёт к творчеству особый психологический, физиологический склад (то, что называется призванием). Художника волнует, возбуждает запах краски, разнообразие палитры, удачное освещение. Скульптора – податливость или сопротивление материала, уникальность модели. Архитектора – ландшафт вокруг будущего здания. Со всем этим люди творческих профессий вступают в контакт силой всех пяти чувств. То же самое происходит у читателя.
В таком раннем возрасте я была подключена к книгам, к чтению всеми чувствами. Невиданно расширился зрительский кругозор. Если раньше он включал пять-десять книг, которые я видела в нашем доме, то теперь их количество увеличилось в несколько раз. Но главное – эти походы с бабушкой в КОГИЗ, которые открыли мне всю громадность, неисчерпаемость книжного мира (а ведь через некоторое время мы освоили и другие источники чтения). Кроме того, переварить эти зрительные впечатления, оформить в понятия, внедрить их в сознание помогали и чисто тактильные ощущения.
Если я до сих пор помню тяжесть «Конька-Горбунка», передаваемого дяде, невесомое шелестение страниц книжонки про «очаг», щелканье картонной обложки «Приключения Макарки», ветерок, когда журнал «Еж» выскакивает из-за пазухи Юрия, то сколько ощущений испытала я, когда, снятые с полок или вынутые из-под стекла прилавка, попадали к нам с бабушкой одна за другой вновь поступившие книги. И вот они высятся целой стопкой. И мы их рассматриваем снаружи, листаем, бабушка что-то резюмирует, откладывает. Я тоже обязательно норовлю не только заглянуть, но и потрогать… И, наконец, получаю в полное владение… Но и тут радость разная: одно дело – книжка-малышка или даже «Козетта» и совсем другое – увесистые, рыжего (золотого!) цвета «Приключения Буратино». От большой, толстой книжки и впечатлений ожидаешь больше, а главное – необычнее. Тем более разгорается любопытство, подстёгивает нетерпение: скорей, скорей домой, узнать про что там, про кого?
А бабушке, видите ли, приспичило зайти в «Маслопром», да ещё стать в очередь за сыром… А я (даже картинку эту представляю в деталях) присела в углу магазина возле стойки с сифонами молочных коктейлей (а не путаю я насчет коктейлей с шестидесятым годом? Но был же какой-то тихий закуток? Окошечко администратора?). Главное – я сижу на корточках и жадно перелистываю только что купленный «Золотой ключик». Какой-то дядька схватил за нос какую-то странную фигурку… Птичку, наверное… Скорей бы узнать – в чём дело?.. И действительно, уже в этот же день прочитала мне бабушка вступительное слово Алексея Толстого… И про ссору папы Карло и Джузеппе… И описание знаменитой каморки. А странное существо оказалось деревянным мальчиком с длинным носом. В дальнейшем книгу читали вслух все члены нашего семейства, включая меня. Всех она увлекала. Взрослые, пропустившие какие-то куски, спешили подравняться вечером (а может, и ночью, которая у меня начиналась в двадцать ноль-ноль). За две недели мы с «Золотым ключиком» управились, но обсуждали долго, перечитывали отдельные главы, пользовались цитатами («пациент скорее мертв, чем жив», «страна дураков», «девочка с голубыми волосами» – про какую-то красивую знакомую). А ещё помню, как в гостях у Гольдштейнов (о них позже) мама расхваливает «Приключения Буратино» и предлагает взять у нас почитать.
Между прочим, раз я рассматривала книжку в «Маслопроме», значит наступил сороковой – год его открытия. И я уже свободно читала. И наши с бабушкой книжные набеги выглядели несколько по-другому. «Книжками-малышками» и «Книга за книгой» мы уже явно не интересовались – разве что-нибудь экстраординарное… Однако, кроме покупки «Золотого ключика», я не представляю момента приобретения «Детства Никиты», «Детства Тёмы», «Доктора Айболита» (по Гью Лофтингу), «Путешествие Нильса с дикими гусями», А между тем все эти книжки уже в нашем доме были. И на моей этажерке стояли. Уже прочитанные. С этим задержки не случалось. Приступали в тот же день. Может, такие классические бренды, как «Детство Тёмы» или сенсационную новинку, сотворенную Чуковским из Гью Лофтинга, покупали в свое время, в своем месте мама или Юрий? Из маминых рук я получила как раз несколько таких ярких, знаковых книг.
Приехав в тридцать восьмом в Хреновое (село под Воронежем, где мы с бабушкой проводили лето), мама привезла большую, нарядную книгу стихов Квитко «В гости». И мы с фланелевым одеялом отправились в лес, почитать в тени сосен «про Кисаньку – про милую мою», про бабку Мирл, «про таких птиц, с такими носами». И, конечно, повесть Белы Балаша «Генрих начинает борьбу», которую мы читали с ней по очереди (пять страниц – она, одну – я) по воскресеньям чуть не месяц, тоже купила мама. И, по-моему, громадный сборник сказок Андерсена. Ещё такие же нарядные, большие, но потоньше «Калмыцкие сказки» и «Черногорские сказки». Андерсен был вне всякой конкуренции, особенно «Дикие лебеди». Но в «Черногорских» мне очень нравились истории про виллис.
Юрий же, отслужив армию (не совсем удачно), отболев, поступив на истфак, продолжал пополнять теперь главным образом свою библиотеку. Его интересовали местные авторы, о которых, вероятно, шли разговоры в пединституте. И «Повесть о детстве» Штительмана, и «Ковёр-самолёт» Кофанова, и «Академик Плющов» Закруткина, и «Волшебная шкатулка» Василенко, конечно, были куплены им. Но они уже и мне оказались интересны и доступны. Особенно «Повесть о детстве» и «Волшебная шкатулка». О! И «Первый ученик» Яковлева. Но и «Ковёр-самолёт», и «Академик Плющов» были прочитаны с некоторой растяжкой, зато в совершенном одиночестве, для себя, «про себя», для собственного… чего? Слово «удовольствие» не подходит. Интереса? Познания мира? Человеческих отношений (между мачехой и пасынком)? Мировой истории (раскопки Трои)? Впрочем, всё равно дядя и о моей персоне не забывал. Книжка детгизовская «О Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий» Маяковского была куплена специально для меня. Тогда же, кажется, обратил он мое внимание в томике Оскара Уайльда на «Кентервильское привидение» и «Преступление лорда Артура Сэвила».
И всё-таки я неправильно резюмировала, что наши с бабушкой визиты в книжный перестали быть регулярными. Просто возросшие с течением времени и с моим развитием наши претензии все трудней было удовлетворять. На каждодневные покупки издательской мощи не хватило. Правда, через некоторое время продавцы стали предлагать нам вместо отвергнутых малышковых серий тоже интересный выпуск под грифом «Рассказы зарубежный писателей». Вот это как раз были идеальные тексты для описанной мною схемы: бабушка выполняет мелкие хозяйственные обязанности, а я читаю «Голубой карбункул» Конан-Дойла, «Маленького старателя» Брета Гарта, «Историю дяди торгового агента» Диккенса, «Ванину Ванини» Стендаля. И наконец – море восторга! – «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» Гофмана. Опять низкий поклон составителям этой серии! С каким вкусом, с каким знанием психологии подростка выбраны рассказы. Но и с каким уважением к мировой литературе. Ведь именно тогда, в шесть-семь лет, я впервые услышала эти великие имена, познакомилась с их сюжетами. Запомнила. Сберегла в памяти в ожидании встречи с «Пляшущими человечками» и «Пёстрой лентой», «Счастьем Ревущего Стана» и «Найдёнышем», «Красным и чёрным» и «Пармской обителью». А главное – с «Рассуждениями кота Мура» и полными «Серапионовыми братьями». Вот только рассказ Диккенса не произвел на меня никакого впечатления. Более того – я не запомнила его содержания. Между тем наша великая встреча с Диккенсом ещё предстояла!
Но, между прочим, бабушка, как и я, не хотела возвращаться домой из КОГИЗа с пустыми руками. Конечно, книги, купленные дядей и мамой, мы с ней прочитывали охотно, с удовольствием. Но, может, у её литературных вкусов, интересов были некоторые особенности? И вот через пару нововбытовских лет у нас появился ещё один библиофильский маршрут. Совершив необходимые продуктовые покупки, посетив безуспешно КОГИЗ (или вообще не заходя в него), мы переходили на противоположную сторону Энгельса (Большой Садовой) и, миновав строившийся (или уже построенный) «Маслопром», заходили в красивое высокое дореволюционное здание (потом узнала – дом купца Сариева). Кажется, четырёхэтажное. Но нам достаточно было подняться на второй этаж. Правда, по очень крутой, да и ещё и с поворотом, и вообще какой-то небезопасной лестнице. А может, всё это были мои фантазии, окрашивающие походы в «другой» магазин неким романтическим светом. Вернее – сумраком. Здесь действительно не было ни громадных окон КОГИЗа, ни его ярких ламп, ни духа нарядности, новизны, исходившего от книжек. Зато была таинственность в их расположении, в их подержанности, в неожиданности их появления на прилавке не только для нас с бабушкой, но даже для продавщицы: «Ой! А вот посмотрите, что я нашла!» – вскрикивала она. Да и продавщица тут выглядела по-другому: менее нарядно, менее торжественно.
Не знаю, когда я осознала, что мы посещаем особый, букинистический магазин. Слово это, наверное, не произносилось, а то бы я об него споткнулась и запомнила. В последующие двадцать лет мы с бабушкой не раз обсуждали наше прошлое, но почему-то ни разу про эти походы на второй этаж дома Сариева не говорили. А между тем, там были куплены несколько любопытных книжек, которые вносят какой-то штрих в бабушкины пристрастия. Или свидетельствуют о том, что жизнь без ежедневного чтения была для нас обеих смерти подобна? (Слегка сгущаю краски.)
Вот именно там мы купили «Пимокаты с Алтайских» и прочли, сначала чередуясь с бабушкой. Но через какое-то время, все ещё в тридцатые, довоенные годы, я её упоённо перечитывала, про себя, для себя. Что уж так меня увлекло в истории первых пионерских организаций в Барнауле? Лёгкий, ясный язык повести? Искреннее волнение автора? Или моя собственная абсолютная совковость, эта беззаветная преданность всем идеологическим штампам, по которой я в четыре года без запинки перечисляла фамилии всех летчиков, спасавших челюскинцев, в пять, сидя на горшке, сочиняла под траурную музыку из репродуктора стихи: «Прощай, Серго, прощай, Серго Орджоникидзе!», в семь – писала героическую балладу:
Просыпалось солнце рано,
Умывалось в речке.
Шли на водопой бараны,
А за ними овечки.
Вместе с солнцем бойцы подымались,
Подымались, в поход собирались!
Ой, вы кони удалые, домчитесь до речки,
А там и переправимся, не дадим осечки.
Слышен топот конский
По степи каленой…
Ты прощай, боец-товарищ,
В бою закалённый!
(Ну, как? Узнаете влияние Лебедева-Кумача?)
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе