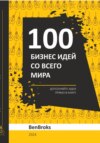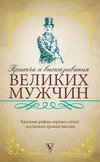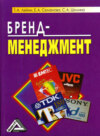Читать книгу: «Мифологемы. Том 1. Громовержец и Змей», страница 7
Психические доноры. Архетипы
Итак, исторические доноры, представляющие какие-то реальные события, связаны с порождением определенных мифологем. Но не все мифологемы можно связать с такими событиями.
Если мы возьмем, к примеру, зооантропоморфные мифы, в которых действующими персонажами выступают животные, деревья и другие природные элементы, то сложно предположить, что такие мифы порождены историческими процессами. Скорее мы имеем дело с человеческой фантазией, ведь зачастую такие мифы ставят цель развлечь читателя, описать сюжеты вроде борьбы зла и добра или дать какие-то простые объяснения природным явлениям. Предполагается, что именно такие мифы порождены психическими мифами-донорами.
Итак, психические доноры представляют собой результат мыслительной деятельности человека, его творчества, отображения желаний, страхов, иного опыта. Условно к этим донорам можно отнести весь материал, не связанный с историческими донорами. При этом нельзя исключать, что психические доноры являются бессознательным отображением исторических событий или являются реакцией на них.
Если исторические доноры условно равнялись прототипам, то психических доноров можно отождествить уже с архетипами – своеобразными психологическими шаблонами, часто встречающимися в мифе. Архетипы выходят далеко за рамки мифологии и охватывают огромный пласт человеческой деятельности – культурной и психологической.
Название архетипа переводится с греческого как «первообраз», подразумевая его как некий цельный мыслительный элемент. Существует много версий происхождения архетипов – они разными авторами указываются порожденными самой природой или Богом в связи с их универсальностью и масштабностью преимущественно для всей человеческой цивилизации. В данном вопросе не будем сильно углубляться в эти механизмы. Отметим лишь, что архетипы представляют информационные материалы-шаблоны, порожденные сознательными или бессознательными процессами внутри человека.
Рассмотрим несколько примеров таких архетипов. Нередко архетип отображал культуру народа, ритуалы, представления о мире и вселенной. Так Ананси, культурный герой африканского народа аканов, являлся своеобразным воплощением традиций племени. Ананси умел перевоплощаться в паука, общался напрямую с богами, а также совершал различные подвиги.
При этом Ананси воплощал те человеческие качества, которые, вероятно, поощрялись в племени аканов – хитрость, изворотливость, обман[50]. Можно сказать, что Ананси представлял некий психологический и культурный портрет народа, являлся его идеализированным отображением.
Нередко образы и персонажи мифов являлись персонификацией сил природы. Древние люди не могли объяснить все природные явления и наделяли их сверхъестественной силой. Солнце, луна, звезды, ветер, животные – каждому явлению человек уделял пристальное внимание, наделяя определенными свойствами. И, как следствие, мы получали очередные архетипы.
Эти архетипы зачастую наделялись и дополнительными свойствами – они, как и человек, могли общаться, гневаться, испытывать в чем-то нужду. К примеру, гневный бог Энлиль ассоциировался у шумеров с воздушными стихиями – ветром и бурей, этого бога пытались умилостивить и задобрить. Другой бог – мудрый Энки – уже олицетворял водную стихию, более спокойную и дающую благо, и считался заступником людей.
Энлиль и Энки отображали природные стихии, от которых зависела жизнь жителя древней Месопотамии, и эти стихии пытались умилостивить через первые культы. Архетипы этих божеств и в дальнейшем распространялись в мифологии.
Так библейский бог Яхве, возможно, являлся суммарным реципиентом обоих архетипов, воплощая как милостивую, так и гневную природу – эта особенность раскрывается в мифе о Всемирном потопе, о котором мы поговорим.
Вероятным архетипом была популярная богиня Инанна, воплощающая у большинства древних народов образ Богини-Матери. Возможно, в древности существовали определенные представления о матери, необходимость в ее заступничестве, которые и воплотились в соответствующей богине. Богиню так же могли связывать и с плодородием, и с деторождением и другими явлениями.
Так или иначе, Инанна была достаточно востребованной богиней, и в дальнейшем была потеснена богиней любви Иштар. Эта богиня имела порочные стороны – в ряде мифов ей приписывали борьбу за власть, воинственные навыки, блудный образ жизни и многое другое. Иштар получила большее распространение и, по одной версии, была ответвлением Инанны.
Практически каждая культура имела тот или иной реципиент, связанный с ее образом. Египетская Исида, финикийская Астарта, хеттская Шавушка, греческая Афродита и Мария Магдалина (составляющая компанию христианскому реципиенту Богини-Матери – Деве Марии) – все эти не похожие друг на друга персонажи и богини являлись образными трансформациями единого лика. По всей видимости, даже утрата популярности Иштар создала определенный вакуум, который потребовалось заполнить ее копиями.
Вообще мифологемы и архетипы в целом являются схожими терминами. Оба этих понятия выступают некими элементами, лежащим в основе культурных произведений и образов. Но, как говорилось выше, мифологемы могут представлять последствия не только психических, но и исторических процессов.
На этом, пожалуй, закончим наш обзор архетипов. Следует отметить, что в нашем исследовании мы будем рассматривать мифы, преимущественно имеющие исторических доноров. Но это не значит, что мы будем игнорировать архетипы, наоборот, их понимание так же важно для исследования, чтобы понять, что лежит в основе того или иного мифа.
Семейство мифологем. Спутники-мифологемы
Итак, при исследовании того или иного мифа мы можем теоретически определить источники его происхождения, будь то исторические или психические доноры. Но прежде всего нам нужно понять, какие именно мифологемы относятся к тем или иным донорам.
Практика показывает, что донор нередко производит не одну, а целую плеяду мифологем. Эти мифологемы впоследствии вплетаются в различные мифические эпосы. В большинстве случаев мифы напоминают спутавшийся клубок, который надо аккуратно распутать.
Для того чтобы хоть как-то классифицировать мифологемы и отнести их к тому или иному донору, появилась необходимость в новом вспомогательном термине – семействе мифологем. Семейство мифологем – группа мифологем в определенном массиве мифа-реципиента, имеющая единого донора. Часто такие семейства находят свои ниши в крупных мифологических эпосах.
В большинстве массивов очертания семейств мифологем весьма размыты, что вдобавок осложнялось наличием трансформаций и различных погрешностей. В попытках идентифицировать такие группы мифологем приходилось нередко прибегать больше к интуиции, чем к логике.
Но все-таки какая-то опора была – каждое семейство обладало какой-либо яркой мифологемой, которая позволяла постепенно определять и остальные мифологемы семейства. Это была тонкая и кропотливая работа, сравнимая с составлением сложного пазла. По мере складывания элементов пазла все лучше вырисовывалась общая картина, а дальнейшая работа становилась все легче.
Определение «границ» семейства мифологем происходило и с помощью мифотипа – условного персонажа, представляющего такое семейство. О мифотипе мы поговорим в следующих главах.
При исследовании семейств мифологем была так же выявлена некоторая особенность – многие мифологемы имели своеобразных «спутников», с которыми часто находились «в связке» – т.е. в определенной хронологической близости в рамках мифа. Эти мифологемы были так и названы – спутники-мифологемы, и в большинстве случаев относились к одному семейству, хотя встречались и исключения.
Спутники-мифологемы оказались достаточно значимым феноменом исследования. Их обнаружение всегда ставило задачу – являются они представителем одного семейства или нет. Неверная их идентификация могла затруднить поиск донора. Нередко попадались огромные семейства мифологем, восходящих к единому донору – все они изначально выступали как спутники, и оседали в сравниваемых мифах целыми группами. Но бывали и исключения.
Примеры спутников-мифологем можно обнаружить в братоубийственных мифах. Армянский миф о братьях, о Санасаре и Багдасаре, содержит сцены их конфликта, где Санасар едва не убивает брата. Аналогичную картину мы видим в осетинском мифе, где подобный конфликт братьев Ахсара и Ахсартага едва не заканчивается гибелью одного из них. Такой же конфликт мы видим в Рамаяне между Балией и Сугривой, после которого Балия гибнет.
При этом во всех перечисленных мифах мы видим интересную деталь – накануне братоубийственного конфликта старший брат погружается в некий нижний или подводный мир, зачастую преследуя противника. Из этого нижнего мира старший брат возвращается не один, а нередко с невестой.
Так Санасар попадает в подводное царство духов-каджей и женится на их царевне. Аналогично Ахсартаг попадает на морское дно в поиске голубки, похищающей яблоки из его сада, и обнаруживает там девушку, в которую эта голубка и превратилась. Балия отправляется уничтожить волшебного буйвола и преследует его до подземной пещеры, в которой и пропал. Сугрива счел Балию погибшим и присвоил жену брата – нередко именно конфликты из-за невесты зачастую приводили к братоубийству.
Таким образом, мы видим, что мифологема братоубийства в мифах нередко соседствует с мифологемой похода в нижний мир. Это и есть пример спутника-мифологемы. Нередко такие мифологемы не узнаваемы из-за различных трансформаций, но так или иначе можно наблюдать какую-то закономерность.
Впрочем, как говорилось, не всегда спутники-мифологемы относятся к одному и тому же донору, что и рассматриваемая мифологема. Это лишь повышает ее вероятность на определенное донорство, но не более. Зачастую союз мифологем-спутников от разных доноров объяснялся одной причиной – донорские события происходили приблизительно в одном и том же временном интервале, как правило, с разницей не более 200–300 лет.
Например, мифологема всемирного потопа часто соседствует с мифологемой противостояния богов и великанов – об этих мифологемах мы поговорим подробнее в следующих главах. Предполагаемые доноры этих мифологем находились как минимум за столетие друг от друга.
Мифотип
Изучение семейств мифологем также привело к необходимости формирования некого «опорного пункта», с которым часто эти мифологемы связывались. Речь идет о некоем условном персонаже мифа, который становится представителем мифологем определенного семейства – сюжетных, ролевых и т.д.
Анализ такого персонажа стал весьма важным для исследования и для него потребовался отдельный термин. Впрочем, такой термин уже существовал, хоть и так же требовал небольшой переработки. Речь идет о мифотипе.
Как говорилось ранее, для данной книги был несколько переосмыслен термин мифологемы Юнга – мифологема была представлена уже не универсальным элементом мифа, а своеобразной информационного единицей, слагающей миф. В подобном переосмыслении нуждался и мифотип.
Термин мифотипа обычно связывается с работами австрийского психоаналитика Отто Ранка и британского антрополога Фицроя Ричарда Сомерсета, называемого также Бароном Регланом. И Ранк, и Реглан постарались создать некие модели стереотипного героя мифа.
Модель Ранка представляла собой стереотипного героя мифа, жизнь которого состояла из двенадцати ступеней-паттернов, т.е. по сути мифологем. Тут и мифологема знатного ребенка, и мифологема пророчества, препятствующая рождению героя, и многое другое. В своей модели Отто Ранк пытался проанализировать миф как систему взаимоотношения героя и его родителей.
Аналогичную модель строил и Барон Реглан. Его модель уже состояла из 22 мифологем, среди которых были, к примеру, мифологема девственной матери или мифологема победы над каким-то страшным антагонистом. Так или иначе, в сравнительной мифологии появился своеобразный термин – мифотип Ранка-Реглана, представляющая стереотипную модель героя мифа, подчиненного некому набору распространенных мифологем[51] [52].
Хочется отметить, что работа Ранка «Миф о рождении героя» во многом предшествовала моей книге. Так получилось, что я познакомился с этим трудом уже завершив основной этап своих исследований. И в процессе чтения с книгой Ранка, я убедился, что лишь продолжаю и развиваю работу столетней давности.
Термин мифотипа достаточно близок к моему пониманию модели персонажа, связанной с семейством мифологем, поэтому я несколько доработаю данный термин. В моем понимании мифотип будет являться представителем конкретного семейства мифологем, их условным срезом. Именно мифотипы станут главными «героями» данной книги, и именно с них зачастую начнется изучение тех или иных мифологем.
Мифотип можно было бы назвать архетипом или стереотипом. Между этими терминами действительно много общего. Ведь, на первый взгляд, мифотип как персонаж подчиняется каким-то законам, совершает стереотипные подвиги – скажем, спасает девушку от дракона, побеждает злобного короля или рыцаря и т.д. Но все же мифотип отличается от архетипа, он более динамичен и непостоянен, поскольку проходит значительную трансформацию в процессе изучения.
Позднее мы убедимся, что черты одного и того же мифотипа просматриваются в совершенно разных мифах, на первый взгляд, не имеющих друг к другу отношения. Нередко черты персонажей различных мифов частично или полностью совпадают с мифотипом – его образ, сюжетная линия и многое другое, а иногда и отличаются от него. Точнее будет сказать, что мифотип строится из этих персонажей, при этом что-то добавляя или отсеивая лишнее.
Установление принадлежности тех или иных мифологем к мифотипу и его семейству – достаточно сложная задача. Этот поиск можно назвать классическим детективным расследованием, где сыщик приходит на место преступления и получает разные версии событий от свидетелей. Анализируя эти сведения, сыщик составляет вероятный портрет преступника, дополняя его какими-либо данными, отбраковывая лишние и постепенно определяя личность преступника.
То же самое и с мифотипом – изначально мы имеем примитивный стереотипный портрет, условную нестабильную модель, но по мере дальнейшего расследования мы все ближе движемся к личности, скрывающейся за портретом.
Изначально мифотип действительно может представлять собой примитивный архетип – скажем, Громовержец или Бог грозы, часто встречающийся в мировой мифологии, или воскресающее божество. Но на поздних стадиях изучения мифотип уже являет совершенно другую картину – из него удаляются мифологемы чужеродных семейств, а также появляются какие-то новые обнаруженные черты.
В большинстве случаев при изучении мифотипа требуется удалить из него внедренные мифологемы каких-то предшественников – также мифотипов. Мифологию можно сравнить со снежным комом, который катится и наращивается за счет новорожденных мифологем. В процессе этого появляются новые персонажи, которые «заражаются» мифологемами персонажей старых. И именно чистый мифотип должен характеризовать такого персонажа, очищенного от любых следов внедрения чужих мифологем.
По сути, в начале изучения мифотип представляет расплывчатую зыбкую массу, но в конце приобретает четко ограненную форму и ясные очертания. И то, такие очертания у мифотипа появляются не всегда, ведь в некоторых случаях донора установить невозможно.
Таким образом, условно можно выделить две стадии мифотипа – начальный мифотип и конечный мифотип. Начальный мифотип может быть «зараженным», включать в себя мифологемы чужеродных семейств и какие-то лишние признаки. Нередко начальный мифотип может представлять себя условный «коллектор» чужих мифологем, он может быть перегружен ими, в результате чего сложно определить изначальную историю мифотипа.
Конечный мифотип уже значительно очищен от этих внедрений, хотя нельзя говорить о 100% очистке. Ведь зачастую-то и донор не совсем известен, хотя именно благодаря конечному мифотипу мы можем сделать попытку его определить.
Нередко конечный мифотип становится практически полностью идентичным донору семейства мифологем. Тогда история мифотипа может не отличаться от истории прототипа.
Но зачастую мифотип сложен не одним прототипом, а целой группой прототипов, забирая от каждого из них какие-то мифологемы. Эта группа прототипов может существовать не одновременно, а в некоем временном интервале, длительность которого может составлять около 50 лет, а то и больше. Вдобавок такие прототипы могут быть географически удалены друг от друга и не контактировать. Поэтому тот суммарный сюжет, который получает мифотип из историй прототипов, может выглядеть оригинальным и заметно отличающимся от доноров.
Пожалуй, следует сказать, что без конкретных примеров мифотип останется не совсем ясным термином для читателя. Но в процессе исследования мы познаем изучение мифотипа на практике.
Альфа-мифы
Перейдем к следующему термину, который также имеет определенное значение.
Не секрет, что многие популярные мифологемы ассоциируются с каким-то конкретным мифом. Когда мы слышим историю о младенце, брошенном в реку, то сразу понимаем, что речь идет о библейском Моисее. Если мы слышим историю, где герой ослепляет одноглазого великана, мы уверены, что это Одиссей сражается с Полифемом. Когда мы слышим миф о герое, который умирает от раны в пяте, то предполагаем, что это греческий герой Ахилл.
Многие мифологемы словно становятся «визитными карточками» конкретных мифов, вызывают с ними ассоциации у большинства читателей. И когда мы узнаем, что эти мифологемы могут присутствовать и в других мифах, то обычно воспринимаем это как случайное совпадение или заимствование.
Например, мифологема младенца в реке встречается не только в истории Моисея, но и в истории индийского героя Карны. Как и мифологема ослепленного великана присутствует не только в мифе об Одиссее, но и в других мифах, где аналогично ослепляют великанов огузский герой Басат и осетинский герой Урызмаг. От раны в пяте умирает не только Ахилл, но и Кришна, и Диармайд – эти примеры мы уже упоминали.
Для неискушенного читателя такие обнаруженные совпадения могут остаться незамеченными или восприниматься как плагиат более известного мифа. Именно такие известные мифы зачастую и становятся стереотипным «владельцем» определенной мифологемы.
Но в реальности они представляют собой лишь более авторитетную версию мифа-реципиента, а оригинальным «владельцем» мифологемы, разумеется, является донор.
Взаимоотношения некоторых реципиентов одного семейства мифологем в культуре можно назвать конкурентными. Они соперничают между собой в популярности, пока не побеждает наиболее заметный и популярный реципиент. В тени этого влиятельного реципиента остаются как другие реципиенты этого семейства, так и сам донор. Именно этот влиятельный реципиент обозначим альфа-мифом.
Разумеется, каждая культура имеет свои альфа-мифы для конкретной мифологемы. В европейской культуре приоритет дается библейским сюжетам, в азиатской – мусульманским или индийским и т.д. В данной книге альфа-мифы рассматриваются с точки зрения христианской культуры, хотя, несомненно, это не совсем объективная точка зрения.
Альфа-миф оставляет глубокий след в той или иной культуре. Его влияние может усиливаться пропагандой, особенно при религиозно-политическом заимствовании. Альфа-миф может сакрализироваться, являть собой догму и непреложную истину.
В большинстве культур именно альфа-миф стереотипно воспринимается как донор, хотя в действительности их с донором можно назвать скорее антагонистами. Как правило, альфа-миф представляет собой наиболее трансформированный реципиент, значительно отличающийся от донора. Донор в этом случае выглядит пострадавшей жертвой плагиатора.
Впрочем, если бы в нашей культуре не наблюдалось такого заимствования, она была бы очень бедна и не получила бы должного развития. Зачастую культура выигрывает за счет такого плагиата – альфа-миф дает новые смыслы, глубину, философские подтексты и многое другое, чего был лишен источник. Каким бы был наш мир, если бы из него исчезли 90% мифов, поэм, религиозных текстов? Определенно, это была бы значимая утрата.
При культурном заимствовании альфа-миф представляет собой результат творческих усилий мифотворца. Какой-либо поэт вроде греческого поэта Гомера делает свой миф весомым и популярным за счет искусного языка рифмы и глубокого смысла. Так, скажем, «Илиада» или «Одиссея» становятся памятниками культуры и по-своему начинают заимствоваться авторами других мифов. Таким образом альфа-миф становится культурным стандартом и источником дальнейшего заимствования мифологем.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе