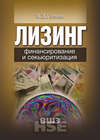Читать книгу: «Мифологемы. Том 1. Громовержец и Змей», страница 6
Межвидовые трансформации
Межвидовые трансформации, или трансформации мифологем различных групп, между собой являются дополнительными частными трансформациями и происходят, когда мифологема одной группы трансформируется в мифологему другой группы.
Такие трансформации также не редкость в мифологии. Например, есть предположение, что миф об охотнике Орионе является такой межвидовой трансформацией. Деяния Ориона представляют собой изложение астрономических символов (которые можно представить как образную мифологему) в сюжетную линию. Другими словами, Орион является отражением звездного неба.
Охотник Орион совершает ряд деяний – преследует деву Меропу и ее сестер Плеяд, теряет зрение и возвращает его благодаря богу Гелиосу. В конце концов Орион погибает от укуса страшного скорпиона. При этом созвездие Орион находится неподалеку от созвездия Плеяд. Созвездие же Скорпиона находится вдалеке от Ориона и никогда не находится с ним вместе на звездном небе – все якобы по воле Зевса.
В иудейской же мифологии созвездие Ориона называлось Кесиль, а Плеяды – Хима. В уже знакомой нам книге Иова встречается фраза «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?». Таким образом, условно можно сказать, что образная мифологема переродилась в информационную.
Трансформации из образной мифологемы в сюжетную наблюдаются и в египетской мифологии, где, например, Осирис рождается в день зимнего солнцестояния. И, к слову, Осирис также связан с созвездием Орион в египетской астрономии. С этим созвездием был связан и индийский бог-охотник Рудра, история которого очень напоминает мифы об Орионе.
Нередко бывает и наоборот, что сюжетная мифологема трансформируется в образ. Например, отрубленная голова чудовища горгоны Медузы в мифе о Персее становится изображением, украшающим эгиду греческой богини Афины Паллады. Пример нельзя назвать самым удачным, но он условно близок к такой трансформации. Ведь этот образ стал постоянным атрибутом богини.
А теперь перейдем к следующему виду трансформации – структурной.
Структурные трансформации
Структурные трансформации информационного материала имеют заметное отличие от частных трансформации – они не связаны с изменением мифологем, лишь с изменением их порядка в структуре мифа. Во время таких трансформации происходит перетасовка мифологем, нередко их утрата или добавление новых.
Миф, прошедший структурную трансформацию без значительного участия частных трансформации, намного проще связать с донором или иным источником. Мы видим лишь перестановку каких-то сюжетов в хронологии мифа.
Для понятия принципа структурной трансформации проведем следующий мыслительный эксперимент, называемый теорией бус. Представьте, что имеются трехцветные бусы. Они представляют собой нить, на которую нанизаны чередующиеся наборы бусин трех цветов – красного, синего и зеленого. Причем каждый набор трех разноцветных бусин отличается от других определенной формой – скажем кругов, квадратов и треугольников. Отобразим эти бусы на схеме 7.

Схема 7. «Хронологические» бусы.
Представим, что нить – это некая хронологическая шкала. Каждый набор трех бусин – это определенный миф-донор, а каждая из бусин характеризует определенную мифологему донора. Красная бусина у нас будет характеризовать ролевую мифологему, синяя – лингвистическую, зеленая – сюжетную. То есть красная бусина будет отвечать за связь с персонажем или его прототипом, синяя – за имя персонажа, зеленая – за деяния персонажа.
Чтобы обозначить изначальную изолированность тех или иных доноров друг от друга, обозначим каждый набор определенной формой вроде кругов, квадратов и треугольников. Скажем, три разноцветных круга будут характеризовать какое-то историческое событие, связанное с персонажем А. Квадраты и треугольники – соответственно с персонажами Б и В.
Как мы видим, историческое событие, связанное с персонажем А, происходит раньше, чем событие, связанное с персонажем Б. Событие, связанное с персонажем Б, предшествует в свою очередь событию с персонажем В. Хотя в теории персонажи А, Б и В могут являться одним и тем же лицом, находящимся в различные моменты времени.
Хочется также добавить, что в наборе теоретически может быть не три разноцветные бусины, а большее количество. Дополнительные бусы в наборе могут означать присутствие в истории других мифологем вроде образа, информации, географического места события и многих других параметров. Но не будем перегружать нашу схему.
Представим, что по каким-то причинам нить «рвется», и бусинки разлетаются. Попытка их собрать на новую нить приводит к нарушению былой последовательности. И те бусины, которые были привязаны к тому или иному набору, теряют свой порядок и оказываются в другом наборе. Отобразим новый порядок на схеме 8.

Схема 8. «Хронологические» бусы после неудачного восстановления.
Во время этих искажений мы уже получаем другие сведения. Персонаж А сохраняет свое имя, но приобретает деяния личности Б. Персонаж Б теряет и имя, и свои деяния, взамен получая имя и деяния своих соседей. Персонаж В теряет имя, взамен получив имя Б. В итоге мы получаем искаженную версию изначальной истории.
Как мы видим, теория бус достаточно наглядно демонстрирует нам те процессы, которые происходят с мифологией, и даже не только с мифологией, но и вообще с информацией различного рода. Разрыв нити символизирует те или иные нарушения в человеческой памяти, из-за которых информация об исторических событиях оказывается искаженной. Причина «разрыва» может быть разной – утрата информации (с последующей попыткой реконструкции событий) или недостоверная передача сведений, как умышленная, так и случайная.
Различные исторические события могут влиять на смещения бусин, тут и гибель носителей памяти, культур в результате военных событий, намеренное изменение мифа в результате религиозно-политического заимствования. Каждый народ, культура зачастую имеет какие-то свои наборы общеизвестных мифов, но со своими локальными искажениями. Какие-то бусины просто исчезают с нити и из истории, а какие-то бусины дополняются новым комплектом – когда народ или культура начинает вплетать в нить свои изменения. Это значительно затрудняет поиск изначального порядка событий, мы можем лишь гадать, какие бусины сидят на своем месте, а какие были смещены.
Структурные трансформации представляют собой не замену кирпичиков-мифологем, а их смещение. Точнее этот процесс можно описать так – построение нового здания подобными кирпичами с оглядкой на старое здание. Кирпичи остаются такими же, а вот постройка меняется.
Структурная трансформация имеет несколько особенностей смещения мифологем при их передаче. Перечислим эти особенности:
1) Смещение мифологемы – смещение мифологемы реципиента по хронологической шкале относительно порядка донора. Это смещение может быть в две стороны – назад и вперед во времени. Таким образом, мифологема реципиента может относиться к более поздним или более ранним событиям, отличаясь от порядка донора.
Особенно это заметно при генеалогических погрешностях в мифологии. Например, персонаж древнегреческих мифов Беот, согласно Павсанию, был сыном некого Итона. А согласно Геродоту, Беот приходился Итону отцом. Можно предположить, что этот миф прошел различные структурные трансформации, в результате которых пострадала генеалогическая линия. И пока сложно сказать кто прав – Павсаний или Геродот.
Хорошим примером такого смещения так же могут послужить мифы о греческих героях Геракле и Персее. Оба героя имеют общую сюжетную мифологему – спасения девы от морского чудовища. Персей спасает Андромеду, принесенную в жертву морскому чудовищу. Аналогичным образом Геракл спасает от такого же чудовища Гесиону. Детали спасения очень похожи – как правило, деву приковывают к скале на берегу моря в наказание перед богами.
При этом Персей является прадедом Геракла, и возможно, именно от него этот подвиг достался Гераклу. То есть история более раннего Персея послужила частичной основой и источником для реципиента – истории Геракла. Или обе истории являются реципиентами некого третьего источника, который нам неизвестен.
Предполагается, что чаще всего «старые» мифологемы попадают в истории новых персонажей, после чего преобразуются и «молодеют». Вероятность того, что старший Персей является «хозяином» мифологемы о спасенной деве больше, чем у младшего Геракла.
Вообще, рассматривая Геракла и похожих персонажей, можно отметить некоторых персонажей мифа как своеобразных «коллекторов» мифологем. Такие персонажи словно собирают подвиги своих предшественников и преобразуют их в новую форму.
Деяния Геракла – победа над драконом, львом, похищение яблок и многое другое – по всей видимости, были списаны с деяний не только Персея, но и других, куда более ранних героев вроде Мардука, Гильгамеша, Мелькарта и т.д. В этой куче наслоений мифологем очень сложно определить ту основу, которая являлась изначальной историей Геракла и других схожих ему героев-«коллекторов». Отделить историю от «лишних» мифологем возможно, но это долгий и кропотливый процесс.
2) Удаление мифологемы – самый распространенный случай потерь во время передачи мифологем. Во время передачи группы мифологем от источника реципиенту часть мифологем неизбежно теряется. И нередко в таком случае реципиент становится беднее источника (раннего реципиента или донора), хотя может компенсировать эти потери мифологемами альтернативного источника. Удаляться могут мифологемы любого вида – от сюжетов до образов. Нередко исчезнуть могут и персонажи, династии и многое другое.
Для примера рассмотрим скандинавскую мифологию. В Старшей Эдде верховный бог Один указывается отцом бога грома Тора. Но в Младшей Эдде есть интересная генеалогическая вставка: Тор является фракийским царем, от которого в восемнадцатом поколении и происходит Один. Мало того, что персонажи меняются местами в отношении «предок – потомок», так еще и исчезает вся генеалогическая ветвь между ними. Такие династические «сокращения» происходят довольно часто.
3) Деление мифологемы – разложение мифологемы источника на ряд составляющих ее элементов при передаче ее реципиенту. Технически мифологема является своеобразным атомом или кирпичиком мифа, но это не мешает даже ей делиться.
Нередко мифологема представляет собой какую-то информацию, которая теоретически может разлагаться на составляющие. Например, представим себе некий образ-источник – грозный морской бог Нептун с рыбьим хвостом и трезубцем. Сам по себе образ может являться отдельной цельной мифологемой, но при его заимствовании могут использовать отдельные элементы – образ трезубца или рыбьего хвоста.
Примером может служить образ валлийского божества Медравда, который в ранних версиях кельтского мифа был соперником короля Артура, претендующего на супругу короля Гвиневру. В поздних версиях мифа Медравд расщепился на два отдельных образа – благородного рыцаря Ланселота и коварного антагониста-племянника Мордреда. Из одного соперника мы получили двух независимых персонажей, конкурирующих с королем[40].
4) Дубликация мифологемы – явление, когда одна и та же мифологема передается от источника к реципиенту более одного раза, при этом часто трансформируясь. Дубликацию можно назвать противоположностью удаления. Она часто наблюдается в крупных эпосах, нередко мы видим одни и те же повторяющиеся сюжеты с незначительными отличиями.
Например, сюжет сватания в Махабхарате, при котором герой должен пройти сваямвару, т.е. брачное испытание, встречается несколько раз. Сваямвару проходит персонаж Бхишма, а также Нала и братья Пандавы.
В Библии мы также видим возможную дубликацию. Пророк Авраам вместе с женой Саррой оказывается во владениях филистимского царя Авимелеха. Восхищенный красотой Сарры, царь присваивает жену Авраама, и лишь вмешательство Бога заставляет вернуть женщину мужу.
Аналогичное событие происходит и с сыном Авраама Исааком. Исаак, как и его отец, оказывается во владениях Авимелеха, и царь едва не присваивает на этот раз Ревекку, жену Исаака. Словно Исаак повторяет судьбу своего отца, хоть история и немного отличается.
Главная проблема дубликации в том, что она осложняет исследование мифологем и часто перегружает крупные эпосы. Нередко даже генеалогические цепочки могут представлять собой дубликации друг друга, как в случае библейских персонажей Сифа и Каина – их первое поколение в пределах семи-десяти человек словно является искаженной версией друг друга. Эту ситуацию мы рассматривали в предыдущих главах.
Исторические доноры. Прототипы
А теперь постараемся поподробнее изучить мифы-доноры, и что они из себя представляют. Вообще донор может представлять собой информационный материал любого рода – письменную или устную информацию или просто изображение. И хотя чаще всего донор представляет собой какое-то историческое событие, существуют и некоторые исключения.
Анализ доноров позволяет разбить их на две основные группы – исторические и психические доноры. Введем определения данных групп:
Исторические мифы-доноры – совокупность резонансных исторических событий, отразившихся в памяти человечества и получивших распространение в виде мифов или иного информационного материала.
Психические мифы-доноры – результат мыслительной деятельности человека или его творчества, получивших распространение в виде мифов или иного информационного материала. Эти доноры мы рассмотрим в следующей главе.
Хочется также отметить, что, несмотря на разделение этих групп, они могут совместно образовывать реципиентов.
Обратим внимание на исторических доноров. Примеры таких доноров мы уже рассматривали, изучая мифологемы Калидонской охоты и реки подземного царства. Вероятными историческими донорами этих событий мы соответственно указали смерть царя Менеса на охоте и ритуальные захоронения на Бахрейне. Это лишь предполагаемые исторические события, которые могли повлиять на образование соответствующих мифологем.
Существует немало теорий о том, как исторические события могут стать основой для мифа. К примеру, историческая война египтян с племенем гиксосов в середине II тысячелетия до н.э. могла являться донором для библейской легенды о Моисее и великом исходе. Некогда гиксосы были изгнаны из Египта после длительного периода оккупации. Эта теория подтверждалась и некоторыми авторами вроде Диодора Сицилийского или Манефона, связывающих народ гиксосов с евреями.
Аналогично военные конфликты Малой Азии XII веке до н.э. могли стать донором для мифа о Троянской войне. В этих конфликтах хетты воевали с рядом городов, в том числе и Вилусой – именно этот город часто связывают с Троей, поскольку название Вилуса тождественно названию Илион, столице государства Трои[41].
Анализируя исторических доноров, мы неизбежно коснемся исторических прототипов – реально существовавших персон, личность которых послужила для создания мифического образа того или иного персонажа. Прототип является своеобразным выражением исторического донора, наиболее его значимой частью – он дарит реципиентам те мифологемы, которые связаны с его личностью – имя, образ, эпитеты, деяния и многое другое.
На практике термин прототипа еще более растяжим. Мне приходилось знакомиться со многими работами, где прототипы представлены не только историческими персонами или группами, но и городами, географическими объектами и даже событиями – практически всем спектром мифологем. Между прототипами и историческими донорами в таком случае можно поставить условный знак равенства.
Например, часть участников хеттских конфликтов XII века до н.э. напрямую имеет отношение к гомеровской Илиаде. Царь хеттского государства Аххиявы Акагамунас послужил прототипом для греческого царя Агамемнона, поведшего греков на Трою[42] [43]. Предполагается, что именно из Аххиявы вышло одно из известных греческих племен – ахейцы, которые могли сохранить воспоминания об участниках войны.
Другой персонаж мифа о Троянской войне – царевич Парис, он же Александр, также имел своего прототипа. Этого прототипа звали Алаксандус, и он являлся царем города Вилусы в XIII веке до н.э.[44].
Агамемнон и Парис в мифе о Троянской войне являлись современниками и противниками друг друга. Но их исторических прототипов разделял приличный временной период. Акагамунас жил почти за столетие до Алаксандуса, а тот в свою очередь жил задолго до упадка Вилусы, т.е. краха предполагаемой Трои.
Как мы видим, исторических прототипов, которые стояли за теми или иными персонажами-современниками в мифе, в действительности могли разделять приличные временные интервалы. Но благодаря творчеству Гомера и других авторов события хеттских войн слились в одну сплошную историю.
Нередко мифы создавались конкретно ради того, чтобы его увековечить того или иного прототипа в истории. Возможно, эта традиция идет с Гильгамеша, ставшего героем древнейших эпических поэм. Гильгамеш как герой поэмы совершал различные подвиги – сражался с исполином Хувавой, побеждал небесного бога, спускался в подземный мир.
Реальный же прототип персонажа – собственно царь Гильгамеш – являлся пятым правителем шумерского города Урук и вряд ли имел отношение к большинству описанных им подвигов. Не исключено, что именно в эпоху Гильгамеша произошла первая попытка героизации правителя и отображения его в мифологии. Так или иначе, начиная с эпохи Гильгамеша, мы видим частые стремления мифотворцев увековечить ту или иную историческую личность через миф.
В большинстве случаев прототипы имеют мало отношения к приписываемым им в мифе деяниям. Так мифический греческий герой Ясон на корабле Арго отправляется в опасное морское путешествие. Цель Ясона и его пятидесяти спутников – завладеть волшебным золотым руном, которое находилось в колхидской волшебной роще Ареса под охраной дракона. Преодолевая различные препятствия, герои с огромным трудом достигают назначенной цели.
Но мало кто знает, что реальный Ясон был наместником Александра Македонского в Иберии, т.е. древней Грузии[45]. Исторический Ясон не имел никакого отношения и к десятой доле тех событий, что написаны в Аргонавтике, – он был иберийским тираном, свергнутым в результате восстания. Единственное сходство – безусловное посещение Ясоном территории, связанной с Колхидой. Для таких совпадений даже был создан свой термин – лингвистический прототип, который, как исторический Ясон, не дает персонажу ничего, кроме своего имени.
Но откуда же взялись все эти подвиги аргонавтов, если их ничего не связывало с Ясоном? В большинстве случаев мы имеем дело с многослойными реципиентами, имеющими несколько доноров. Даже количество аргонавтов, вероятно, заимствовано из истории Гильгамеша. Гильгамеш, отправляясь за священными кедрами в мифическую Страну живых, набирает с собой пятьдесят спутников в Уруке. Пятьдесят спутников мы можем увидеть и у поздних реципиентов – скажем, в славянской былине «Богатыри на Соколе-корабле», где герой Илья Муромец отправляется в морское путешествие с пятьюдесятью гребцами.
Не стоят исключением и библейские персонажи, которых мы уже сравнивали с божествами Месопотамии и Финикии. Ряд персонажей Библии также сравнивались различными авторами с какими-либо историческими личностями. Приведу эти имена в соответствующей таблице 3.
Как мы видим в таблице, наблюдается не только лингвистическая схожесть имен, но для многих из них совпадает и временной интервал проживания. Если у старших библейских патриархов разница с их предполагаемыми прототипами составляла более 1000 лет, то уже у более поздних эта разница снижалась. Возможно, это связано с тем, что старшие патриархи имели завышенную продолжительность жизни, о чем мы также поговорим.

Таблица 3. Библейские персонажи и их возможные лингвистические прототипы.
Не стоит в стороне и индуистская мифология, в том числе Ригведа, Махабхарата и Рамаяна. Обратим внимание на следующую таблицу 4. Многие указанные в таблице персонажи, вероятно, названы в честь царей древних государств, которые находились на территории древней Сирии и Армении. Особенно часто здесь встречается Митанни – государство, расположенного в северной части Месопотамии. Такая информация в свою очередь позволяет определить культурные корни тех или иных эпосов.

Таблица 4. Персонажи индуистских мифов и их возможные прототипы.
Здесь можно обратить внимание, что некоторые прототипы встречаются в обеих вышестоящих таблицах. Например, Лабарна указан возможным лингвистическим прототипом для библейского Лавана и индуистского Раваны, причем оба персонажа являются антагонистами. Это во многом говорит о том, какое воздействие оказывает прототип на историю, его резонансность и т.д. Лабарна мог быть конкурирующим правителем для соседних государств, и отобразился в их мифологии в качестве антагониста.
Конечно, часть приведенных аналогий имен могут являться совпадениями. Но некоторые связи прототипов и персонажей все же не вызывают сомнения у автора. При этом сюжетная связь между персонажами и лингвистическими прототипами практически отсутствует. Сюжетные же мифологемы попали в миф явно из других источников.
Нередко прототипы были представлены не каким-либо историческим лицом, а некой группой или этносом. Например, кентавры, известные мифические персонажи греческих персонажей, часто связывались с изображениями древних касситов – кочевого племени, некогда покорившего Вавилонию. Как мы видим, прототипы служили основой не только для персонажей героического мифа, но и для мифических существ.
Аналогичным этносом являются и обезьяны в эпосе Рамаяна. Очевидно, что обезьяны представляют собой некую народность, обладающую низким статусом. Возможно, это отображение каких-то племен, которым еще не знакома постройка городов. Нередко такое обозначение народов имело даже и расистский элемент, в целом распространенный для древнего мифа. Многие народы не переваривали друг друга и обозначали своих нелюбимых соседей как великаны, демоны, змеи, духи и т.д.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе