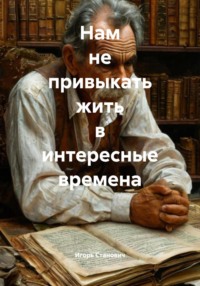Читать книгу: «Нам не привыкать жить в интересные времена», страница 2
Глава 5
В нашем иркутском доме часто собирались молодые, уже известные, а также подающие надежды писатели, поэты, журналисты. Многие из них в скором времени станут знаковыми личностями, которых через пару десятилетий начнут называть – шестидесятники. Ведь родители были так же молоды (1935 года рождения) и относили себя к творческим людям. Сейчас бы такая общность называлась богемой. Только тогда это слово было ещё не модно, а может, даже и не известно. Позже, во времена моей молодости, оно приобрело отрицательный оттенок. Отец с матерью очень дружили с Александром Вампиловым, именно он подарил миру такие великие пьесы, как «Старший сын». Фильм по этому произведению открыл миру Боярского, а блеснули в нём уж тогда известные Евгений Леонов и Николай Караченцов. Пьесы «Утиная охота», «Прощание в июне» и «Провинциальные анекдоты» пользуются популярностью в театральных училищах в качестве учебных постановок, а в наше время их проходили по школьной программе. Спустя несколько лет папа даже летал к нему на день рождения. А получилось, что на похороны, после его нелепой гибели во время катания на лодке, на том же Байкале. Компания отмечать торжество собралась большая. Слухов потом ходило много. И то, что он был нетрезв (а куда без этого), и что в лодке был не один. И что наличествовала ссора. Лодка перевернулась, однако Александр сумел добраться вплавь до берега. Но байкальская вода студёна и у него случилось переохлаждение. Драматурга пытались отогреть. Отпоить спиртным. Мой отец даже одел его в свою куртку, но ничего не помогло. А куртка потом досталась мне по наследству. В советские времена одежда часто переходила от отца к сыну или от старших к младшим. Будучи старшеклассником, я её довольно долго носил и даже хвастался, что в этой куртке спасали великого советского драматурга шестидесятых. С ней была связана не одна хулиганская история. Куртка была довольно большая и мне великовата, но в конце семидесятых подростки часто носили одежду «на вырост». Я этим пользовался в универсаме по системе «сам-бери» на Сумской улице возле кинотеатра Ашхабад, того, что между Чертановской улицей и Кировоградской. Из хулиганских побуждений и бравады перед одноклассниками, я воровал продукты и пиво. Видеокамер тогда не было, в зале дежурил один охранник, его несложно было обдурить или отвлечь напарникам. Однажды перед Новым годом даже сумел вынести из зала бутылку шампанского, незаметно засунув её в капюшон, вот такая она была вместительная и объёмная. Замечательная вещь. А я был маленьким, но смышлёным. Кто мог подумать – такой воспитанный на вид ребёнок (как говорили: «интеллигент в бабушкиной кофте») и может украсть алкогольный напиток? Однако по официальной версии с Вампиловым произошел несчастный случай. Кстати, по рассказам отца, Александр являлся автором, вернее, создателем нескольких, ставших ныне крылатыми, выражений, которые относятся к категории «народное творчество». Он придумывал их ради, как сейчас бы сказали, прикола или троллинга. Но часть из них прочно вошли в жизнь и сознание советских граждан. Причём некоторые были нарочито вычурными и казались безграмотными и простонародными. Причём, ладно если бы они распространились на бытовом уровне или в среде служебной, где превалирует язык казённый, типа: «данный объект» или «данная представительница женского пола с пониженной ответственностью». Так теперь ими открыто пользуются и в прессе и даже на политическом уровне. Мною уважаемые телеведущие и не ведают, что выражение это в шутку придумал и запустил в большое плавание по просторам «великого и могучего» большой хулиган и, как бы сейчас сказали, мастер троллинга писатель Александр Вампилов. Так вот, он часто приходил к нам в гости, особенно вечером в пятницу. Традиционно это называлось «отметить день шофёра», хотя личного транспорта в те времена не существовало. За редким исключением и то не в уездных сибирских городках. Профессиональный день случался, естественно, каждую неделю. Водители это объясняли тем, что обычно последний рабочий день недели в СССР был сокращён на целый час. Труженики баранки ещё и отпрашивались пораньше, мотивируя это тем, что у них праздник. Водитель машины, прикреплённой к редакции, чтобы возить отца, и так, на разъезды, объяснил папе этот диалектический нюанс ещё в самом начале их сотрудничества. Он отпросился один раз. Потом на следующей неделе. Потом опять. Тут начальник начал было что-то подозревать и, решив вникнуть в нюансы, спросил, как бы невзначай: «Так, вроде, уже был такой праздник в этом году»? На что сотрудник, не моргнув глазом, ответил: «Борисыч, так ведь он же по всей державе еженедельный. Мы, водилы, только один раз в отличие от вас, интеллигенции, выпить можем. Суббота предназначена, чтобы прийти в себя и опохмелиться. Воскресенье – окончательно восстановить здоровье, дабы и следов алкоголя в крови не было. Ибо в понедельник в шесть часов утра медосмотр»! Весь этот диалог я лично, конечно, не наблюдал. Однако периодически слышал историю о нём от отца в уже более сознательном возрасте, когда он рассказывал о своей работе знакомым и гостям. Папа был очень разговорчивый и компанейский человек, что передалось и мне по наследству. Иначе, чего бы я тут сейчас разглагольствовал и раскрывал семейные и исторические тайны и случаи из жизни. Так вот, Александр на посиделках у нас дома, рассказывая что-то, уже будучи навеселе, вдруг как-то к слову произнёс совершенно невероятную по тем временам фразу, сопоставляя излагаемые события. Он нетвёрдым голосом пропел: «…в этой связИ…». Слушатели – журналисты, поэты, начали громко смеяться такому нелепому выражению. А писатель Валентин Распутин, остро переживающий за родной язык, воспринял слова всерьёз и нравоучительно сделал замечание: «Саша, ты чего такое ляпнул? Какая связЯ? «В связи с этим» -выражение понятное. А связЕй мы не принимаем»! «А между прочим, забавно получилось!» – парировал драматург. – Мы ведь с тобой литераторы, так сказать, инженеры человеческих душ. Значит, и в языке родном имеем право быть творцами. Так почему нам не запустить в народ подобное выражение? Да, звучит коряво. Но через десяток – другой лет люди привыкнут. А мы будем смеяться и всем рассказывать, что эту безграмотность по пьяни у Стаськи дома на посиделках сморозили. Вот пусть потом и разгребают…». Однажды, много лет спустя, учась в старших классах школы, я написал реферат по истории. Как сейчас помню, на тему Парижской коммуны. Было это году в 1976-77. И в нём, решив блеснуть эрудицией, вспомнив творение великого драматурга, взял и использовал это выражение. Когда я его зачитывал в классе, после произнесённого мною: «… в этой связИ…», сначала наступило молчание. Потом раздался смешок со стороны нашего комсорга, который по совместительству был «ботаником» в очках и круглым отличником. Далее учительница, а она у нас была воплощением педантичности, спросила: где я услышал такое несуразное выражение? Я что-то пробурчал, что из телевизора почерпнул. Да и папа у меня журналист. Она поставила мне пятёрку за историческую часть и двойку за изложение. А также сказала, чтобы я больше не смотрел передачи, которые ведут такие безграмотные дикторы. Потом мне периодически припоминали моё новаторство в обогащении русского языка. Но всё больше с иронией, типа, филолог нашёлся. Но, как видите, времена меняются. То, что когда-то казалось диким или смешным, сейчас становится нормой и не вызывает отторжения. Нынче это выражение звучит чуть ли не из каждого, как говорится, утюга. Более того, я однажды слышал его аж из уст первого лица государства! Русский язык живой и разнообразный. Он вбирает в себя неологизмы и постоянно развивается. Наверное, это и хорошо. Однако я никогда больше до нынешнего момента не употреблял это выражение и не буду впредь. Старая школа, как бы сейчас сказали «олд скул», не сломима.
С Вампиловым связана у меня ещё одна замечательная история, которая произошла при мне. Естественно, о ней мне напомнили, так как детская память нестойкая. Именно с того момента, с самого детства, на подсознательном уровне у меня было какое-то мистическое отношение к напитку кофе. И позже, когда родители напомнили мне сию историю, я осознал, почему. Эту загадочность навеяло несколько факторов. Во-первых, при всем своём звучании как существительное среднего рода, кофе – мужик. Да, сейчас уже по нормам русского языка его можно и ОНО обзывать. Но я с молодых ногтей усвоил мужскую сущность кофе и всегда говорил о нём – ОН. Во-вторых, в шестидесятые годы прошлого века кофе был довольно дефицитным товаром. Особенно хороший и особенно в Сибири, которая по снабжению очень отличалась от столиц. Поэтому отец, ездя в командировки в Москву, обязательно привозил оттуда всем подарки. Конечно же, интеллигенция обожала кофе. Не быть кофеманом считалось как-то неблагородно. Примерно так же, как сейчас в интеллигентской среде не ругать правительство. Естественно, лучше всего считался напиток в зёрнах, а не молотый. Так как если его молоть перед самым употреблением, он богаче и вкусом, и ароматом, и целебными свойствами. Хотя в журнале «Здоровье» и печатались статьи о его вреде. Но тогда этот журнал и существовал, казалось, только для того, чтобы писать о вредности продуктов, которые становились дефицитными. Я помню, когда стала пропадать чёрная икра, о вреде ее также всплыли сведения в этом журнале. Что она чуть ли не вызывает инсульт, ибо откладываются холестериновые бляшки в мозгах. Тоже, кстати, веяние того времени, именно тогда впервые в народе стало популярным обсуждение этой проблемы со здоровьем. До того слово холестерин было известно только в узких кругах медиков. Кстати, на кухнях самым близким друзьям рассказывали анекдот о том, что от чёрной икры растут брови – гляньте на Леонида Ильича Брежнева, брови видите? Так вот, он икру каждый день ест. В Москве папа непременно заходил в Елисеевский гастроном. Считалось, что лучший кофе продаётся именно там. И вообще, выбор в нём был значительно богаче, нежели в универсамах, где-нибудь в Черкизово. Именно тут он покупал волшебный на вкус финский деликатесный сыр «Виола», который, о чудо, можно было намазать на кусок хлеба. Советский плавленый сырок «Дружба» ну никак не разминался до такого состояния, как ни грей его! Пока писал про «Виолу», вспомнился анекдот того времени про Елисеевский гастроном. Сейчас он, конечно, не актуален, но тогда воспринимался на ура. Пояснения современникам: в те времена не было поголовной мобильной телефонизации и Гугла тоже никто ещё не изобрёл. Со стационарного телефона или за две копейки с телефона-автомата можно было позвонить в справочную по номеру 09, и живой девушке с милым голосом задать интересующий вас вопрос. Промтоварные магазины работали с десяти часов утра до шести-семи вечера. Продуктовые – до восьми, некоторые крупные – до девяти. Итак, время в районе половины десятого вечера. В справочной раздаётся звонок, слегка нетрезвый мужской голос спрашивает телефонистку:
– Вы не подскажете, когда открывается Елисеевский магазин?
– В девять утра.
– Спасибо, – вежливо отвечает голос.
Проходит полчаса, этот же мужской голос, только уже заметно повеселевший спрашивает ту же девушку:
– Добрый день… вы не подскажете, когда открывается Елисеевский магазин?
– Мужчина, я же вам уже отвечала на ваш вопрос… в девять утра…
– Спасибо… – вешается трубка.
Проходит ещё половина часа. Тот же голос, но уже совсем заплетающийся:
– Милочка, скажи… а Елсейский скоро откроется?
– Гражданин, вы уже который раз звоните, вы в городе не один… я уже устала вам отвечать… у вас что, выпивка закончилась?
– Нет… выпивки полно… двушки заканчиваются, потому скоро звонить перестану…
– Так что, закусить нечем?
– Жратвы тоже… хватает
– Тогда что же вам надо?
– Да мне бы выйти отсюда… жена заругает…
Глава 6
Кофе в Иркутске ценился куда больше водки и портвейнов. Водка продавалась в розлив в продуктовом магазине. Её привозили в тридцатилитровых (если не путаю объём) молочных алюминиевых бидонах. Далее, у продавщицы имелись нержавеечные мензурки на длинной ручке, ёмкостью пятьдесят, сто и, по-моему, двести миллилитров. Она зачерпывала нужное количество и «отпускала» в стеклянную тару (другой-то и не было), банку или бутылку через воронку. Стоило это удовольствие (опять же, если чего не путаю, ибо сам не пил тогда, ходил в магазин с бабушкой, но ситуацию отслеживал, как сейчас бы сказали, мониторил, конечно, не настолько, чтобы запоминать досконально цены) порядка, вернее, до сорока копеек за соточку. Упакованная на заводе бутылка водки продавалась за два рубля восемьдесят семь копеек. То было до знаменитой, воспетой в песнях и анекдотах, цены в три рубля шестьдесят две копейки. Вот такие нюансы отложились в детской памяти. Каждый трудящийся имел право и возможность после работы заглянуть в магазин и с устатку махнуть полтешок или соточку, а потом чинно прийти домой ужинать. Для удобства граждан, в зале отгораживался небольшой пятачок и ставилась пара-тройка высоких круглых столиков, в народе называемых «стоячки». Стульев, чтобы не рассиживались, конечно, не предусматривалось, ибо дома семья ждёт! Одно время в городе случилась затоварка солёной кильки. Её необходимо было реализовывать, план выполнить, ибо экономика-то была плановой. Тогда предприимчивые директора продмагов договорились и ввели строгое правило – водку отпускать на вынос, только в тару. А если жаждешь употребить на месте, то в нагрузку бери и закусь. Ею служил кусочек чёрного хлеба с положенной на него килечкой. Самые креативные, как сказали бы сейчас, продавцы ещё и клали на рыбку колечко репчатого лука. Когда килька была распродана, правило всё равно осталось, так как прижилось. Вместо неё в качестве закуси пригождалось всё, что начинало просрочиваться. И солёные огурцы из бочек, и капуста квашеная, и полежавшее на витрине сало, и тому подобное. Так и узаконилось строгое правило – водку в розлив для непосредственного употребления в магазине отпускать исключительно в комплекте с закусью. За неё брали сущие копейки. И всем было хорошо. И магазину, так как сбывал неходовой товар, и потребителю, ибо он закусывал, что снижало вероятность нажить себе язву желудка, употребляя аперитив или греясь «с мороза» не по традиционным правилам. А морозы в Сибири сами понимаете какие бывают! Иной раз не остаграммившись, и до дома не доберёшься.
Заканчивая отступление, возвращаюсь к кофе. Он в нашем доме бывал стабильно, так как папа привозил его из командировок всегда в запас. Потому побаловаться экзотическим напитком захаживали друзья, о которых я упоминал выше. Особенно часто это происходило в выходные, в том числе после «дня шофёра», так как утром некоторые себя чувствовали не совсем бодряками. Отец умел заваривать кофе, для чего у него имелся целый набор турок разного размера, дабы на всех хватило, несмотря на количество гостей. Это сейчас принято засовывать картридж в кофе-машину и нажимать кнопку. В те времена приготовление напитка было таинством с соблюдением определенного ритуала. По крайней мере в нашем доме. Возможно, это тоже одна из причин моего к нему отношения, вплоть до очеловечивания и придания ему черт живой сущности. Папа произносил заклинания, как он объяснял, из латиноамериканских шаманских ритуалов. При этом ложкой, полной молотого кофе, водил над закипающей в турке водой. Иногда он добавлял туда чёрный перец, иногда другие специи, разнообразие которых в СССР ограничивалось корицей, молотым имбирём и ещё парой-другой видов, включая гвоздику. Употреблять его тоже надо было не просто так, а с пожеланиями различных благ и поправок в здоровье.
И вот однажды уже упомянутый мною водитель из АПНовской редакции, притащил сотрудникам целую наволочку зелёных, не обжаренных ещё кофейных бобов. В те времена в Советском союзе не считалось зазорным немного притырить из государственного имущества. Оно и сейчас-то мало кого останавливает, я имею в виду моральные принципы. А тогда всё вокруг было народное, значит ничьё. Вернее, и твоё тоже. Потому и не считалось грехом. Хотя, например, не платить в автобусе было неприличным. По крайней мере, в нашей семье билет на проезд покупали. Отец оценил принесённое. Остальные послали товарища, чтобы он валил «со своей чечевицей». Шофёр обиделся на всех, кроме начальника, а ему объяснил, что его родственник работает на грузовой железнодорожной станции. Вот в вагоне, в котором с Дальнего востока из морского порта перевозят кофе на переработку в европейскую часть страны, мешки, бывает, что рвутся, содержимое из них иногда рассыпается, а потому существует возможность его оттуда за недорого приобретать. Папе он дал на пробу порядка килограмма зелёных бобов. Тот принёс всё это домой и приступил к экспериментам по обжарке. Дело это для шефа Восточносибирского отделения АПН было новое. Сейчас-то освоить процесс большой хитрости не составляет, современный человек включает компьютер и там гуглит: «обжарка кофе». А в те времена этот вопрос занял у отца значительно больше времени. Но оно того стоило, ведь источник получения свежего халявного кофе был практически неисчерпаем на относительно продолжительный период времени. Если, конечно, не настанут форс-мажорные обстоятельства в виде ареста служителя железнодорожной станции за воровство. Но вероятность этого не была значительной. Для начала он отправился в городскую библиотеку и там набрал множество книг. Причём не только технологических. Но и по истории. Про те страны, в которых произрастает замечательное растение. Примерно через месяц вся наша семья имела довольно обширные знания на тему мирового кофеводства. Более того, благодаря полученной тогда в младенчестве информации об этом предмете я, будучи учеником уже старших классов, написал огромный реферат на эту тему. Именно тогда в моей несмышлёной голове заложилось упомянутое раньше мистическое отношение к растению. Потом, когда отец уже освоил различные рецептуры и тонкости обжарки кофе и стал угощать им друзей, завсегдатай кофейных церемоний Александр Вампилов и запустил в обиход так полюбившееся мне позже выражение. Как-то в субботу, после активного отмечания «международного дня шофёра» он, предварительно созвонившись, зашёл к нам в гости на кофе. Папа поколдовал на кухне и к приходу драматурга напиток был готов. Александр всегда приходил в гости с чем-нибудь «к чаю». В вечерние часы это был портвейн, в утренние пряники или деликатесы, привезённые с охоты. В тайгу ходили все, от профессиональных охотников, коих в Иркутске было много, до работников умственного труда, которыми считались и люди из круга общения нашей семьи. Поэтому кедровые орешки, солёная черемша, лесные ягоды в разных видах всегда присутствовали на столе. А в холодильнике (у кого он имелся, в то время это был бытовой прибор, производство которого страна только осваивала и присутствовал он не в каждом доме) всегда имелась оленина или лосятина, временами медвежатина и тому подобные, как сейчас сказали бы, ништяки. Александр с жадностью выпил большую чашку кофе и произнёс фразу, которая со мной осталась на всю жизнь:
– Какой же грамотный кофе ты варишь, Стас!!!
Глава 7
И тут я окончательно понял, что кофе-то живая осознанная сущность, некое одухотворённое создание и оно даёт нам свою энергию, выраженную в напитке. Ведь грамотным может быть только живое существо, мыслящее, с разумом! Не растение и тем более не его плоды. Вот такие, казалось бы, мимолётные слова, произнесённые взрослыми, могут отложиться и повлиять на восприятие мира у ребёнка. Порой они закладываются в самые отдалённые закутки нашего подсознания и потом выстраивают нашу жизнь. А человек сам может и не помнить этого. И не понимать. Но след в нашей голове всё равно остаётся на всю жизнь и определяет потом наше поведение. И дельнейшее плавание по ней. А закончить повествование о друге семьи моего детства хочу его выражением, которое взято мною за некий жизненный девиз. Когда Александра Вампилова спрашивали: для чего он что-либо сделал и почему так поступил? Он отвечал: для бОльшей лучшести! Вот мне так понравилось это выражение, что я пытаюсь следовать ему. Не всегда получалось. Особенно в молодости, которая выпала на неоднозначное время восьмидесятых-девяностых. Но с возрастом, мне кажется, стало получаться всё лучше и увереннее. Может, мне и запишется это в карму, которую, конечно же, подпортил ранее. Видимо, жизнь нам и дана как большая и суровая школа. Закончил один класс, сдал или не сдал экзамен, по результату которого переведён или не переведён в следующий. А по прошествии долгих-долгих лет обучения, там, наверху, посмотрят и опять же по результатам оценят – куда тебя после переводить? То ли успешно усвоил уроки этого периода и тебя можно допустить до следующего уровня, то ли оставить на следующий год пройти по новой курс, если схалтурил или схитрил… Вот и думай, чем ты там не угодил в прошлой жизни и как это исправить в этой, чтобы дальше не маячить и разорвать круг Сансары.
Вспоминая Вампилова, хочется упомянуть ещё одно его выражение-присказку, которое так запало мне в память, что я иной раз употребляю его от своего имени. Оно мне не просто близко. Оно выражает суть нашего поколения и самоироничное отношение к себе. Когда драматург устраивал у нас дома читку своего нового произведения, то непременно упоминал: «Пушкин себя сукиным сыном называл, нам такое нескромно будет, но – алкоголизм не пропьёшь…». Как ни странно, у меня в конце концов получилось… но шёл я к этому долгие годы. Хотя об этом я тоже расскажу, но позже, в отведённое для этого время и в определённой главе.
Когда я уже был подростком, отец брал с полки книги с автографами авторов и зачитывал отрывки или стихи, приговаривая: вот эту сцену Валька Распутин написал с нашей наводки, мы тогда первое мая отмечали и ему историй кучу рассказали. А вот этот шедевр при нас практически родился, когда мы у Женьки гостили, имея в виду Евтушенко, ты читай, читай, чтобы отчёт себе отдавать, по чьим коленкам лазил в детстве и конфеты от кого получал.
Вообще неотъемлемой составляющей жизни творческого человека в СССР были застолья с обильной выпивкой, а если помножить это ещё и на сибирский менталитет того времени… не берусь судить, как там происходят дела в наше время. Валентина Распутина папа звал Валькой. В Иркутске они часто спорили относительно новых тенденций современной советской литературы. Распутин был помладше отца и менее разговорчивым. Поэтому папа всегда оставался прав, особенно для себя. К тому же по тиражам книг ещё нужно было посчитать, кто из них главнее. Папа написал, как минимум две книги, а возможно, и больше. Вышли они в серии «Библиотека партийной литературы» (а может, «Библиотека партийного работника», сейчас уже точно не вспомню, назывались «Подвиг у Падунского порога», про строительство Братской ГЭС и «Дорогу осилит отважный» про Абакан-Тайшесткую магистраль железной дороги), тиражи у них были вполне номенклатурные.
Как я уже упоминал, отец возглавлял корпункт Агентства печати «Новости» (АПН), тогда весьма могущественную организацию информационно-пропагандистской направленности. Короче, отец был самым главным журналистом этой конторы на всю Восточную Сибирь. По своей важности АПН не уступала ТАСС (позже отец работал и там, уже в Москве, начальником отдела фотохроники). Соответственно, он являлся членом КПСС, без партийной принадлежности в те времена невозможно было делать какие бы то ни было шаги по карьерной лестнице. Родители были молоды, бодры, веселы и полны здоровья, им ещё не было и 30 лет, а они уже числились известными и уважаемыми людьми в областном городе. Посему в нашем доме гостили многие знаковые люди. Кроме уже упомянутых, это были и Евгений Евтушенко, и Андрей Вознесенский, и Юрий Визбор… Папа долго смеялся потом, увидев его в фильме «Семнадцать мгновений весны» в роли известного фашистского деятеля. Короче, все знаменитости тех лет, приезжавшие проводить творческие вечера в столицу Восточной Сибири, не могли обойти стороной наш дом. Кстати, здесь же, в Иркутске, похоронен упоминавшийся мною в предисловии дальний родственник Болеслав Шостакович, наш предок, вернее, родственник предка по линии композитора Дмитрия Дмитриевича. Представитель нашего рода несколько лет служил в городской управе. В Иркутск он попал не совсем по своей воле, а именно, был сюда отправлен на поселение после отбытия наказания по делу об организации побега Ярослава Домбровского из Московской пересыльной тюрьмы. Домбровский же тогда руководил польским восстанием, а после побега свалил в Европу. Там участвовал в Парижской коммуне и был соратником Гарибальди. Болеслав отбыл свой срок, кажется, в Казани. И пошёл по пути исправления и служения России. Да так воодушевлённо, что в конце концов стал значимым чиновником городского управления столицы Восточной Сибири. Здесь он и умер в 1919 году. Похоронили его тут же. Вот как могут географически переплестись судьбы! Не просто так карма забросила нас в Иркутск.
Естественно, что информация обо всём этом мною взята частично из семейных архивов, частично из памяти, что-то из открытых официальных источников. Но по большей части из расспросов родителей, родственников, членов семьи и знакомых родителей. Сейчас родители уже ушли. Но при их жизни я часто и подолгу «пытал» их, задумав эту книгу аж три десятилетия назад. Воспоминания я копил и записывал, теперь постараюсь изложить, как можно меньше используя приукрашений и метафор. Поэтому иркутский период я не могу описывать гарантированно точно. Это же касается и жизни в Индии в 1968-1972 годах. Но тут я уже был постарше да и подсказать детали может большее количество людей, так как мои товарищи по школе при посольстве СССР в Дели ещё живы и мы периодически поддерживаем связь. Правда, с годами всё реже и реже…
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе