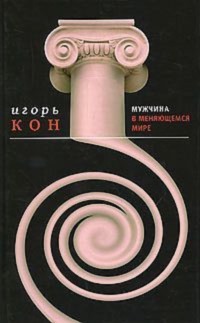Цитаты из книги «Мужчина в меняющемся мире», страница 3

Хотя мужчин называют сильным полом, с точки зрения теоретической биологии и медицины это утверждение сомнительно. Мужчины действительно физически сильнее женщин и имеют более высокий энергетический потенциал, но по целому ряду параметров они существенно уступают женщинам. Прежде всего это касается продолжительности жизни: в среднем мужчины умирают раньше женщин. Демографы называют это мужской сверхсмертностью. Похоже, что такая же закономерность действует и в животном мире, по крайней мере среди млекопитающих (Kohler, Preston, Lackey, 2006),

Само по себе высокое самоуважение не ведет к агрессии, но если оно не находит признания и подкрепления со стороны окружающих, оно превращается в опасный нарциссизм, некритическую самовлюбленность, которая может быть использована в каких угодно антисоциальных целях вплоть до терроризма. Многие религиозные экстремисты, и не только исламские, прямо говорят, что они призваны Богом исправить греховный мир и уничтожить тех, кто этому препятствует. Вот только боги и ценности у них разные. Между прочим, склонность к крайностям и экстремизму тоже типичное мужское свойство…

Базовый элемент, ядро индивидуализма – предположение, что индивиды независимы друг от друга. Нормативный индивидуализм выше всего ценит личную ответственность и свободу выбора, право на реализацию своего личного потенциала при уважении неприкосновенности других. Индивидуалистические культуры ставят во главу угла личные ценности, личную уникальность и личный контроль, отодвигая все социальное, групповое на периферию. Важными источниками субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью в этой системе ценностей является открытое выражение эмоций и достижение личных целей субъекта (Diener et al., 1999; Hofstede, McCrae, 2004). Напротив, базовый элемент коллективизма – представление, что социальные группы связывают и взаимно обязывают индивидов. Здесь обязанности стоят выше прав, а удовлетворенность жизнью вытекает не из личной самореализации, а из успешного выполнения своих социальных ролей и обязанностей и избежания неудач в этих сферах. Для поддержания внутригрупповой гармонии в коллективистской культуре рекомендуется не столько прямое и открытое выражение личных чувств, сколько ограничение эмоциональной экспрессии. Иными словами, индивидуалистические общества больше ценят независимость, а коллективистские – взаимозависимость.

Другой биологический коррелят любви к острым ощущениям, который, возможно, способствует гендерным и возрастным различиям, – моноаминоксидаза, фермент, поддерживающий равновесие нейротрансмиттеров. У людей с сильной потребностью в острых ощущениях уровень моноаминоксидазы ниже, чем у остальных. Это означает отсутствие или слабость самоконтроля и саморегуляции. У женщин уровень этого фермента выше, чем у мужчин, с возрастом его содержание в мозге и в крови повышается. Низкие уровни моноаминоксидазы обнаружены также у психических больных, стремящихся к немедленной эмоциональной гратификации (получению удовольствия или удовлетворения), не заботясь о последствиях.

Между генами и поведением стоит множество нейрохимических и иных факторов. Больше всего любителей риска и острых ощущений среди мальчиков-подростков и юношей. Военные всегда предпочитали в качестве солдат молодых мужчин не только из-за их физической силы, но и из-за их готовности рисковать жизнью. Но это также возраст максимальной жажды острых ощущений и пика тестостерона, секреция которого значимо коррелирует с «растормаживающими» типами любви к острым ощущениям, ассоциирующимися с пьянством, наркотиками, сексом и антисоциальным поведением. В нормальном поведении Т также коррелирует с доминантностью, общительностью и активностью. С уменьшением секреции Т мужские агрессивные и антисоциальные тенденции начинают ослабевать. Показатели 50—59-летних мужчин по любви к острым ощущениям вдвое ниже, чем у 16—19-летних. У женщин Т значительно меньше, но его поведенческие корреляты те же, что у мужчин (напористость, агрессия и сексуальное возбуждение).

Дофаминовый рецептор-4 (DRD4) (Munafo et al., 2008). Дофамин – важный нейротрансмиттер, регулирующий пути, связывающие мозговые центры удовлетворенности и удовольствия. Реагируя на стресс, он позволяет людям предвидеть вознаграждение и стимулирует ведущие к ним действия. Существуют две главные формы DRD4, причем одна из них преобладает как у индивидов, имеющих высокие показатели по жажде новизны, так и у некоторых наркозависимых личностей. Правда, этот ген ответственен лишь за 10 % генетических вариаций.

Единственный вид приматов, у которых практически нет агрессии и насилия, это карликовые шимпанзе бонобо. 29-килограммовая самка и 40-килограммовый самец бонобо – стройные, изящные и миролюбивые животные. Отсутствие в стаде институционализированного насилия обеспечивается прежде всего половым равенством. Самцы бонобо не имеют власти над самками и спариваются с ними только по взаимному согласию. Хотя в стаде бонобо существует определенная иерархия, ранг особи определяется не ее полом, а индивидуальными свойствами, происхождением и социальными связями – кто готов тебе помочь.

На протяжении всего постсоветского времени главные герои страны – бандиты и связанные с ними предприниматели. Многие отечественные сериалы и почти все кинохиты, от «Брата-2», «Побега» и «Боя с тенью» до «Антикиллера» и «Бумера», – это фильмы про насилие, главными субъектами и жертвами которого являются мужчины. Основной слоган, прозвучавший в «Бумере»: «Это не мы, это жизнь такая».

Прежде всего, происходит коррекция и модернизация традиционных имиджей гегемонной маскулинности. В условиях социальной нестабильности, разрушения какого бы то ни было правопорядка и, перефразируя формулу Ленина, криминализации всей страны в начале 1990-х годов среди молодежи стал популярен образ бандитской маскулинности, так называемых «братков», сочетающий культ жестокости и физического насилия с идеями воинского братства (по афганскому образцу). Вообще говоря, бандитская маскулинность была популярна в России и при советской власти. Хотя точное число заключенных ГУЛАГа неизвестно и приводимые учеными цифры сильно расходятся, счет идет на миллионы. По данным на 1 января 1953 г., за два месяца до смерти Сталина, в лагерях, колониях и тюрьмах числилось 2 625 тысяч заключенных плюс 2 753 тысячи ссыльнопоселенцев (Демографическая модернизация России, 2006. С. 425). Подавляющее большинство из них составляли мужчины. Тюремно-лагерные нравы оказывали сильное влияние на все население и культуру страны, тем более что у многих людей заключенные вызывали сочувствие. В хрущевские и брежневские времена настоящая и поддельная уголовная лирика стала любимым песенным жанром не только молодежи, но и самой рафинированной интеллигенции.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период главным символом и культовой фигурой маскулинности стал фронтовик. Это была реальная, но противоречивая фигура. Воинское товарищество было настоящим мужским братством – один за всех и все за одного. Для людей, прошедших войну, оно навсегда остается эталоном идеальных человеческих отношений. Послевоенная советская литература и искусство всячески культивировали эту тему, не столько по приказу, сколько из внутренней потребности бывших фронтовиков. Но хотя этот канон героической маскулинности был идеологически приемлем, он нередко, даже независимо от воли авторов, приобретал социально-критический оттенок. В послевоенные годы окопная дружба для многих мужчин стала нравственным эталоном, камертоном, по которому они оценивали действительность и с которым эта действительность сравнения не выдерживала. Социальное неравенство и всесилие партократии, которых до войны и во время войны не замечали, в послевоенные годы становятся все более кричащими, подрывая иллюзию всеобщего товарищества. Более того: оказалось, что при столкновении с коррумпированной бюрократией пасует даже проверенная кровью фронтовая дружба. Одним из первых это показал Виктор Некрасов в повести «В одном городе» (1954), где рассказывается, как фронтовики, не боявшиеся идти под огнем в атаку, не смеют поддержать товарища, восстающего против социальной несправедливости. За публикацию этой повести главный редактор журнала «Знамя» был снят с работы. Кстати сказать, в деспотической России, как до, так и после большевистской революции, гражданское мужество всегда было дефицитнее физического, и нередко его проявляли не привыкшие к дисциплине мужчины, а более экспансивные женщины. С этим связана и некоторая раздвоенность канона маскулинности: можешь ли ты закрыть собой амбразуру, и посмеешь ли ты выйти на площадь?
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе