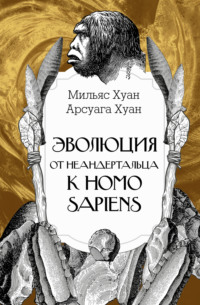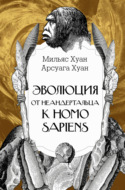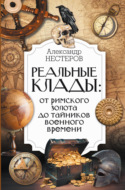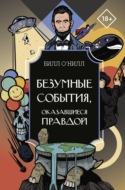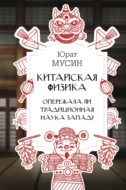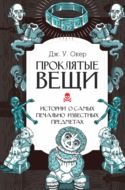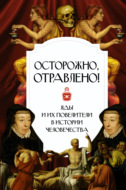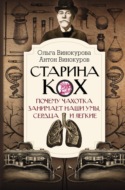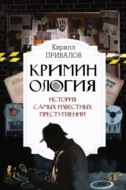Читать книгу: «Эволюция: от неандертальца к Homo sapiens», страница 3
– Обрати внимание, – ответил он, игнорируя мой вопрос, – на жир и мышцы.
– Жир и мышцы, – повторил я. – Ладно.
Я притворился, что смотрю на «Юдифь» Рембрандта и «Три грации» Рубенса, но, по правде говоря, у меня искры из глаз сыпались от боли, – надо было захватить с собой еще одну ампулу «Нолотила». Позже, после очередной «отключки», я обнаружил себя стоящим перед двумя «Махами» кисти Франсиско Гойи. Понятия не имею, как долго я шел от голландского художника к испанскому.
– Вот и решение загадки, – донеслись до меня воодушевленные слова палеонтолога. – Жир и мышцы. Обрати внимание на пропорциональное соотношение талии и бедер на картине «Маха обнаженная».
Я посмотрел.
– Подобное соотношение несет в себе идею плодовитости, и эта константа сохранилась в представлениях людей с древнейших времен вплоть до наших дней. Мы видим женщину, способную к деторождению, в период овуляции. Все остальное можно изменить, следуя течениям моды, но не тот факт, что у мужчин больше мышечной массы, в то время как в женском организме выше содержание жира. Можно изменить количество жира или мышц, но не то, как они распределяются в нашем теле. И именно благодаря этому мы можем наблюдать столь привлекательные для нас, мужчин, женские формы. Разве это не удивительно?
– Что именно?
– Половой диморфизм.
– Да, – сказал я.
– У каждого вида есть свои отличительные половые признаки. Я объясняю, какие характерны для нас. И это мы еще даже не коснулись современного искусства. Вспомни женщин Модильяни.
– О, Господи, женщины Модильяни, – прошептал я, скорчившись от боли.
Глава пятая
Революция малого
Как-то, в середине ноября, я получил от палеонтолога электронное письмо, в котором он назначал мне встречу в девять часов утра у мадридского рынка Чамартин. Он писал, что вернулся из Дублина и направляется в Бургос, но у него есть три часа, чтобы кое-что мне показать.
Я увидел, как мой приятель выходит из машины с ловкостью подростка, и мне он показался счастливым и жизнерадостным. Поездка в Дублин пошла ему на пользу. Когда Арсуага счастлив, с ним очень легко общаться, а к его красноречию добавляется сострадательный юмор – сострадательный по отношению к человечеству и его производным.
После сдержанных приветствий мы вошли на рынок и сразу же остановились перед прилавком, пестрящим многообразием форм и оттенков. Здесь были аккуратно разложены фрукты, овощи, бобовые, корнеплоды. По яркости и пестроте этот прилавок мог бы соперничать с флагом любой страны мира: красный, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, зеленый, оранжевый…
– Хотя мы собираемся говорить об эпохе палеолита, все, что ты здесь видишь, типично для неолита в том плане, что все это было культивировано человеком, – заметил Арсуага.
– Выходит, культивированный латук может стать флагом эпохи неолита? – попытался сострить я, однако мой комментарий был встречен совершенно равнодушно.
– Давай-ка сосредоточимся, – предложил профессор.
Как я уже говорил, мы остановились перед большим овощным прилавком на углу, где работали пять или шесть человек, и вскоре наше присутствие стало их удивлять: мы стояли напротив друг друга, а в нескольких сантиметрах от рта палеонтолога находился магнитофон. Я разместил его так близко, опасаясь, что окружающий шум помешает мне уловить точный смысл слов моего приятеля. Мы были двумя чудаками, распугивающими клиентов, но, похоже, я единственный обратил на это внимание, поскольку профессор был погружен в свои мысли и совершенно не замечал, как странно мы выглядели со стороны.
Шли минуты, давка нарастала, крики становились все громче, и мне пришлось подойти поближе к палеонтологу, чтобы как следует его слышать. Из одного конца овощного прилавка в другой с криками носились продавцы, требуя у коллег то килограмм репчатого лука, то пучок лука-порея. Непрерывный звон кассовых аппаратов давал представление о том, с какой радостью деньги переходят из карманов покупателей в карманы их поставщиков. Покупатели поглядывали на меня и палеонтолога, гадая, вероятно, не являемся ли мы приманкой, придуманной владельцем прилавка для привлечения народа. Арсуага продолжал свою речь, не подозревая о любопытстве, которое мы возбуждали в прохожих.
– Сосредоточимся, – согласился я.
– Представь, что мы привели сюда шимпанзе, гориллу и австралопитека.
Я слегка улыбнулся.
– Что смешного?
– Ничего.
– Нет, над чем ты смеешься?
– Смахивает на анекдот про англичанина, француза и испанца. Интересно, кто из них был бы испанцем.
– Очень умно. Итак, три примата. Смекаешь? Три примата, один из которых – гоминид. Три звена в цепи эволюции.
– Я понял, палеолит в чистом виде.
– Палеолит. Гориллы – травоядные или листоядные животные, то есть они питаются листьями, зеленью. В овощах они любят мякоть. В джунглях гориллу окружает море еды: среда, ландшафт – все это является источником пищи, поэтому она не переселяется в другие места. Вместе с тем, невзирая на изобилие продуктов питания, они содержат в себе очень мало калорий, поэтому в течение дня постоянно требуется что-то съедать. Как думаешь, что бы наша горилла сказала работникам этого прилавка?
– Не знаю, наверное, попросила бы упаковать для нее все продукты зеленого цвета.
– Именно: латук, шпинат, порей, щавель, салатный цикорий или эндивий… Все, что имеет зеленый цвет. Дайте мне всю зелень, какая у вас есть, сказала бы она.
– Верно.
– А теперь приходит шимпанзе, который является плодоядным животным. Он попросил бы спелые фрукты, а не зелень. Конечно, шимпанзе ест то же, что и гориллы, и наоборот. Нельзя сказать, что здесь существуют жесткие разграничения, но все же горилла по природе своей травоядна, а шимпанзе – плодояден. Важно, что в составе фруктов нет белка, а только сахар и вода.
– Сахар и вода, – повторил я, недоуменно подняв брови, так как продавец фруктов только что бросил на меня третий вопросительный взгляд.
– Ну что ж, – резюмировал палеонтолог, – пока сойдемся на этом: шимпанзе возьмет несколько килограммов фруктов, а горилла – несколько килограммов зелени.
– Хорошо.
– Теперь появляется австралопитек – примат, как и наши предыдущие знакомые, но вместе с тем уже принадлежащий к семейству гоминид. Он совершил поразительный эволюционный скачок: мы говорим о двуногом человеке ростом около пяти футов. Вспомни Люси и песни «Битлз».
– Помню.
– Австралопитек точно так же наполнил бы свою корзину фруктами и овощами, но коренные зубы этого гоминида крупнее, чем у шимпанзе и гориллы, и имеют прочную эмаль. Следовательно, кроме произрастающих в джунглях фруктов и овощей, он может пережевывать и другую пищу: продукты, которые ему не нужно дополнительно измельчать, – поэтому задние зубы у него развиты сильнее, чем передние. У шимпанзе, напротив, более развиты передние зубы, так как они были нужны для измельчения персика или чего-нибудь в этом роде. Австралопитек, который постепенно начинает выходить за пределы джунглей, включает в свой рацион продукты меньшей порционности, но вместе с тем более калорийные, поэтому его передние зубы уменьшились, а задние развились и приобрели более толстую эмалью. Понимаешь?
– Что-то изменилось, – сказал я.
– Что-то изменилось, – повторил палеонтолог. – Чем он питается? Он ест зерновые, бобовые, например чечевицу и фасоль. В ход идут и фрукты с кожурой, хотя кожуру ему приходится прокусывать. Челюсти парáнтропов, а австралопитек – это парантроп, были настоящими агрегатами для колки орехов. Мы еще поговорим о биомеханике, о теле как механизме. В общем, в пищу использовалось все то, что сегодня мы видим в форме консервов: чечевица, нут, горох, фасоль…
– Понятно, – сказал я, собираясь уходить, чтобы привлечь внимание к другому прилавку.
Арсуага меня остановил.
– Погоди, мы не можем отходить далеко отсюда, поскольку этот прилавок полностью иллюстрирует наши истоки. Видишь ли, у организма есть две задачи: аккумулятивная, связанная с питанием, и репродуктивная, связанная с воспроизведением потомства.
– Библейская заповедь: «Плодитесь и размножайтесь».
– Две задачи. Что нам для этого нужно?
– Ну…
– Я тебе отвечу: белки, потому что белок – основной строительный материал для нашего организма, а также липиды или жиры, из которых мы получаем калории, и углеводы – молекулы, обеспечивающие нас энергией. Организм преобразует углеводы в глюкозу, именно ее и потребляет мозг: глюкозу в чистом виде.
Неподалеку затрезвонил мобильный телефон, и какая-то сеньора стала судорожно шарить в сумке. Интуиция подсказала мне, что звонил ее муж; в ходе разговора она сообщила, что грибов нет, хотя стояла прямо перед ними. «В следующий раз, – заключила она раздраженно, – иди за покупками сам». Арсуага не обратил абсолютно никакого внимания на эту перебранку, он был все так же погружен в свои мысли, а я, продолжая слушать его, время от времени бросал стыдливые взгляды на продавцов и покупателей, которым мы преграждали путь.
– Для шимпанзе, – сказал тут палеонтолог, – дичь является своего рода лакомством, поскольку, как я уже упоминал, овощи имеют низкую калорийность. Некоторые группы самцов охотятся на маленьких обезьянок, особенно на детенышей.
– Они как-то объединяются? – изумленно спросил я.
– На эту тему много спорят. Как ты думаешь, волки действуют сообща или просто все вместе бегут за добычей? Лично я не считаю, что они как-то кооперируются. Совместные усилия в процессе охоты должны сопровождаться справедливым дележом. Так или иначе, это один из центральных вопросов социальной биологии, но я отношусь к нему скептически. Взаимодействие требует высокой сложности организации сознания.
– Ты говорил, что шимпанзе охотятся.
– На маленьких обезьян и детенышей травоядных животных, которые весят около килограмма. С точки зрения экономической ценности для организма это ничего не решает, но, подобно карамельке для ребенка, является хорошим стимулятором. Шимпанзе очень любят мясо, мозги. Мясо является своеобразной разменной монетой: такое лакомство не учитывается при общем подсчете калорий, но позволяет завоевывать расположение, проводить определенную политику, создавать альянсы, принуждать к сексу.
Как я заметил, уже некоторое время палеонтолог находился в ностальгическом расположении духа, и это стало сказываться на моем состоянии. Мне подумалось, что мы произошли от них, от охотников на маленьких обезьянок, бывших в ту эпоху чьим-то десертом. Я почти наяву видел себя и других членов семьи тянущими бедное, еще живое создание за лапы, чтобы оторвать их и положить в рот. Речь Арсуаги была сродни гипнозу: он начинал повествование, и ты словно переносился в другую эпоху. Когда я пришел в себя, во рту у меня все еще оставался привкус обезьяны, которую я только что съел, будучи шимпанзе.
– Если у тебя есть обезьяна, – сказал в этот момент палеонтолог, – ты обладаешь тем, чего желают остальные. Но вернемся к австралопитекам. Они выходят за пределы тропического леса и начинают потреблять новые виды ресурсов. Австралопитеки, запомни это, добираются до саванны, а она совершенно не похожа на луга. Многие путают саванну с лугами, но мы то знаем, как все обстоит на самом деле. Зерно растет в саванне, поскольку там суше, чем в тропическом лесу; кроме того, в саванне есть деревья и кустарники, плоды которых как раз находятся на высоте, соотносимой с ростом двуногого примата, именуемого нами австралопитеком.
– А существует ли четкая граница между джунглями и саванной? – спросил я.
– Нет, между ними плавный переход. Но в саванне, как я уже говорил, произрастает зерно, для обработки которого требуются ловкие руки. Шимпанзе или горилла не могут взять фисташку, ведь у них не развит хватательный аппарат. У всех приматов большой палец на руке противопоставлен остальным, но у обезьян он выглядит крайне забавно и из-за длины руки слишком далеко отстоит от подушечки указательного пальца. Рука шимпанзе напоминает крюк.
– Зато они без проблем повисают на ветке.
– Некоторые авторы, – продолжил Арсуага, – объясняют появление новых видов пищи отличительными особенностями человека: к примеру, ежевика, как и большинство ягод, растут на кустах. Таким образом, мы переходим в мир мелких по размеру фруктов и злаков, где отпадает необходимость в массивных передних зубах, а вот пальцы, чтобы хватать, и моляры для пережевывания этих самых фруктов и злаковых оказываются очень кстати. Вдобавок тебе не нужно лезть на дерево, ведь ягоды находятся на удобной для тебя высоте.
– Что еще ожидает австралопитека, покинувшего джунгли и отважившегося на исследование саванны?
– Свет. В тропическом лесу ни один фотон не достигает земли: все они рассеиваются где-то на своем пути. И это объясняется активным потреблением солнечного света листвой на деревьях. В тропическом лесу темно, почти как в тюрьме, в отличие от луга, где всегда много света. Австралопитеки предпочитают дневной свет.
Пока я размышлял о том, как мы узнали о существовании солнечного света, Арсуага повернулся к прилавку с фруктами и овощами, у которого мы стояли уже целый час, и восторженно воскликнул:
– Фруктовый прилавок – это нечто совершенно поразительное!
– Да, – согласился я.
– Смотри, – добавил он, – мы собирались совершить прыжок в неолит, но вместо этого, пожалуй, оставим австралопитека и обратим наш взор на Homo erectus14.
– Так даже лучше, – заключил я, – немного порядка не помешало бы.
Тогда палеонтолог повернулся ко мне и сказал недовольно:
– Послушай-ка, что это ты имеешь в виду? Это тебе не сказки. Хочешь сказок, почитай книгу Бытия, а эволюцию нельзя вписать в структуру рассказа: здесь нет завязки, кульминации, развязки. Эволюция – это мир хаоса.
– Разве в процессе эволюции одни события не следуют за другими? – наивно спросил я.
– Совершенно необязательно. Я придерживаюсь хронологического порядка исключительно для наглядности, понятно?
– Хорошо, хорошо.
– Смотри, более девяноста процентов калорий человек получает из четырех растительных культур: риса, пшеницы, картофеля и маиса, так что какой-нибудь инопланетянин отнес бы нас к группе вегетарианцев. А теперь вопрос: неандертальцы были плотоядными? Разумеется, ведь девять месяцев в году они не имели доступа ни к какой растительной пище. Плоды появляются в конце лета и осенью в огромных количествах, это да. Взять хотя бы желудь. Страбон характеризовал нас как народ, питающийся желудями.
– Желуди, наверное, долго хранятся?
– Ну, их нужно помолоть в муку и сделать лепешки. Осенью желуди девать некуда, поэтому лепешки ели круглый год, – к слову, лепешки были основой рациона для иберов. Однако в доисторические времена мельниц не придумали и перемалывать пищу еще не умели.
Наконец Арсуага решил двинуться дальше, и мы направились к удручающего вида прилавку с домашней птицей, как бы олицетворяющему эпоху Homo erectus, в надежде увидеть какой-никакой результат охотничьего промысла, представленный здесь, надо сказать, очень скудно.
– Раньше, – обратился он к продавцу, – куропатки и фазаны висели на крюках во всем своем оперении, и смотреть на них было одно удовольствие.
– Теперь нам не разрешают так делать, – как бы оправдываясь, сказал фермер.
– А этот вид голубей называется витютень?
– Думаю, да, – ответил мужчина, немного смущенный скудностью ассортимента на своем прилавке.
– Сейчас они как раз мигрируют в Африку, – пояснил Арсуага. – Эти птицы пролетают здесь пару раз за год, так что надо пользоваться моментом. Как бы то ни было, Homo erectus ел мало белого мяса по одной простой причине: на птицу было сложнее охотиться, чем, допустим, на оленя, чье мясо считается красным.
Мы уже некоторое время стояли перед птичьим прилавком, все глубже погружаясь в пучину разочарования, когда вдруг Арсуага схватил меня за руку и потащил прочь, негромко сказав при этом:
– Все это специально выращенная птица. Единственный доступный нам сейчас пример пищи, добытой в дикой природе, – это рыба, да и то в небольшом количестве. Лет через двадцать пять – тридцать не останется и дикой рыбы, ее будут выращивать на специальных фермах. Когда я был студентом, говорили, что море – это кладовая человечества. Теперь все не так, его ресурсы будут исчерпаны: мы слишком много потребляем. Обрати внимание: девяносто шесть процентов от общего веса млекопитающих Земли приходится на людей, коров и свиней. Можешь себе представить?
– Да, – изумленно сказал я.
– Что касается птиц, те из них, которые идут в пищу (главным образом куры и цыплята), составляют чуть более шестидесяти процентов от их общего количества на планете. Как тебе такое? На человека приходится треть всей биомассы млекопитающих в мире.
Я, конечно, был в недоумении.
– Добывать морепродукты, – продолжил он, остановившись перед рыбным прилавком, – начинают в конце палеолита. Это переходный вид деятельности. В доисторическую эпоху животные сбивались в большие стада: лошади, мамонты, бизоны… Важно понимать, что эти животные были огромных размеров, следовательно, чтобы получить тот же объем калорий, который содержится в мясе условной лошади, тебе придется съесть реально много мидий. Переход к малому произвел настоящую революцию. Переход от лошади к моллюскам стал настоящим прорывом – экономическим, ментальным, социальным. Послушай, – добавил он, взглянув на часы, так как уже прошло пару часов и времени у него было в обрез, – сегодня нам придется завершить наш разговор на геофитах.
– Геофитах?
– Этот термин введен ботаником, описавшим биотипы различных растений. Геофиты – это растения, почки возобновления и окончания побегов у которых сохраняются в земле. К ним относятся луковицы, клубни, корни и корневища. Прорастают они раз в год. Особенность геофитов в том, что пищевую ценность представляет та их часть, которая находится под землей. Я имею в виду крахмал – углеводы, короче говоря. Именно так растения запасают энергию: с помощью крахмала. Так, картофель – это чистый крахмал. Пшеница – это крахмал, и рис тоже. В общем, геофиты накапливают крахмал под землей. Понял?
– Да, понял.
– Растения не любят, когда их едят, и те из них, о которых мы говорим, защищаются, зарываясь глубоко под землю, – так глубоко, чтобы мелкие животные не могли до них добраться. Для меня важно, чтобы тебе было понятно, что такое «геофит».
– Понятнее некуда, поверь мне.
– В Европе они не играют важной роли, они важны в Африке, откуда все мы родом. Давай вернемся к овощному прилавку.
Мы вернулись к изумлению продавцов, которые уже, вероятно, потеряли нас из виду.
– А вот и батат, пришедший к нам, конечно же, из Латинской Америки, из Анд. Он богат крахмалом и служил пищей для многих людей. Вспомни картофель, кормивший всю Ирландию до голода, разразившегося в 1845 году из-за похожего на грибок микроорганизма, уничтожившего не один урожай картофеля. Это была монокультура, которую съедали целиком, вместе с кожурой и всем остальным.
– В детстве, – сказал я, – я жил в Валенсии и часто ел батат. Обычно мы запекали его в духовке.
– А это юкка, еще один геофит. Пробовал когда-нибудь?
– Не знаю, вряд ли.
– Запомни: лук, чеснок, порей, спаржа, картофель, батат… Все, что ты здесь видишь, это геофиты. Культивированные, разумеется, но все же геофиты. Почему они важны?
– Потому что утоляют голод.
– Потому что это чертовски хороший энергетический ресурс, если знаешь, как их добывать. А что для этого нужно? Ну, что-то вроде «копья наоборот», направленного не вверх, а вниз. «Копье наоборот», или палка-копалка, – это символ женщины эпохи палеолита точно так же, как копье, направленное в небо, – символ мужчины.
– Да уж.
– О важности геофитов мы знаем благодаря известным в настоящий момент поселениям охотников-собирателей. Мы выяснили, что мужчины занимаются охотой, а женщины – собирательством (лягушки, насекомые, геофиты и тому подобное). Половина калорий поступает в рацион благодаря охотничьему промыслу мужской части населения, вторая – за счет сбора геофитов женщинами, стариками и детьми. С помощью уже упомянутого мной приспособления (палки-копалки) вполне можно добывать геофиты, если обладаешь достаточно развитой физической силой, – вот почему для животных это ресурс крайне труднодоступный.
– А австралопитеки, с их телосложением, могли это сделать?
– Вряд ли. Но мы не можем знать наверняка, поскольку орудия труда изготавливали из дерева и до наших дней они не сохранились. Нет никаких палеонтологических находок, подтверждающих, что это так. Вместе с тем Homo erectus действительно был достаточно силен для добывания геофитов. С Homo erectus начинается разделение труда, сыгравшее очень важную роль в истории эволюции, – благодаря этому процессу значительно расширились экономические ресурсы, доступные человеку того времени. Нужно сказать, геофиты – простой ресурс, обеспечивавший дополнительный прием пищи, так что дети ели их постоянно. Как видишь, еда небольшого размера является стабильной базой в рационе. С точки зрения энергетической ценности мелкая корм мог быть не менее важен, чем крупная добыча на охоте. Преимущество малого в его доступности и предсказуемости.
– Насколько важную роль пища малого размера играла в рационе человека?
– Настолько, что она привела к возникновению неолита.
– Значит, неолитическая революция была революцией женщин?
– Да, и это принципиально. Хотя нельзя забывать о стариках, которые перестали охотиться, и о детях, которых еще не брали с собой на охоту.
– Кто же тогда изобрел сельское хозяйство?
– Вне всякого сомнения, женщины. Мужчина целыми днями гоняется за бизонами, лошадьми, мамонтами, крупной дичью, он стремится принести домой добычу, ведь это показатель его статуса, силы. Рисунки доисторического периода показывают нам возвращение охотников к ждущим их детям, старикам и женщинам. Хотя более точным, на мой взгляд, было бы изобразить охотников, возвращающихся с пустыми руками, и женщин, которые дожидаются их с геофитами, моллюсками, какой-никакой мелкой едой, наконец.
– Доступная, предсказуемая пища.
– Вот тут-то и возникает необходимость в управлении теми природными ресурсами, которые находились под рукой у человека в те времена, что на шаг приближает нас к появлению сельского хозяйства. Управление этими ресурсами уже подразумевает достаточно высокий уровень когнитивного развития. Например, ты должен знать времена года; понимать, что делать весной, а что – осенью. Чтобы использовать систему в своих интересах, надо знать, как она работает. Нужно понимать, кто твой друг, а кто враг. Напоследок – мне уже нужно бежать – помни о разнице между предпочтительным и культивированными видами растений. Выращивая или способствуя появлению какого-то растения, ты еще не занимаешься сельским хозяйством, но делаешь шаг на пути к нему.
– Погоди, приведи пример предпочтительного вида.
– Ну смотри, желудь, думаю, обычно был горьким. Возможно, однажды они обнаружили дуб, который давал сладкие желуди, и выкорчевали все остальные, чтобы этот мог развиваться. Но это всего лишь гипотеза.
Я проводил палеонтолога до выхода с рынка, где его ждала машина, у дверей которой мы попрощались.
– Нам остался неолит, – сказал он, опуская стекло, прежде чем автомобиль тронулся с места.
Затем я вернулся на рынок, чтобы купить полкило донаксов15 и немного батата.
– Что это? – спросила жена, войдя на кухню.
– Мелкая еда, – ответил я. – Обед эпохи позднего палеолита. Вот увидишь, как это вкусно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе