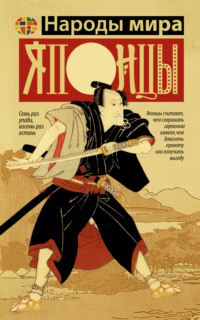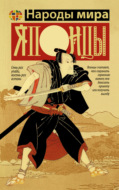Читать книгу: «Японцы», страница 3

Кацусика Хокусай. Работа на рисовом поле
Выходом стал веер, даваемый осужденному в руки вместо кусунгобу. С одной стороны, веер символизировал меч и намерение – как только осужденный касался своего живота кончиком веера, кайсяку ударял его мечом по шее. С другой стороны, веером нельзя было нанести никакого вреда окружающим.
У людей, не знакомых с японскими представлениями, нередко возникает вопрос – почему бы вместо мучительного и довольно тяжелого в исполнении вспарывания живота не полоснуть себя острым кинжалом по горлу. Результат тот же, а мучений гораздо меньше и не требуется содействие кайсяку. Дело в том, что, согласно поверьям японцев, душа человека находится в хара, его утробе. Вспарывая хара, самурай демонстрирует искренность и чистоту своих намерений, показывает твердость в желании уйти из жизни. Но если на вспарывание живота нет времени, а обстоятельства требуют немедленно покончить с собой (например – при угрозе пленения, которое считается крайне позорным), самурай может перерезать себе горло без всякого ущерба для репутации. Японцы верны своим традициям, но в то же время они понимают, что иногда традициями можно и нужно пренебречь. Также перерезание горла или удар ножом в область сердца практиковали дамы из самурайских семейств.
Пожалуй, на этом можно закончить и печальную тему, и текущую главу, чтобы в следующей поговорить о веселом – о традиционных развлечениях японцев. Осталось прояснить только один момент – так почему же иностранцам так нравится слово «харакири»? Виноваты в этом японцы, которые в обиходе предпочитают говорить «харакири», даже если речь идет о сэппуку. «Сэппуку» – официальный термин, «харакири» – бытовой, и его иностранцам приходилось слышать гораздо чаще34.
Глава третья
Тя-до как воплощение омотэнаси

Великий Басё36, как и многие японцы, любил чай. Общеизвестно, что японцы любят чай настолько, что создали особую традицию его употребления, которая у многих иностранцев вызывает недоумение – ну зачем же все настолько усложнять? Британцы, к примеру, пьют чай в пять часов дня, с молоком и сладостями, без каких-то там выкрутасов. А японцы навыдумывали такого, что десять раз подумаешь – затевать чаепитие или просто воды выпить? Но это же японцы, они любят все усложнять!
На самом деле японцы склонны все упрощать. Взять нечто и отбросить все лишнее и ненужное, оставив самую суть, – это очень по-японски. Знаете, на чем основано «японское чудо», весь этот научно-технический прогресс? На высокой культуре коллективного труда, усердии в достижении цели и продуманном стремлении к простоте (вам только что открыли Главный Секрет Японской Нации, можете гордиться оказанным вам доверием).
Несведущие люди, склонные к скорым выводам, пытаются объяснить чайную церемонию тя-до37 свойственной японцам приверженностью к традициям. Мол, традиция сохранилась с незапамятных времен, чуть ли не сама Аматэрасу-о-миками ее основала, а вот ритуальный смысл ее давно утерян…
Но на самом деле чай появился в Японии только во второй половине XII века благодаря буддийскому монаху Эйсаю, который дважды посещал китайскую империю Сун38 с целью постижения учения дзен, а заодно распробовал и полюбил чай. Эйсай привез на родину семена чая, начал его выращивать и написал свои известные «Записки о здоровье, происходящем от пития чая», в которых рекомендовал лечить чаем многие болезни, начиная с несварения желудка и заканчивая параличами. К середине XIV века чай стали пить по всей стране, правда, стоил он недешево, считался изысканным напитком и потому был доступен далеко не всем. Но по мере роста чайных плантаций цены на чай снижались и все больше японцев приобщалось к этому божественному напитку. Именно – божественному, ведь, согласно преданию, первые чайные кусты выросли из ресниц основателя учения дзен Бодхидхармы. Однажды, борясь со сном во время медитации, Бодхидхарма вырвал свои ресницы и бросил их на склон горы Ча. На этом месте вырос сорт чая, называемый байхао, что на китайском означает «белые ресницы», а от него произошли другие разновидности.
Чай набирал популярность, но ритуала, связанного с его употреблением, пока не было. У дзен-буддистов имелся свой чайный ритуал, но он был достоянием посвященных, знавших, что «ча и чань имеют один вкус» («ча» – название чая в Северном Китае39, а «чань» – китайское произношение иероглифа «禪», который японцы читают как «дзен»). Но в кругах любителя чая получило распространение состязание то-тя40, в процессе которого каждому участнику подавалось от десяти и больше чашек чая и нужно было по вкусу определить сорт или же, в более простом варианте, узнать элитный сорт среди прочих. Японцы – азартная нация, они любят испытывать удачу, так что то-тя быстро прижилось. Человек с тонким вкусом мог вы-играть на чае целое состояние, поскольку ставки в этой игре состоятельных людей были весьма высокими.
Невозможно представить встречи богатых и утонченных особ без поэзии. Общение без поэзии – все равно что чай без заварки. Участники то-тя старались превзойти друг друга не только в тонкости вкуса, но и в умении «нанизывать бусины слов на нить смысла». Гостеприимному хозяину положено заботиться о том, чтобы гости не скучали, поэтому устроители состязаний предлагали вниманию участников известные стихотворения или изречения, которые служили отправной точкой для игры ума. «Дэба ботё – для рыбы, йоки – для дерева»41, – говорят японцы, подразумевая, что для каждого занятия нужны свои инструменты. Точно так же для каждого мероприятия хорошо иметь особое помещение, в котором все устроено наилучшим образом. Для то-тя начали строить отдельные павильоны…
Самурайские чайные состязания были пышными и этим они разительно отличались от скромного чайного ритуала буддийских монахов. В XV веке монах Мурата Дзюко, ученик знаменитого Иккю Содзюна, настоятеля монастыря Дайтоку-дзи в Хэйан-кё42, создал светский ритуал чайной церемонии и обучил ему Ёсимасу, восьмого сёгуна из династии Асикага. Сёгуну стали подражать самураи из его окружения, от которых новшество переняли их вассалы, и вот так, словно круги по воде от брошенного камня, церемония тя-до распространилась по всей стране.
Суть тя-до превосходно выразил живший в XVI веке монах Сэн Рикю, который всю свою жизнь посвятил изучению чайных традиций. О мастерстве Рикю можно судить хотя бы по тому, что служил мастером чайной церемонии у Оды Нобунаги и его преемника Тоётоми Хидэёси43. Однажды Рикю спросили, в чем заключаются секреты тя-до.
«Есть семь секретов, – ответил Рикю. – Завари чай так, чтобы твой гость получил от него удовольствие. Раздуй угли, чтобы вода закипела. Расставь цветы как следует. В помещении должно быть прохладно летом и тепло зимой. Предугадывай желания. Держи всегда зонт под рукой, даже если не идет дождь. И пусть твое сердце чувствует сердце твоего гостя».
Пьет свой утренний чай
Настоятель в спокойствии важном.
Хризантемы в саду.
(Басё)
Предугадывание желаний гостей, приглашенных на чайную церемонию, начинается с того, что первым делом их ведут к туалету, ведь наслаждаться утонченным чаем можно только после того, как очистишься от всего лишнего. Человеку, никогда не бывавшему в японских туалетах, можно посоветовать прочесть гимн в прозе, написанный известным писателем Танидзаки Дзюнъитиро, эстетом и ценителем японских традиций.
«Каждый раз, когда я бываю в храмах Киото или Нары и меня проводят в полутемные, но идеально чистые уборные, построенные в старинном японском вкусе, я до глубины души восхищаюсь достоинствами японской архитектуры. Комнаты для чайной церемонии тоже имеют свои хорошие стороны, но японские уборные поистине устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой. Они непременно находятся в отдалении от главной части дома, соединяясь с ней только коридором, где-нибудь в тени древонасаждений, среди ароматов листвы и мха. Трудно передать словами это настроение, когда находишься здесь в полумраке, слабо озаренном отраженным от бумажных рам светом, и предаешься мечтаниям либо любуешься через окно видом сада. Писатель Сосэки44 одним из наслаждений признавал времяпрепровождение в уборной утром и называл это разновидностью физиологического удовольствия. Для достижения этого удовольствия нет более идеального места, чем японская уборная, – здесь человек, окруженный тихими стенами с благородно простыми деревянными панелями, может любоваться через окно голубым небом и зеленой листвой. Но для этого, повторяю, непременными условиями являются некоторый полумрак, предельная чистота и такая тишина, чтобы ухо различало даже комариное пение. Находясь в такой уборной, я люблю слушать шелест дождевых капель. В провинции Канто, где принято устраивать в уборных на уровне пола узкие и длинные раздвижные форточки для удаления через них выметаемого сора, мягкий звук капель, падающих с карниза и листвы к подножию каменных японских фонарей, слышится как-то особенно близко от уха: вам кажется даже, что вы различаете, как эти капли увлажняют мох на каменных плитах, разбросанных на дорожке, и проникают в землю. Поистине уборная хороша и для того, чтобы слушать в ней стрекотанье насекомых и голоса птиц, и вместе с тем самое подходящее место для того, чтобы любоваться луной и наслаждаться разнообразными явлениями четырех времен года. Я думаю, что поэты старого и нового времени именно здесь почерпнули бесчисленное множество своих тем. Это позволяет мне утверждать, что из всех построек японского типа уборная наиболее удовлетворяет поэтическому вкусу. Наши предки, которые не в состоянии были оставить что-нибудь неопоэтизированным, из места, долженствующего быть самым нечистым во всем доме, создали храм эстетики, связанный с цветами, птицами, луной, красотами природы и трогательными ассоциациями. Я нахожу, что, сравнительно с европейцами, безо всяких обиняков находящими уборную нечистым местом и избегающими даже упоминать это слово в обществе, наше отношение к этому учреждению гораздо разумнее и несравненно эстетичнее. И если уж говорить о недостатках японской уборной, то можно лишь указать на удаленность ее от главной части дома, делающую неудобным сообщение с нею среди ночи и создающую возможность простудных заболеваний в зимнее время. Но еще писатель Рёкуу Сайто45 говорил, что "поэтический вкус – вещь холодная". Я считаю, что приятнее, когда в подобных местах стоит температура не выше температуры внешнего воздуха. Как неприятны европейские уборные в отелях с их паровым отоплением и постоянно нагретым воздухом»46.
Для японца нет ничего кощунственного в сравнении туалетов с чайными комнатами, а также и того, что Путь чая начинается с отхожего места. Помимо возможности облегчиться перед церемонией, посещение туалета служит намеком на неразрывную связь высокого и низкого, духовного и телесного.
В японских домах можно увидеть любые туалеты, кроме грязных, ведь японцы буквально зациклены на чистоте. Но когда-то давно привычку к чистоте приходилось прививать. Очень интересно наблюдать за тем, как менялись привычки и представления японцев. В XIII веке великому Догэну47 пришлось отвлечься от мудрых дум ради того, чтобы составить наставление для монахов, касавшееся правил посещения отхожих мест. Это наставление можно считать образцовым, поскольку его составитель предусмотрел все, что только можно, начиная с переобувания на входе и заканчивая семикратным омовением рук – трижды с золой, трижды с землей, один раз со стручками гледичии, которые в старину заменяли мыло, и напоследок ополоснуть водой. Особенно умиляют запреты гадить на пол, плеваться, писать на стенах (оказывается, эта привычка появилась в незапамятные времена), смеяться и петь песни.
Чайный павильон располагается в глубине небольшого сада, именуемого тя-нива48. Сосны и кипарисы создают тень, бамбук словно желает гостям процветания и напоминает о верности49, цветущие кустарники радуют взор, а поросшие мхом камни служат олицетворением вечности. Дорожка к павильону извилиста, она выложена камнями, словно горная тропа, и называется ро-дзи («земля, покрытая росой»). Это название идет от первых чайных церемоний, проводившихся во дворце сёгуна Асикаги, где приходилось выстилать дорожку к павильону бумагой, чтобы роса не намочила одежды идущих.
Перед входом в чайный павильон тя-сицу50 стоит каменный умывальник с проточной водой для омовения рук перед церемонией. Павильон похож на обычную крестьянскую хижину, крытую соломой. Суть чайной церемонии заключается в умиротворении и отрешенности от всего суетного, так что роскошь здесь ни к чему. Да и вообще истинная красота постигается умом, а не глазами. Низкая дверь, через которую приходится проходить чуть ли не ползком, несет в себе три символических смысла. Во-первых, она олицетворяет равенство всех собравшихся, ведь любому, вне зависимости от его статуса, приходится низко кланяться при входе. Во-вторых, через такую низкую дверь невозможно пройти с катаной за поясом, так что самураям приходилось оставлять мечи снаружи, а вместе с мечами снаружи оставались и все заботы. В-третьих, выход из павильона олицетворял рождение, ведь из материнского чрева человеку тоже приходится выходить через тесный проход. Побывав на церемонии, человек словно бы рождался заново, выходил в мир с чистыми помыслами и без груза забот на сердце…
Вам еще продолжает казаться, что японцы «все усложняют» и что чайная церемония «не имеет смысла»?
Вышеупомянутый монах Эйсай предложил растирать чайные листья в порошок, как это делали в сунском Китае. Так появился японский чай мат-тя51. Китайцы со временем отошли от растирания листьев, а японцы сохранили эту технику до наших дней и усовершенствовали ее. Мастер чайной церемонии, ожидающий гостей в павильоне (в его роли может выступать хозяин), разводит растертый чай горячей водой, взбивает смесь бамбуковым венчиком и с поклоном подает чашку гостю. Совершив ответный поклон, гость принимает чашку и отпивает три глотка терпкого, густого напитка. Как вариант, гостям может подаваться общая чаша с чаем, которую они передают по кругу. Одни усматривают в этом объединяющий ритуал, а другие видят отголоски масштабных чайных состязаний, когда из-за нехватки чашек их приходилось передавать друг другу.
Для того чтобы скрасить ожидание чая, гостям подаются легкие закуски тя-кайсэки, которые служат не для насыщения, а для того, чтобы «заморить червячка», заглушить чувство голода – приготовленный на пару рис, сезонные овощи, ломтики сырой рыбы или другие морепродукты. Угощение на чайных церемониях подается скромное, ведь главную роль здесь играет чай, а не еда. Название «кайсэки» переводится как «камень за пазухой» – такие камни, нагретые на огне, клали за пазуху буддийские монахи во время своих медитаций, дабы тепло расслабляло желудок и уменьшало чувство голода. После кайсэки могут быть предложены сладкие десерты-вагаси, тоже в небольшом количестве.
После закусок или после дегустации мат-тя гости выходят в сад, чтобы полюбоваться природой и размять ноги, ведь сидеть приходится по-японски, на коленях. В чайной комнате тем временем происходят перемены – вертикальный свиток какэмоно52 с каллиграфией или картинами, висящий в нише под названием токонома53, мастер-хозяин заменяет на тя-бана – композицию из цветов или веток. Какэмоно выполнил свое предназначение – задал тон встрече, побудил гостей к размышлениям, и теперь настал черед цветочных композиций, которыми гости могут любоваться. К концу церемонии цветы должны раскрыться, давая понять собравшимся, что настало время прощания… Подобно какэмоно, тя-бана заключает в себе определенный смысл, выражаемый посредством ханакотоба – языка цветов. Так, например, пион, олицетворение чести и отваги, выражает уважение хозяина к своим гостям и восхищение их достоинствами, желтые камелии намекают на то, что все в этой жизни преходяще, а красные камелии говорят о любви…

Кацусика Хокусай. Знатный вельможа сидит на веранде своего дома, созерцая пейзаж
Следом за терпким мат-тя наступает черед легкого листового чая, который всегда подается каждому из гостей в отдельной чашке. Теперь можно начинать беседу о чем-то возвышенном или отвлеченном, но ни в коем случае не о повседневных делах. Попутно можно любоваться чайной посудой, тя-бана или видом из окна. Узнав о том, что некоторые чайные церемонии могут готовиться месяцами, иностранцы недоуменно пожимают плечами – ну что там готовить? Знали бы они, сколько времени может уйти на поиски редких чашек, которым предстоит стать «гвоздем программы»… Правила гостеприимства требуют представить вниманию гостей нечто диковинное, нечто такое, что сделает этот день запоминающимся…
В конце церемонии хозяин выходит в сад, чтобы дать возможность гостям полюбоваться посудой и тя-бана, а также обменяться мнениями о проведенном времени. Уходящих гостей положено провожать почтительным поклоном… Заключительным «аккордом» становится уборка, которую производит в павильоне хозяин. Смысл ее заключается в том, что церемония должна оставлять след только в сердцах ее участников.
Вникните в смысл тя-до, и вы поймете, что в ней нет ничего лишнего, ничего надуманного, ничего нарочито усложненного. Нужно понимать, что чайная церемония – это просто не совместное распитие чая, а нечто большее… Тот, кто читал внимательно, должен был все понять.
Впрочем, нет – тя-до нельзя понять до конца, не будучи знакомым с японской концепцией омотэнаси и связанным с ней принципом ити-го ити-э54, согласно которому каждое событие в жизни человека неповторимо, и потому человек должен дорожить каждым событием. Принято считать, что первым этот принцип сформулировал великий знаток чая и всего, что с ним связано, монах Сэн Рикю, но и до него умные люди умели ценить каждое мгновение жизни и не откладывали на будущее ничего из того, что можно было сделать сейчас. Иностранцы часто называют итиго итиэ «японским искусством быть счастливым», но правильнее было бы назвать его «японским искусством правильной жизни», а счастье уже служит приложением к правильности бытия.
Создание омотэнаси, проистекающего из принципа итиго итиэ, тоже приписывают Сэну Рикю. Омотэнаси – это японская философия гостеприимства… Нет, правильнее будет сказать, что омотэнаси – это искусство создания комфортных ощущений у окружающих. Японская вежливость, которая так восхищает иностранцев, это не столько вежливость, сколько стремление сделать гостям (и вообще всем окружающим) как можно больше приятного, чтобы люди чувствовали себя наилучшим образом. Вы можете представить, чтобы английские футбольные болельщики по окончании матча собирали на трибунах оставленный ими мусор? Сложно поверить, что такое вообще возможно. А вот японские болельщики поступают так постоянно, несмотря на наличие штатных уборщиков на стадионах. Этого требуют правила омотэнаси, впитываемые японцами с молоком матери. Формально по отношению к уборщику стадиона болельщик выступает в роли гостя, и это уборщику положено создать максимальный комфорт для болельщика (что он, собственно, и делает, поскольку чистота и благоустроенность японских стадионов заслуживают всяческого восхищения). Но омотэнаси – это двусторонний процесс. Хозяева заботятся о гостях, гости заботятся о хозяевах, все заботятся о всех, и в результате жизнь каждого становится лучше и приятнее.
Разумеется, японское общество не следует идеализировать, ведь люди бывают разными – у одних достоинства преобладают над недостатками, а у других наоборот. Но, как сказал Сюнь-цзы55: «там, где воздух свеж, болезней меньше».
Все листья сорвали сборщицы…
Откуда им знать, что для чайных кустов
Они – словно ветер осени!
(Басё)
Глава четвертая
Ваби-саби

В последнее время на Западе стала модной японская философская концепция ваби-саби, которую называют и «стилем жизни японцев», и «мировоззрением японской нации», и «главным секретом японцев» (если послушать иностранцев, то у японцев этих главных секретов больше, чем воды в океане). Если хотите поставить японца в затруднительное положение, чего, по правилам омотэнаси, делать, конечно же, не следует, то спросите у него, что такое ваби-саби – стиль, мировоззрение или что-то другое? Очень сложно объяснять то, что усвоено с младых лет на уровне бессознательного и ни в каких объяснениях не нуждается. Но если уж задаться такой целью, то лучше всего, пожалуй, подойдет слово «атмосфера». Ваби-саби – это атмосфера японской жизни, а также и стиль, и мировоззрение, и путь…
Ничто не вечно, ничто не совершенно, но подлинная красота скрыта в простоте. Вследствие того что один иероглиф может иметь несколько значений, смыслы сочетания иероглифов бывают весьма многогранными, весьма сложными. «侘寂»(«ваби-саби») можно перевести как «скромная умиротворяющая простота…» и добавить к этому «…в которой заключена истинная красота». Чайная церемония тя-до – образцовый ритуал ваби-саби, который дополняется садом, устроенным по правилам ваби-саби, и чайной посудой в стиле раку, появившемся по просьбе великого знатока чая и искреннего ценителя простоты Сэна Рикю.
В бытность свою мастером чайной церемонии у Тоётоми Хидэёси Рикю попросил керамиста Танака Тёдзиро, изготовлявшего черепицу для строящегося дворца Хидэёси в Хэйан-кё, сделать чайные чашки, которые стали бы воплощением строгой простоты – только такая посуда, по мнению Рикю, годилась для идеальной чайной церемонии.
Тёдзиро отказался от гончарного круга и вылепил чашки руками, отчего они получились немного неровными и ни одна не была полностью похожа на другую (а уникальность ценится не меньше простоты, ведь каждое мгновение жизни неповторимо). Обжиг был недолгим и проводился при относительно низких температурах, ввиду чего изделия получились пористыми, шероховатыми на ощупь. Для покрытия Тёдзиро использовал черную и красную глазурь, которую накладывал с нарочитой небрежностью – неровно и с потеками. Новый стиль требовал названия. Дворец, в строительстве которого принимал участие Тёдзиро, носил название Дзюракудай («聚楽第»)56. Тёдзиро позаимствовал из названия дворца средний иероглиф «раку» («楽»), означавший не только «наслаждение», но и «простоту». Тоётоми Хидэёси был крестьянским сыном, которого судьба вознесла к сияющим вершинам власти, но, несмотря на свое низкое происхождение, он умел ценить красоту. Изделия Тёдзиро настолько впечатлили Хидэёси, что в 1584 году тот издал указ, согласно которому Тёдзиро получил новую фамилию «Раку». По японским понятиям, то была великая честь – достижение мастера было увековечено наилучшим и наипочетнейшим образом. Вот так одна «простота» тянула за собой другую.
Понимая, что все в жизни преходяще, мы учимся наслаждаться каждым моментом. Понимая, что в мире нет ничего совершенного, мы учимся видеть красоту в несовершенном и незавершенном. Искренность предписывает нам быть самими собой и не пытаться казаться лучше, чем мы есть. Согласно традиционным японским представлениям, все попытки скрыть свой истинный возраст при помощи косметики, накладных волос или (храни нас Будда Амида!)57 пластической хирургии являются недостойными и смешными. Зачем стесняться своих лет, если они прожиты достойно? А если – нет, то стесняться следует не лет, а поступков… Техника кинцуги58 или кинцукурой59, использующая для реставрации керамических изделий смесь древесного лака с золотым или серебряным порошком, проникнута духом ваби-саби и полностью соответствует его канонам. Если разбитую чашку можно восстановить, то это нужно сделать из уважения к ней и тому, кто ее создал. Места склейки осколков незачем скрывать, напротив – их следует выделить золотом или серебром так, чтобы они сразу же бросались в глаза. Это будет напоминать о бренности всего сущего, о переменах, подстерегающих нас на каждом шагу, и о том, что далеко не каждое потрясение означает конец всего – чашку же склеили, и она продолжает свою жизнь, свое служение людям. Но ни в коем случае нельзя сводить кинцуги к банальной рачительности – японцы ценят вещи, в которые мастера вкладывают не только труд, но и частицу души, японцы любуются вещами, которые кажутся им красивыми, но при всем том японцы к вещам не привязываются и не дорожат ими чрезмерно, поскольку понимают, что рано или поздно случится расставание – или вещь уйдет от человека, или человек уйдет от вещи.
Кинцуги настолько укоренилось в жизни японцев, что некоторые мастера намеренно разбивали посуду для того, чтобы красиво склеить осколки. С точки зрения японской морали разбить для того, чтобы восстановить, – не очень-то и хорошо, потому что в этом присутствует фальшь.
Ваби-саби, без постижения которого нельзя понять ни отдельного японца, ни японскую нацию в целом, настолько глубоко проникло в жизнь японцев, что впору думать, будто оно существует с благословенных времен императора Дзимму. Но это не так, и история появления ваби-саби служит еще одним ключом к хранилищу секретов японского народа.
XIV век, о котором мы еще поговорим, был богат драматическими событиями. Представители знати боролись за власть, а простым людям приходилось затягивать пояса все туже, поскольку междоусобицы никогда и нигде не способствовали процветанию. Бедность выработала у японцев умение ценить то немногое, что они имели, искать красоту в простоте, а не в роскоши. Можно сказать, что японцы идеально приспособились к тяжелым временам, изменив мировоззрение настолько, чтобы обратить страдание в наслаждение. Разве может роскошь сравниться с буйством весны или элегантным увяданием осени? Если ты беден и всем недоволен, то дух твой неспокоен, а мысли суетны. Человеку, пребывающему в подобном состоянии, невозможно достичь успехов, и вообще жизнь его безрадостна. Если же человек принимает свою бедность как должное и способен наслаждаться тем, что имеет, то дух его спокоен и разум ясен. Такой человек и живет хорошо, и способен многого достичь. Это очень примитивное объяснение, но суть оно проясняет. Сила японцев заключается в умении довольствоваться тем, что есть, и умении использовать имеющееся наилучшим образом.
Традиционное японское искусство составления композиций из срезанных цветов и побегов, не очень верно называемое икебаной60, ведь цветы-то уже неживые, тоже можно считать частью или выражением ваби-саби. Возникло это искусство из традиции преподносить буддийским божествам цветы в знак почтения. Цветы преподносились с незапамятных времен, но только в XV веке религиозный ритуал развился в искусство, проникшее во все сферы жизни японцев. Миниатюрные композиции можно увидеть даже в автомобилях – так японцы наслаждаются красотой во время стояния в пробках.
Искусство икебаны японцам подарил буддийский монах Икэнобо Сэнкэй из храма Роккаку-до в городе Киото. В своем трактате «Истинная утонченность» Сэнкэй пишет: «Икебану обычно представляют в виде копирования природы, подражания естественному сочетанию растений, которые произрастают на полях и в горах. На самом деле икебана не является ни подражанием, ни миниатюрной копией. Составляя композицию икебаны, мы изменяем природный порядок, располагая одну маленькую веточку и один цветок в безграничном космическом пространстве и бесконечном времени, и эта деятельность является выражением человеческой души. В этот момент [cоставления композиции] единственный цветок олицетворяет в нашем сознании вечную жизнь».
Примечательно, что в наше время и икебана, и чайная церемония считаются женскими занятиями, а изначально составлением композиций и проведением церемоний занимались только мужчины.
Цветы – традиционные герои японской поэзии. К месту можно вспомнить знаменитое хайку Басё:
Азалии в грубом горшке,
А рядом крошит сухую треску
Женщина в их тени.
Прочтешь – и сразу представишь всю картину. Скромная хижина, готовится скромная еда, но азалии наполняют обстановку красотой, и нам кажется, что женщина, крошащая треску, тоже красива, таково магическое свойство тени, отбрасываемой азалиями. «Там, где растут азалии, живет счастье», – говорят японцы, и это неспроста, ведь азалии олицетворяют любовь, дружбу, верность и искренность. А вот цветы сливы служат немым благопожеланием.
«О, кому же еще
я мог бы отправить сегодня
ветку сливы в цвету?!
Ведь и цветом, и ароматом
насладится лишь посвященный!..»61 —
пишет Ки-но Томонори62 в хайку «Отломив ветку цветущей сливы, послал ее другу».
Хайку – яркий пример эстетики ваби-саби. Предельная простота, строго регламентированное количество слогов в трех строках (пять, семь и пять, всего – семнадцать)63 – это так по-японски. Да и вообще вся японская поэзия вместе с прозой отличаются простотой стиля в сочетании с глубиной смыслов. Обратимся к известному роману Харуки Мураками «1Q84»:
«В какой-то момент мир, который я знала, исчез или унесся куда-то, а вместо него появился другой. Словно переключили стрелки на железнодорожных путях. Мое сознание продолжает жить внутри того мира, которым порождено, а внешний мир уже начал меняться на что-то иное. Просто сами изменения еще не настолько значительны, чтобы я тут же это заметила. На сегодняшний день по большому счету почти все в новом мире остается так же, как в старом. И поэтому в ежедневной, практической жизни я не парюсь. По крайне мере, пока. Однако чем дальше, тем больше эти изменения будут расти – и тем стремительнее станет трансформироваться окружающая меня реальность. Погрешности разрастаются. И вовсе не исключено, что очень скоро моя житейская логика в новом мире утратит всякий смысл и приведет меня к сумасшествию. А может, и буквально будет стоить мне жизни»64.
В западной прозе сложные чувства героини могли бы быть расписаны на несколько страниц, а японцу Мураками хватило одного абзаца.
Обратимся к другому классику японской литературы – Оэ Кэндзабуро, который в своем творчестве пытался воплотить изменения, произошедшие с японцами по окончании Второй мировой войны (и надо признать, что ему это удалось).
«Я иду, всхлипывая, по утопающей в солнце спортивной площадке. Я ощущаю себя одиноким, по-настоящему одиноким. И это ощущение возникает не потому, что я один на залитой солнцем спортивной площадке, – мне представляется, что я в полном одиночестве глубокой ночью бреду по огромной, бескрайней пустыне: эту страшную картину я часто вижу во сне, и это все – сон»65.
Слов не так уж и много66, но каждое из них на своем месте и участвует в создании нужного впечатления, которое определено названием романа – «Опоздавшая молодежь». Впрочем, на этом лучше закончить литературный экскурс, иначе разговор о японцах и японской нации рискует превратиться в беседу о тонкостях и особенностях японской литературы.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе