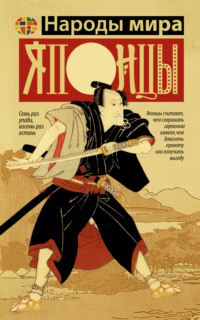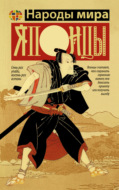Читать книгу: «Японцы», страница 2
Глава вторая
Сыны и дочери Яямато

Во второй половине III века японцы создали свое первое государство, центр которого находился в районе современного города Нара18. К середине IV века под властью японцев оказался почти весь остров Хонсю, а также остров Сикоку и север острова Кюсю. На севере Хонсю японцы воевали с автохтонным племенем эмиси, а на юге Кюсю – с племенами кумасо и хаято. В конечном итоге все эти племена были ассимилированы.
Название «Ямато» («大和») принято переводить как «Великая гармония», но нужно учитывать, что до того как в IV веке от китайцев были переняты иероглифы, японцы никакой письменности не имели, и потому мы не можем знать, какой смысл изначально вкладывался в название государства. «Великая гармония» появилась лишь на рубеже V и VI веков, а в 670 году название государства и правящей династии было изменено на «Ниппон» («日本») – «Источник солнца», или «Страна у солнца»). Но после переименования старое название не исчезло – оно сохранилось в качестве одного из названий японского императорского дома19 и стало неофициальным, возвышенно-поэтическим названием страны. Слова «японец» или «японка» могут произноситься с разными чувствами, но слова «сын Ямато» или «дочь Ямато» всегда звучат с гордостью и одобрением. Можно предположить, что некий человек может быть недостоин называться «сыном Ямато», но словосочетание «недостойный сын Ямато» режет слух, поскольку оно – сочетание несочетаемых смыслов.
Первым правителем японцев и основателем династии Ямато стал прапраправнук богини Аматэрасу, широко известный под именем Дзимму («Божественный Воин»), которое дал ему пятидесятый император Камму, правивший с 781 по 806 год. В летописях «Записи о деяниях древности» («Кодзики») и «Анналы Японии» («Нихон-секи») Дзимму появляется под именами Вакамикэну-но-Микото («Достойный, Утративший Молодость»), Тоёмикэну-но-Микото («Достойный, Утративший Богатство»), Каму-Ямато-Иварэ-бико-но-Микото и Каму-Ямато-Иварэ-бико-Хоходэми-но-Сумэра-Микото (где «Иварэ» – название местности, откуда происходит «божественный юноша»). Молодость и богатство Дзимму утратил, пока завоевывал территории для своего государства.
Скептики сомневаются в божественном происхождении Дзимму, но они вообще сомневаются в существовании первых двадцати восьми японских императоров, считая их мифическими персонажами. Так или иначе, божественное происхождение обеспечило японскому императорскому дому небывалую в истории человечества продолжительность правления длительностью в восемнадцать столетий (правление продолжается). Правда, не каждый император обладал реальной властью, но вот престол у потомков богини Аматэрасу никто отобрать не мог, поскольку божественное происхождение не может быть отозвано, в отличие от Небесного Мандата, служившего условным подтверждением легитимности китайских императоров и корейских ванов. Небесный Мандат дается свыше достойным людям и может быть отозван у их недостойных потомков. Если правитель не в состоянии удержать власть, он считается лишенным Мандата, а тот, кто придет к власти, станет его новым обладателем. При таком подходе династии могут сменяться бесконечно. Сравните восемнадцать веков продолжающегося правления японского императорского дома с четырьмя веками существования империи Хань. И учтите, что восемнадцать веков – это научный счет, а, согласно легендам, Дзимму основал Ямато 11 февраля 660 года до н. э., так что к восемнадцати можно добавить еще десять! Скептикам же рекомендуется почтительно припасть к «Анналам Японии», где сказано: «Весной года Каното-но тори, в начальном месяце, в день новолуния Каноэ-но тацу, государь во дворце Касипара вступил на престол. Тот год считают первым годом правления государей…»20.
Для того чтобы понять особенности японского менталитета, можно вспомнить похвалу стране, которую высказал Дзимму, поднявшись на холм Попома-но вока в Вакигами: «"Ах, какую прекрасную страну я получил! Хоть эта страна бумажной шелковицы узкая, но похожа она на выгнувшуюся стрекозу". Какое поэтичное сравнение и насколько оно здесь к месту! Подумав о красоте выгнувшейся стрекозы, уже не станешь сетовать на то, что твоя страна узкая».

Кацусика Хокусай. На городской улице
Согласно «Записям о деяниях древности» Дзимму покинул наш мир в возрасте ста тридцати одного года, а «Анналы» утверждают, что уход произошел, когда императору было сто двадцать семь лет. Дзимму не умер, его божественный дух покинул тело и вознесся на Равнину Высоких Неба к Аматэрасу-прародительнице. Дзимму стал ее помощником и занял второе место в иерархии синтоистских богов.
Отправляя на землю для покорения Японских островов своего внука Ниниги, которому Дзимму приходился правнуком, Аматэрасу вручила ему три священные регалии – бронзовое зеркало Ята-но кагами, яшмовые подвески Ясакани-но магатама и священный меч Кусанаги-но-цуруги, тот самый, который Сусаноо нашел в хвосте змея Ямата-но-ороти. В отличие от многих западных стран, где принято выставлять регалии правления на всеобщее обозрение во время официальных церемоний или же в музеях, священные регалии японского императорского дома могут видеть только жрецы-хранители, которые показывают зеркало, подвески и меч новому императору в день его восшествия на престол. Вот еще одно правило японцев – сокровенное никогда не выставляется напоказ. Исключение делается только для поэзии – в стихах можно самовыражаться, как угодно, можно душу наизнанку выворачивать, и за это никто не осудит. Напротив – похвалят, если стихи получатся красивыми.
Принято считать, что первое в истории стихотворение, приведенное в «Записях о деяниях древности», сочинил Сусаноо после примирения с Аматэрасу, когда та простила ему вольности на рисовых полях и осквернение ее покоев.
«В Идзумо, где в восемь гряд облака встают,
Покои в восемь оград,
Чтобы укрыть жену,
Покои в восемь оград воздвиг [я],
Да, те покои в восемь оград!»
Здесь можно увидеть похвальбу, но на самом деле это тонкое, завуалированное признание в любви, суть которого кроется в словах «чтобы укрыть жену». Японская поэзия лаконична, но «многослойна» – только вдумчивый читатель может проникнуть в авторский замысел. В качестве примера возьмем одно из стихотворений восемьдесят второго императора Го-Тобы21, бывшего на престоле с 1183 по 1198 год.
«К вершинам горным
Проложен путь извилистый
Не розами, а шипами!
Будь осторожен, странник,
Мечтая о высотах!» 22
На первый взгляд, император советует читателю не заходить в своих мечтах очень далеко, чтобы не пришлось идти по шипам. Но если прочесть стихотворение несколько раз и дать себе труд подумать над ним, то понимаешь, что перед тобой предостережение иного рода – мечтай о горных вершинах, но будь осторожен и понимай, что идти придется по шипам. Император Го-Тоба относился к числу сильных людей, не боявшихся плыть против течения. В 1221 году при поддержке некоторых феодалов он попытался вернуть императорскому дому реальную власть, которую узурпировалиаристократы из клана Ходзё, но потерпел не-удачу (в историю эта попытка вошла под названием Смуты годов Дзёкю)23.
Вместе с письменностью в Японию из Китая пришли буддизм, конфуцианство и даосизм, который не получил на островах широкого распространения, но наложил отпечаток на японскую культуру, обогатив ее магическими практиками предсказания будущего, исцеления болезней, призвания и изгнания демонов, а также алхимией (поиски «эликсира бессмертия», которые некоторые японцы ведут и в наши дни).

Кацусика Хокусай. Женщины в саду собирают лепестки сакуры
Буддизм, в отличие от синтоизма, прижился на японской земле и пустил здесь глубокие корни, что, на первый взгляд, может вызывать большое удивление, поскольку восприятие чужой религии идет вразрез с такими основополагающими качествами японского национального характера, как верность долгу и бережное отношение к традициям. Как могли сыны микадо24, ведущего свое происхождение от верховной богини синтоисткого пантеона, начать поклоняться Будде? Это ли не предательство? Это ли не измена?
Нет, не предательство, но для того чтобы проникнуть в суть, нужно знать историю. Государство Ямато, выросшее из крупного племенного союза, сохранило одну особенность, присущую подобным общностям, – в своем правлении японские императоры опирались не на централизованный управленческий аппарат, а на поддержку влиятельных семейств. Подобная политика часто приводила к тому, что глава «опорного» семейства забирал в свои руки всю верховную власть, а в конечном итоге появились сёгуны. Божественного микадо нельзя было свергнуть, но его можно было «почтительно освободить от рутинных дел», дабы он целиком посвятил себя служению богам, своей главной миссии. Стоит верховному жрецу-микадо начать совершать священные ритуалы небрежно или не в положенный срок, как на Японию сразу же обрушатся кары. Никто не может заменить императора при совершении ритуалов, а вот с земными делами вполне могут справиться обычные люди…
В середине VI века, когда Японией правил двадцать девятый по счету император Киммэй, реальность существования которого не вызывает сомнений ни у кого из историков, опорами престола выступали три знатных семейства – Мононобэ, Накатоми и Сога. Главы этих семейств были высшими сановниками при императоре, в частности, Сога-но25 Инамэ занимал должность о-оми («великого оми»), аналогичную должности премьер-министра. У Мононобэ и Накатоми было одно важное преимущество перед Сога – божественное происхождение. Мононобэ вели свой род от Ниги-хаяхи-но микото, которого они (и не только они) считали внуком богини Аматэрасу и старшим братом Ниниги, предка Дзимму, а божественным предком Накатоми был ками Амэ-но коянэ-но микото. Основатель рода Сога, легендарный военачальник Такеноучи-но Сукунэ, был «всего лишь» потомком восьмого императора Когэна. Правда, после смерти Сукунэ, подобно многим выдающимся личностям, стал почитаться как ками, но тем не менее, по сравнению с Мононобэ и Накатоми, Сога считались худородными.
В 552 году правитель дружественного Ямато корейского государства Пэкче по имени Сонмён прислал императору Киммэю статую Будды Шакьямуни, сделанную из сплава золота с медью, а также несколько буддийских молитвенных флагов, благих зонтов и сутр26. К дарам прилагалось послание, прославляющее Будду и его учение. Когда император устроил совет со своими сановниками, Сога-но Инамэ сказал, что буддизм не следует отвергать, раз все соседние страны на западе почитают его, а Мононобэ и Накатоми заявили, что почитание чужих богов может вызвать гнев у своих богов. Мотивы Соги легко было понять, ведь в свете буддийских представлений его корни выглядели не хуже корней его конкурентов, да и для укрепления государственных устоев монотеистический буддизм был полезнее политеистического синтоизма.
Представители семейства Сога стали первыми японскими буддистами. Мононобэ и Накатоми пытались обратить это обстоятельство против Сога, объясняя все беды, начиная с наводнений и заканчивая эпидемиями, присутствием чужих богов на японской земле, но к девяностым годам VI века клан Сога усилился и стал играть ведущую роль в политической жизни страны. В 592 году Сога-но Умако, сын Инамэ, убил ставшего ему неугодным тридцать третьего императора Сусюна и, вопреки традициям, возвел на престол женщину – дочь своей родной сестры Сога-но Китаси-химэ и императора Киммэя, известную как императрица Суйкэ. Двумя годами позже буддизм получил официальное признание – Суйкэ издала указ, предписывавший подданным содействовать процветанию Трех Священных Сокровищ буддизма, к которым относятся Будда, Его учение и община Его последователей.
История человечества знает немало случаев ожесточенных конфликтов на религиозной почве, но японцам в этом отношении повезло – буддизм весьма гармонично встроился в сложившуюся систему синтоистских верований и стал служить дополнением к синтоизму. Исповедование буддийских ценностей не мешало японцам поклоняться синтоистским богам, ведь в конце концов буддизм – это не столько религия, сколько этико-философское учение, подобное конфуцианству, которое тоже прижилось в умах и сердцах японцев.
В 604 году, при императрице Суйко, японцы получили первый в своей истории свод законов, известный под названием «Уложение семнадцати статей». Автором «Уложения» был племянник императрицы, Сётоку, назначенный ее регентом (фактическими правителями государства при Суйко были Сога-но Умако и Сётоку). Разумеется, у японцев и до «Уложения» были правила, определявшие жизнь общества, но они не имели силы официального закона, единого для всех подданных императорского дома. Впрочем, «Уложения» представляли собой не столько кодекс, сколько сборник наставлений вроде «если вышестоящие не соблюдают ритуал, то среди нижестоящих нет порядка, если нижестоящие не соблюдают ритуал, то непременно появятся преступления». Ритуал – конфуцианское понятие, сущность которого заключается в том, что любое регулярно повторяющееся социальное действие должно совершаться по установленному порядку, иначе оно теряет значение и смысл. Любые отклонения от регламента исключаются, ведь они могут нарушить весь порядок мироздания. То же самое можно сказать и о правилах поведения, принятых в японском обществе, соблюдение которых является чем-то самим собой разумеющимся, а несоблюдение считается худшим из зол. Вплоть до наших просвещенных дней японцы в повседневной жизни руководствуются не столько законами, которые они почитают, поскольку относиться иначе к законам нельзя, сколько традиционными правилами, идущими с незапамятных времен, из глубины веков.
В 701 году японцы обрели «Кодекс Тайхо», который подвел итог реформам годов Тайхо, получившим название по девизу правления сорок второго императора Момму27. Дополненный вариант этого кодекса, изданный в 718 году, известен под названием «Кодекса Ёро»28, по девизу правления сорок четвертой императрицы Гэнсё.
У японцев весьма своеобразное отношение к смерти. Если в западной (европейской) традиции смерть воспринимается как нечто страшное, то для японцев смерть является закономерным завершением жизни, конечным этапом жизненного цикла, не более того. В самурайском кодексе «Бусидо» («Путь воина») значительное внимание уделяется достойной (именно – достойной) смерти воина-самурая. Важно не «когда», важно «как» – достойная смерть предпочтительнее недостойному сохранению жизни, ради которого приходится поступаться основополагающими принципами. Но в то же время, согласно японским традициям, решение об уходе из жизни следует принимать самостоятельно, поэтому в древнем японском законодательстве в качестве наиболее сурового наказания обычно выступало пожизненное заключение, а не смертная казнь. Такой «мягкосердечности» способствовала и вера в то, что дух казненного станет онрё – духом мщения – и начнет жестоко сводить счеты со своими обидчиками.

Кацусика Хокусай. Религиозная церемония
Каноническим примером подобного мщения служит история принца29 Нагая (684–729), приходившегося по мужской линии внуком сороковому императору Тэмму, а по женской принц был внуком тридцать восьмого императора Тэндзи. Старшей женой принца Нагая была принцесса Киби, дочь сорок третьей императрицы Гэммэй. Достойный Нагая стал жертвой интриг четырех братьев из семейства Фудзивара – Мутимаро, Фусасаки, Маро и Умакая, сестра которых Нагако была одной из жен принца. Братья Фудзивара обвинили принца Нагая в колдовстве, результатом которого стала смерть наследника престола принца Мотои, сына сорок пятого императора Сёму и его старшей жены императрицы Комё, урожденной Фудзивара-но Асукабэ-химэ – якобы Нагая расчищал дорогу к престолу одному из своих сыновей. Когда в марте 729 года воины Фудзивара-но Умакая окружили дворец принца Нагая, его старшая жена Киби и трое их сыновей покончили с собой. Проблема, казалось бы, была решена, но…
Через восемь лет все четверо братьев Фудзивара умерли во время очередной эпидемии оспы, и их смерть приписали мести онрё принца Нагая. Месть могла пасть и на императора Сёму, с попустительства которого был доведен до само-убийства Нагая. Дабы умилостивить онрё, принцаНагая дважды повысили – сначала из простого принца его перевели в наследники престола, а затем пожаловали ему должность дайдзё-дайдзина (премьер-министра). Не ограничиваясь этим, император Сёму приказал построить в столичном Хэйдзё-кё огромный буддийский храм Тодай-дзи, который и в наше время считается самым большим деревянным строением в мире. В храме установили пятнадцатиметровую бронзовую статую сидящего будды Вайрочаны, олицетворяющую всепроникающий свет. Меры сработали, во всяком случае, императору Сёму дух принца Нагая никакого зла не причинил.
В представлении японцев справедливая месть, совершенная надлежащим образом, является достойным делом и не может подвергаться осуждению. Более того, отказ от мести будет считаться постыдным, ведь он выглядит как неисполнение долга-гири, важнее которого для японца ничего нет. Японское слово «гири» обычно переводят как «долг» или «чувство долга», но его значение гораздо глубже, поскольку понятие «гири» контролирует все отношения между людьми. Пусть небо упадет на землю, но гири должен быть исполнен! Невозможность исполнить гири не может служить оправданием. Выбор прост – или исполняешь гири, или смываешь позор посредством сэппуку, третьего не дано. От долга чести гири следует отличать «он» – долг признательности (перед императором, родителями, господином, благодетелем).
Содействие в исполнении гири является благородным делом. Простой пример – представители якудзы, подчас выбивающие долги весьма жестокими методами, не порицаются японским обществом, поскольку они восстанавливают справедливость, возвращают благодетелям то, что принадлежит им по праву, а должника заставляют исполнить свой гири в полном объеме. Неполное исполнение не засчитывается, затягивать с исполнением тоже не стоит, но в этом случае все зависит от обстоятельств. Правда, по части содействия есть один нюанс – помогая другому, нельзя пренебрегать своим долгом. Допустим, по приказу даймё30 был несправедливо убит некий самурай, сыновья которого хотят совершить месть. Те самураи, которые служат даймё, могут разделять чувства мстителей, но они не могут им помогать, поскольку им долг предписывает защищать своего господина. Долг в любой ситуации должен стоять над чувствами-ниндзё. Если не можешь подчинить чувства долгу, то совершай сэппуку, иначе покроешь позором не только себя, но и весь свой род.
В западной культуре прощение считается добродетелью. «Прощайте, и прощены будете»31, сказано в Евангелии. Для японца простить обиду означает пренебречь своим гири. Правда, в отдельных случаях можно и простить, не теряя лица. Например, самурай после долгих поисков нашел убийцу своего старшего брата и увидел, что того разбил паралич и он стал совершенно беспомощным. В таком случае можно сказать нечто вроде: «Я не собираюсь оказывать тебе благодеяние, освобождая твой дух из темницы неподвижного тела!» – и уйти с гордо поднятой головой. Важно учитывать то, что самурай доказал готовность исполнить свой долг – нашел убийцу брата, чтобы отомстить, но исключительные обстоятельства превратили бы месть в благодеяние, которого убийца совершенно не заслуживал.
Мстить могут не только живые, но и мертвые. Согласно японским верованиям, души людей, погибших насильственной смертью или не успевших отомстить при жизни, не могут обрести покоя в царстве мертвых до тех пор, пока не исполнят свой долг (как это случилось с духом принца Нагая). Такие неупокоенные души называются юрэй, а те юрэй, которые мстят живым, становятся онрё. Если не хочешь стать юрэй (а это незавидная доля), то успей исполнить свой долг при жизни.
Неисполненный долг переходит по наследству к потомкам. К месту можно вспомнить хотя бы месть братьев Исии из клана Камэяма. В 1673 году Исии Уэмон, на правах старшего по возрасту и более опытного, во время упражнений с копьем сделал выговор Акахори Гэнгоэмону за нерадивость. Гэнгоэмон оскорбился, убил Уэмона и скрылся. Двое старших сыновей Уэмона отправились на поиски убийцы, но погибли, так и не совершив месть. Долг перешел к младшим сыновьям Уэмона Гэндзо и Хандзо, одному из которых на момент гибели отца было пять лет, а другому – два года. В 1701 году, спустя двадцать восемь лет после убийства Уэмона, Гэнгоэмона настигла заслуженная кара.
Ну а самой известной историей о благородной мести является история сорока семи ронинов из Ако, увековеченная и в пьесах для театров бунраку и кабуки, и в добром десятке фильмов (о японском театре мы поговорим в одной из следующих глав). Знаете ли вы, чем ронин отличается от самурая и кого вообще можно называть самураем? «Взять в руки меч не означает стать самураем», – гласит старинная пословица. Самурай – это представитель привилегированного военного сословия, элитой которого были даймё. Большинство самураев были вассалами даймё или других влиятельных лиц. Ронинами (то есть – странниками) назывались самураи, лишившиеся своего сюзерена, изгнанные им или добровольно покинувшие его. Участь ронинов считалась незавидной и, в общем-то, позорной.
В начале XVIII века, при Цунаёси, пятом сёгуне из рода Токугава, большим влиянием пользовался сёгунский кокэ (главный церемониймейстер) Кира Ёсинака. Ёсинака следил за тем, чтобы все церемонии при сёгунском дворе совершались надлежащим образом. Сложность церемоний нередко требовала индивидуальной подготовки. В частности, в 1701 году Ёсинаке было поручено подготовить к приему императорского посла даймё Асано Наканори из города Ако32, занимавшего при дворе сёгуна должность такумо-но-ками, чиновника, ведавшего строительством. Ёсинака ожидал от Наканори богатых даров в качестве благодарности за обучение, но не получил их. Будучи старше и по возрасту, и по положению, Ёсинака решил отыграться и начал систематически унижать Наканори на глазах у других людей. Какое-то время Наканори покорно сносил оскорбления, но однажды не вытерпел, вытащил из ножен меч и хотел зарубить Ёсинаку. Дело было во дворце сёгуна, где категорически запрещалось обнажать оружие. Ёсинака это помнил и потому пытался увернуться от ударов, но пару легких ран все же получил, а затем меч Наканори застрял в деревянной колонне, которая поддерживала потолок, и набежавшие люди помешали завершить начатое дело.
Виноватым по умолчанию считался тот, кто дерзнул выхватить из ножен меч во дворце, прочее не имело значения. По повелению сёгуна вечером того же дня, 14 марта 1701 года, Наканори совершил сэппуку. Его предсмертное стихотворение-дзисей стало жемчужиной в сокровищнице японской классической поэзии, несмотря на допущенное отступление от принятых канонов:
«Цветы опадают
Под дуновением весеннего ветра.
С жизнью я
Прощаюсь еще легче.
Но почему?»

Кацусика Хокусай. Слуги тянут вдоль берега лодку с помощью системы канатов и блоков
Законы поэтического жанра вака, согласно которым в первой и четвертой строке должно быть по пять слогов, а во второй, третьей и пятой – по семь, Наканори соблюл в точности, и по части изящества к его дзисей не может быть претензий. Но, согласно традициям, в дзисей нельзя было упоминать о предстоящей смерти, дозволялись лишь намеки на бренность всего сущего и скоротечность бытия. Тем не менее дзисей Асано Наканори помнят и часто цитируют. Особенно пронзительны последние слова: «Но почему?»
Но почему?
С одной стороны, Наканори был наказан справедливо, ведь он обнажил меч в сёгунском дворце, да вдобавок набросился на человека, который трижды был выше его – и по должности, и по возрасту, и по статусу наставника. Но высокое положение Ёсинаки не могло оправдать его поведения – разве можно во всеуслышание называть благородного даймё «тупой деревенщиной» и другими подобными словами? В глазах самураев дома Асано Ёсинака был виновником гибели Наканори и потому заслуживал мести. Сорок семь самураев, ставших ронинами после гибели своего даймё, поклялись отомстить за него.
Принести клятву легко, а исполнить трудно. Дом Киры Ёсинаки находился в центре столичного Эдо33, недалеко от сёгунского дворца. Мало того, что дом Ёсинаки хорошо охранялся, так к нему еще и нельзя было подобраться незаметно, поскольку окрестности дворца патрулировались бдительными стражниками-досин. Что в доме, что во дворце Ёсинака мог чувствовать себя в безопасности, да и на улице к нему нельзя было подойти, поскольку его сопровождал отряд телохранителей.
Месть была подготовлена тщательнейшим образом. Прежде всего следовало усыпить бдительность Ёсинаки, следовало внушить ему ощущение ложной безопасности. Ронины покинули столицу, где остался только их предводитель Ооиши Ёсио, который ради исполнения своего вассального долга был готов пожертвовать честью. Он ходил пьяным по городу, и люди стыдили его. Поведение Ёсио окончательно убедило всех в том, что слуги Асано Наканори забыли о долге и не собираются мстить за смерть своего господина. Еще один из ронинов-мстителей женился на дочери подрядчика, построившего дом Ёсинаки, – так он смог раздобыть план дома со всеми потайными помещениями.
Месть свершилась 30 января 1703 года. Тщательная подготовка и внезапность нападения (сорок семь ронинов словно бы спустились с неба) обеспечили делу успех. Ёсинака был схвачен. Ему благородно предложили совершить сэппуку тем же мечом, которым покончил с собой несчастный Наканори, но у старого негодяя не хватило для этого мужества, и Ёсио пришлось отсечь ему голову. Доставив голову Ёсинаки к могиле Наканори, ронины сообщили своему господину, что он отомщен, а затем сдались властям, несмотря на то что имели возможность скрыться. Но бегут лишь трусы, да и какой смысл жить, если исполнил свой главный долг? Из уважения к мстителям сёгун разрешил им совершить сэппуку, а самого младшего, которому было пятнадцать лет, помиловал. Верных вассалов похоронили рядом с их господином, и их могилы по сей день служат местом поклонения. Известная японская мудрость, согласно которой «долг чести важнее сыновнего долга», представляет собой констатацию факта, а не просто красивую фразу. У некоторых из сорока семи мстителей из Ако были живы родители, о которых сыновьям следовало заботиться, но сыновья оставили родителей ради исполнения своего гири.
Раз уж речь зашла о сэппуку, то надо познакомиться с этим традиционно японским способом прощания с жизнью поближе. Иностранцы очень часто путают понятия «сэппуку» и «харакири», а ведь это не одно и то же. Если самурай вспарывает себе живот и на том дело заканчивается, то это – харакири. Харакири нельзя назвать ритуалом, в отличие от сэппуку, это «всего лишь» форма самоубийства, в то время как сэппуку представляет собой целый ритуал. Этот ритуал предусматривает написание предсмертного стихотворения, возможное присутствие зрителей и содействие помощника-кайсяку, отрубавшего голову самоубийцы сразу же после того, как был вспорот живот. Обезглавливание прекращало страдания, вызванные весьма болезненным ранением брюшной полости. Кайсяку должен был виртуозно владеть мечом, особенно в старину, когда падение головы на пол считалось недостойным и удар наносился с таким расчетом, чтобы отсеченная голова повисла на кожно-мышечном «лоскуте». Присущий японской нации перфекционизм побуждал оттачивать все навыки, в том числе и владение мечом, до совершенства, тем не менее неполное срубание головы было очень сложным делом, и со временем от него отказались – уж лучше пусть голова падает с плеч, чем срубать ее в два, а то и в три приема (вот уж где позор!).
На кайсяку лежала ответственность за достойное проведение всего ритуала сэппуку. Приговоренный к смерти мог потерять самообладание, что случалось нередко, и тогда все могло пойти наперекосяк, а этого, по японским правилам, нельзя допускать ни в коем случае, ведь позор ложился не только на того, кто не способен достойным образом уйти из жизни, но и на его помощника. При любом отклонении от ритуала кайсяку должен был завершить его как можно скорее и действовать решительно. Роль кайсяку была весьма сложной и очень ответственной, но при этом совершенно непочетной. Исполнишь все хорошо – славы за это не получишь, а если что-то пойдет не так – опозоришься на всю жизнь. Поэтому у самураев просьба стать кайсяку считалась дурным предзнаменованием, и общество не осуждало тех, кто отказывал приговоренному в помощи под благовидным предлогом. Но если предлога не было или же не было других кандидатов, то приходилось соглашаться.
Сэппуку и харакири были обычаем и привилегией самураев, а не всех японцев. Представителям низших сословий – торговцам, ремесленникам и крестьянам – с конца XVI века вообще воспрещалось брать в руки оружие, за это самураи рубили головы без раздумий, и все искусства рукопашного боя происходят от этого запрета – крестьянам и ремесленникам волей-неволей приходилось учиться воевать голыми руками или, в крайнем случае, с помощью палок, которые оружием не считались. Кстати говоря, если во многих странах торговля считается почетным занятием, то у народов, воспитанных на конфуцианских традициях, торговцы стоят ниже крестьян и ремесленников, потому что они ничего полезного не производят, а только продают.
Очень часто, в том числе и у японских авторов, можно прочесть о том, что для сэппуку использовался короткий меч вакидзаси. Это неверно, вакидзаси служил для использования в бою наряду с длинным мечом катаной, и для вакидзаси была разработана своя фехтовальная техника. Для вскрытия живота предназначался особый нож кусунгобу, длина клинка которого не превышала пятнадцати сантиметров. Тонкий и остро заточенный с одной стороны кусунгобу представлял собой идеальное оружие для вспарывания плоти – он легко входил в нее и легко проворачивался. Традиция предписывала взрезать живот поперек, от левого бока до правого, а затем сделать вертикальный разрез, от диафрагмы до пупка. Но чаще кайсяку срубал голову еще до вертикального разреза – зачем причинять человеку лишние страдания?
Принуждение к сэппуку было милостью, почетным способом ухода из жизни, но не всегда самоубийца заслуживал доверия настолько, чтобы давать ему в руки остро заточенное оружие – вдруг он обратит его против присутствующих при казни и попытается сбежать? А иной раз сэппуку предстояло совершить юношам, еще не достигшим совершеннолетия и не обретшим твердости духа, свойственной взрослым мужчинам. Как надлежало поступить в подобной ситуации? Пренебречь традициями нельзя, это несообразно и недостойно, следовало найти приемлемый выход.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе