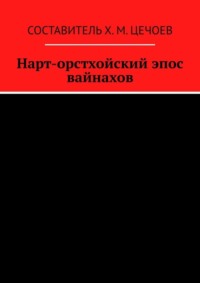Читать книгу: «Нарт-орстхойский эпос вайнахов», страница 5
от тюркского «строитель крепостей» (или «житель крепости (цитадели)». Германч – керменчи, керманчи
сокращенный вариант имени Германч? Гера –
, мать семи братьев-богатырей из племени эрбый. Неясно. Эмиль-Эрте
от кар.-балк. имени «большой, крупный»? Или от «утес»? Гяла – Гала гола
неясно. Юртус –
, брат Юртуса – араб. имя Иса Иса.
(в другом тексте так зовут чеченского героя)скорее всего, араб. имя (либо ). Перс. и араб. мена , вероятно, вошли в ономастику карабулаков в период принятия ими ислама. Нясар – Наср Насыр Наураз Иса, Нясар
предводитель шайки нарт-орстхойцев. Неясно. Чухи –
последний из нартов.От кар.-балк. «непоколебимый» Тэймысхан – таймаз хан. +
нартом не является, но постоянно выступает то в роли их главного советчика, то гасмехается над ними, то выручает их в трудных ситуациях. Может спускаться в царство мертвых. – ингушское слово, означает «ласка». В осетинском эпосе этот персонаж именуется Сирдоном, в карачаево-балкарском – Ширданом. В. И. Абаев объяснял это имя на основе осетинского «зверь». В кар.-балк. язык означает «неожиданное существо» (неожиданно появляющееся); – табуированное название крысы () и имеет все признаки героя эпоса тотемического, имевшего облик крысы – у него длинные усы, он живет под холмом в доме-лабиринте, хитер, умен, коварен и, внезапно появляется и так же внезапно исчезает. Боткий Ширтка – Ширтка сирд е ширт анг ширдан гылдуу
Происхождение имен главных героев Нартиады подробно будут рассмотрены в другой главе нашей книги.
Тюркские имена носят и некоторые местные герои.
, местный герой; «имя Тимар происходит от Тимура хромого (т. е. Тамерлана) – (Далгат, с. 415). Но, в таком случае, это просто тюркское «железо; железный». Тимар темир
трусишка, который сумел одурачить огромного нарта. Вероятно, от карачаево-баллкарского «князь, имеющий много холопов». Куллуби – къуллу бий
, жена местного героя Охкархой Канта; это кар.-балк. имя «белая (знатная) госпожа», от «светлая, белая» + «княгиня, госпожа»; ср. также «старшая госпожа». Альбика Алабике ала бике, бийке, бийче Ажабийке
, местный герой – имя, возможно, от тюркского «воин, дружинник определенного разряда». Чуара Нельбиевич чора, джора, чура
имя его отца, скорее всего, представляет собой соединение двух тюркских титулов: «принц» + «князь». Нельби , инал бий
« – имя собственное, встречаемое только в фольклоре». Распространенное объяснение имени Пхягал Бярий – от «пхьагал» заяц, «бьарий» – всадник, наездник, т. е. «заячий всадник». «Мифологическое объяснение „заячьего всадника“ может быть соотнесено с тотемом» (Далгат, с. 430). Это предположение не имеет ни оснований, ни доказательств; не ясно также, почему могучий богатырь разъезжал верхом на зайце. Это кар.-балк. «всадник на пегом коне» (букв. «пегий всадник»), понятое как созвучное «всадник верхом на зайце»; отсюда же «заячьи всадники» в фольклоре других народов Северного Кавказа. На пегом коне ездит в кар.-балк. эпосе вождь нартов Ёрюзмек. Пхагал Бярий къолан атлы къоян атлы
« – всадник величиной с кулак и локоть („бий“ – кулак, „дол“ – локоть, „бяри“ – всадник). Встречается в сказке и в эпосе» (Далгат, с. 430). И это, скорее всего, также лишь народная этимология. Кар.-балк. (нёгер) «воин, дружинник определенного разряда; спутник, товарищ» вайнахские сказители, видимо, приняли за «локоть». Бийдолг Бяри жёнгер жингирик
« – здесь имя собственное; вероятно, тюрко-монгольского происхождения, от слова «богатырь» (Далгат, с. 424). Бятар
На основе тюркского (кар.-балк.) языка находят объяснения и некоторые другие выражения и термины в эпосе вайнахов.
«», «которой часто вооружены эпические герои вайнахских сказаний и в особенности героических песен, в быту это дамасская сабля или меч с тавром на клинке, изображающая голову волка или обезьяны» (Далгат, с. 431). Это знаменитое тавро представляло собой перевернутое изображение головы обезьяны; поэтому кар.-балк. букв. означает «неправильная (перевернутая) обезьяна». Терсмаймальская шашка терс маймул
палица. Ср. карачаево-балкарское «палица». Чхонкар – чонкур
В вайнахских сказаниях «часто имеет место упоминание обычая установления молочного родства, существовавшего у вайнахов продолжительное время»; «в вайнахских сказках герои, которые братаются, обычно говорят друг другу: «Отныне мы клятвенные братья и энчики (т. е. молочные братья), сосавшие одну грудь» (Далгат, с. 429). Молочные братья.
Терминология, относящаяся к обычаю молочного родства (как и аталычества, и куначества) у народов Северного Кавказа – тюркская. – от кар.-балк. «сосок; воспитанник (выкормыш)». Энчик эмчек
« – по-ингушски и по-чеченски значит «рабыня». «В данном рассказе Горбож – не рабыня, служанка, а могучая великанша-людоедка» (Далгат, с. 422). Но во многих вейнахских сказаниях ее именуют и . Ср., например, фразу из сказания: «…»; «Гарбаш – здесь служанка, рабыня» (Далгат, с. 295; с. 420). Горбож гарбаш Оршамар Арш сказал гарбаш этой девушки
Вайнахское , несомненно, от кар.-балк. «домашняя рабыня; служанка», от «черноголовая». Причина появления в вейнахском языке второго значения термина («злобная великанша-людоедка»), вероятно, в том, что великаны и великанши были олицетворениями высоких и заснеженных гор Кавказа. Карачаево-балкарское «заснеженная вершина» полностью созвучно «дворовая девушка-рабыня». горбож, гарбаш, зарваш къарауаш къарабаш къарбаш къарауаш
– дракон, от общетюрк. «дракон» Саьрмак сармакъ, сарубек, сарыуек .
– богатырь, герой; например, «турпал по имени Солсан, сын Соски» (Далгат, с. 399). Общетюрк. термин, ср. кар.-балк. «богатырь; богатырский (конь)». Вошло и в языки других народов Кавказа – аварский, табасаранский (Абаев, ИЭСОЯ, т. III, с. 299). Турпал тулпар
. «…похищенных (для продажи в рабство. – М. Дж.) людей называли „есар“. „Есар“ – пленник» (Далгат, с. 447; с. 448). Слово проникло в ингушский язык, вероятнее всего, из кумыкского; тюркское озн. «пленник» (отсюда и русское ;кар.-балк. ). Есар есир ясырь жесир
«», с помощью которого оживляли мертвых – типичный предмет, часто встречающийся в прозаическом фольклоре вайнахов. Обычно этот оселок каменный, что, на наш взгляд, может свидетельствовать об его отношении к древнекаменной эпохе. Во всех случаях предмет этот весьма архаического происхождения и магического назначения» (Далгат, с. 415). Черный оселок
Этот предмет, имеющий магические свойства, встречается в фольклоре и других народов Северного Кавказа; часто упоминается волшебный черный оселок в кар.-балк. сказаниях и сказках. Скорее всего, кар.-балк. «черное знание» (т. е. «черная магия») было принято за созвучное «черный оселок». Кар.-балк. озн. также и «буква», откуда выражение «грамотный», но букв. «знающий черное». къара билиу къара билеу къара къара таныгъан
. Сватаясь к дочери Сеска Солсы, нарт Кинда Шоа предлагает ему в калым большое стадо «». «Это довольно постоянная характеристика рогатого скота в вайнахском эпосе; синий цвет животных – чисто эпический, не соответствующий действительности» (Далгат, с. 319; с. 428). Синие животные обросших, беломордых синих коров
Разумеется, синих коров не бывает. Возможны два варианта: либо вайнахи поняли кар.-балк. «серый скот», как «синий скот» – поскольку слово означает и «синий», и «серый» (о масти животных), либо приняли «множество скота» за «синий скот». кёк малла кёк кёп малла кёк малла
. Одним из любимых развлечений нартов, по вайнахскому эпосу, являлось метание камней или обломков скал; смысл этого занятия не указан. Не исключено, что это отражение памяти об одном из популярных кар.-балк. народных видов спорта – толкании камня (), вероятно, известного и карабулакам. В одном из вайнахских сказаний на предложение молодца выйти за него замуж, красавица отвечает, что пойдет за того, кто одолеет ее доблестью и силой. «» (Далгат, с. 289). Метание камней къолташ оюн, хомпар таш оюн Они бросили два камня на спор: кто кинет дальше
В одном из сказаний говорится, что нарты знали «птичий язык» (Далгат, с. 303). То же самое встречается и в кар.-балк. эпосе. Это результат путаницы, возникшей из-за созвучия кар.-балк. () «язык силы» (т. е. древнего магического языка, знание которого позволяло шаманам совершать чудеса), и «язык птиц». Птичий язык. кюш тили кюч тили къуш тили
. » (Далгат, с. 337). «Чаа – медь и олово в расплавленном состоянии. Нередко это эпический напиток нартов, характеризующий их могущество». «Иногда нарты, по сказаниям, пьют медь, как обыкновенный напиток» (Далгат, с. 431; с. 435). Расплавленная медь «Когда нарт-эрстхойцы узнали, что благодать (изобилие) пропала из-за них, они докрасна расплавили медь и, выпив ее, все погибли. Люди употребляли брагу, а нарты, по гордости своей, пили расплавленную медь» (Далгат, с. 334). «Нарты, пьющие расплавленную медь, переселились на небо. На западе есть семь блестящих звезд, это и есть пропавшие нарты
В одном из текстов уточняется, что медь была красная. Полагаем, что речь идет о самом обыкновенном черном чае, по кар.-балк. – «красный чай», что было понято вейнахами, как «красная расплавленная медь» (). Видимо, чеченцы и ингуши, в отличие от тюрков-карабулаков, в те времена чай не употребляли. Вначале «расплавленная медь» представлялась обычным напитком нартов; но он казался бы слишком крепким даже для нартов, поэтому поздние сказители стали говорить об его употреблении, как о способе самоубийства. къызыл чай чаа
Села-сата, жена Сескан-Солсы, втайне от него держала своего сына «в середине девяти медных пластов подземелья (формула „исс цIаста юккьа дIалачкъина“ – в девяти пластах меди выросший – типична для сказаний чеченцев и ингушей») – (Далгат, 1977, с. 44). Девять медных пластов.
Какие пласты имеются в виду и почему они медные, не сказано. Кар.-балк. «земля // земляной» было перепутано с «медь (желтая) // медный». Выражение () «семь (реже девять) слоев земли» обычно в мифологии, фольклоре и обычной речи карачаево-балкарцев; по этой причине в вайнахском сказании и говорится о подземелье. жер жез жерни жети тогъуз къаты
Много в нарт-орстхойском эпосе вайнахов и тюркских топонимов и гидронимов. Приведем лишь несколько примеров.
« – тюркское слово, чаще обозначающее „крепость“, укрепление». «В Чечне имеется два „Герменчика“ – около сел. Шали и между аулами Энгель-Юрт и Азамат-Юрт. Такое же село имеется у кумыков в Дагестане, а „холм Герминча“ – Герман-боарз – в Ингушетии» (Далгат, с. 437). Добавим и сел. Герменчик в Кабардино-Балкарии. Кар.-балк. означает «крепость, цитадель», «крепостца». Герменчуг, Герменчик кермен керменчик –
« – название местности, происходит от кумыкского Ичи-ери, что означает «местность среди гор». По-чеченски она называется «Нахчой-Мохк», т. е. «страна чеченцев» (Далгат, с. 436). Перевод неправильный, поскольку кумыкское означает «внутренняя местность». Но и в этом случае неясна причина появления в слове звука На наш взгляд, ближе кар.-балк. «внутрь // внутренний»; называлась именно внутренняя (горная) часть страны вайнахов. Ичкерия ич ери К. ичкери Ичкерией
– река Волга. От общетюркского названия этой реки – кар.-балк. Эдал Итиль, Идыл, Идель, Эдиль.
Даже река именуется у вайнахов по-тюркски – , от «быстрая». Терек Тирк терк
Чтобы поставить точку в вопросе о том,кем были нарты-карабулаки и откуда пришли в Чечню и Ингушетию нарты, приведем отрывок из одного текста. Замечательно, что эпос вайнахов и на этот вопрос дает прямой ответ, в сказании «Как погибли нарты эрхстуа», опубликованном А. Газдиевым в газете «Сердало» в 2011 г. и вошедшем сборник «Ингушский нартский эпос», подготовленный И. А. Дахкильговым (Нальчик, 2012).
« Там, на закате солнца, где дальний Мингитау поднимает к небу свои белые груди, близко к тому морю, что вечно бьет прибрежные скалы своими черными, как ночь, волнами, жили в старину нарты – Эрхстуа. Злые то были богатыри, завистливые на чужой достаток; нападали они на мирных людей, не пославши им вперед вести о войне, отнимали у бедняков их последнее достояние. Не почитали нарты Эрхстуа и Сердцеведца, за это не дал он женам их плодородия. Было нартов только шестьдесят. Не благословил он их стада: от овец их рождались серые волчата, бурьяном дарили их поля, и мясо в их нартском котле о сорока ручках обращалось в вонючую падаль.
– Куда пойдем мы в набег за добычей? На три раза семь дней в пути кругом наших жилищ земля стала серой пылью от копыт наших нартовских коней: четыре раза десять и один день надо нам ехать по пеплу сожженных нами селений; Два раза округлит луна свое лицо, пока доведется нам услышать человеческий голос, – так говорил товарищам-нартам разведчик их, хитрый Батоко Ширтяха, хитрый проныра, сумевший построить себе повозку из меди и спуститься на ней до седьмого адского дна.
И так продолжал он свою речь:
– Есть в восточной стороне среди лесистых гор и зеленых долин пещера. В нее загоняет Колой-Кант на ночь свои овечьи стада. Несметны его богатства. Но и силой с ним никто из живущих не может сравниться. Я не хотел бы видеть поднятую над нашими головами его вражескую руку.
Ему с гневом отвечал гремящим, как гром, голосом сильный Солса, князь нартов Эрхстуа. Слова о несметном богатстве Колой-Канта разожгли его жадное сердце.
» («Ингушский нартский эпос», Нальчик 2012, с.,296). – Молчи, Батоко Ширтяха, сын раба-чужестранца, – сказал он. – Мы приняли тебя как товарища, но презираем как труса. Знай: мы, нарты, никого не боимся, и нет никого из живущих под солнцем, кто был бы сильнее меня. Веди нас немедля к пещере Колоя, коль знаешь дорогу
(«Вечная гора») – карачаево-балкарское название горы Эльбрус. Случайно ли то, что нарты жили в окрестностях этой горы, где и ныне живут карачаево-балкарцы и случайно ли упоминание именно их названия великой горы? Мингитау
Полагаем, что приведенные здесь факты, вкупе с тем, что мы выяснили выше, позволяют уверенно говорить о том, что карабулаки (как и борагуны) были одним из тюркских (скифо-аланских) племен, чьи сказания, в определенной мере, были усвоены чеченцами и ингушами; произошло это, судя по всему, относительно недавно, после их смешения с частью карабулаков (XVII—XVIII вв.
М. Ч. Джуртубаев
Библиография
Абуль-Гази. Родословное древо тюрков. – Казань, 1914
Бабаев С. К. К вопросам истории, языка и религии балкарского и карачаевского народов. – Нальчик, 2000
Антология ингушского фольклора, том 4. Нартские сказания. Легенды. Грозный, 2006
Антология ингушского фольклора, том 7. Ингушские предания. – Нальчик, 2010 Дахкильгов И. А.
Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. – М., 1823.
Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. Исследования и тексты. – М., 1972
Дахкильгов И. А. Мифы и легенды вайнахов. – Грозный, 1991
Дахкильгов И. А. Ингушский героический эпос. – Нальчик, 2012
Джуртубаев М. Ч. Происхождение карачаево-балкарского и осетинского народов. – Нальчик, 2010.
КЭС – Кумыкский энциклопедический словарь. – Махачкала, 2009.
Сказки и легенды ингушей и чеченцев. – М., 1983
Сказки, сказания и предания чеченцев и ингущей. – Грозный, 1986
Чудесные родники. Сказки, сказания и песни народов Чечено-Ингушской АССР. —
Грозный, 1963
I. ЖИЛИ-БЫЛИ НАРТЫ…
Как нарт-орстхойцы сгинули со света
В то старое время весь мир был благодатным. Во вселенной не знали, что такое дуновение ветра. С неба свисала нитка, на конце которой были лоскутки. Они никогда не шевелились. Да и могли ли они без ветра колыхаться? Люди жили в спокойствии и благодати. Посеянное, хранимое, как и принесенное, – все было изобильным. В то время в нашем краю появились нарт-орстхойцы во главе с Сеска Солсой. Со своими 60 нарт-орстхойцами он разорял села, совершая насилие над людьми. С появлением нарт-орстхойцев во вселенной появилось зло и задули ветры. Они уносили уложенное на горных холмах зерно, разносили скошенное сено. Посевы зерна стали малоурожайными; овцы и скот хирели. Все, создаваемое трудом человека, становилось неблагодатным. 1
В один из дней в большое село прибыл Сеска Солса со своими всадниками, чтобы людей ограбить, а оказавших сопротивление – убить. Следовавшие за Солсой люди сказали:
– Большое это село, много людей живет здесь. Мы пострадаем, если они окажут сопротивление. Лучше нам разделиться на группы и прибыть к ним в гости, сделав вид, будто мы ищем пристанище. После этого мы выкрадем из жилищ оружие и тогда возьмем село без ущерба для себя. 2
Сеска Солса согласился. Разделившись на группы, нарт-орстхойцы направились в дома. С 13 нарт-орстхойцами Сеска Солса оказался в гостях у Жербабы. Жербаба охотно ввела гостей в комнату и принялась за угощение. В медный наперсток взяла муки для изготовления хлеба, отломила кусочек бараньего ребрышка и начала готовить пищу.
– Эй, чем это ты занимаешься? – спросил удивленный Сеска Солса. – Кого ты собираешься насытить такой малой пищей, приготовленной тобой?
– Э, мальчик, после того, как вы все насытитесь вдоволь, еще останется излишняя еда. Это ведь пища, которая была на земле до появления Сеска Солсы и его орстхойцев. Это было тогда, когда во вселенной не было ветра и была одна благодать. Кто не видел Сеска Солсу – да не увидит его, кто однажды видел – пусть не увидит больше! Появившись со своими нарт-орстхойцами, он унес благодать с нашей земли. Страна обнищала и люди разорились.
Услышав сказанное, Сеска Солса остался сидеть на месте, пригвожденный горем.
– Эй, что стало с тобой? – произнесла удивленная Жербаба. – Ты потерял цвет лица и стал как воск. Не ты ли Сеска Солса? Кто не видел – да не увидит, кто видел – пусть больше не увидит его!
– Я и есть Сеска Солса, – сказал он Жербабе и ушел со своими орстхойцами не только из села, но и из того края.
С тех пор их никто больше не видел.
Комментарии У. Б. Далгат
«Героический эпос чеченцев и ингушей». М., 1972, стр. 330. Сказание записано Д. Д. Мальсаговым на ингушском языке в 1964 г. со слов И. X. Мальсагова, уроженца сел. Гамурзиево Назрановского района ЧИАССР. Сказитель слышал это сказание от Патархана Куциговича Арчакова в 1920 г.
В описании благодатного времени особый интерес вызывает представление о безветрии; этот же признак благодатного времени запечатлен и в ингушском предании «Магал» (ССКГ, вып. VIII, 1875, стр. 15). 1
Намерение нарт-орстхойцев совершить разбой под сенью гостеприимства, по понятиям горцев, величайшее преступление. 2
Как погибли нарты эрхстуа
Там, на закате солнца, где дальний Мингитауу поднимает к небу свои белые груди, близко к тому морю, что вечно бьет прибрежные скалы своими черными, как ночь, волнами, жили в старину нарты – Эрхстуа. Злые то были богатыри, завистливые на чужой достаток; нападали они на мирных людей, не пославши им вперед вести о войне, отнимали у бедняков их последнее достояние. Не почитали нарты Эрхстуа и Сердцеведца, за это не дал он женам их плодородия. Было нартов только шестьдесят. Не благословил он их стада: от овец их рождались серые волчата, бурьяном дарили их поля, и мясо в их нартском котле о сорока ручках обращалось в вонючую падаль. 1
– Куда пойдем мы в набег за добычей? На три раза семь дней в пути кругом наших жилищ земля стала серой пылью от копыт наших нартовских коней: четыре раза десять и
один день надо нам ехать по пеплу сожженных нами селений; два раза округлит луна свое лицо, пока доведется нам услышать человеческий голос, – так говорил товарищам-нартам разведчик их, хитрый Батоко Ширтяха, хитрый проныра, сумевший построить себе повозку из меди и спуститься на ней до седьмого адского дна.
И так продолжал он свою речь:
– Есть в восточной стороне среди лесистых гор и зеленых долин пещера. В нее загоняет Колой-Кант на ночь свои овечьи стада. Несметны его богатства. Но и силой с ним никто из живущих не может сравниться. Я не хотел бы видеть поднятую над нашими головами его вражескую руку.
Ему с гневом отвечал гремящим, как гром, голосом сильный Солса, князь нартов Эрхстуа. Слова о несметном богатстве Колой-Канта разожгли его жадное сердце.
– Молчи, Батоко Ширтяха, сын раба-чужестранца, – сказал он. – Мы приняли тебя как товарища, но презираем как труса. Знай: мы, нарты, никого не боимся, и нет никого из
живущих под солнцем, кто был бы сильнее меня. Веди нас немедля к пещере Колоя, коль знаешь дорогу.
Молодым ушел Колой-Кант из тех мест, где жил его род – тухум; безбородым мальчиком ушел он в неведомые леса и погнал с собою только семь овец, но впереди овец
шел старый козел, вожак стада, сильный смелый козел, одаренный разумом человека, а на тучных пастбищах, под охраной козла-вожака, овцы плодились несметно. Пищей Колою служило лишь мясо годовалых очец, питьем молоко; соли, волнующей кровь, и перебродившего питья, туманящего ум, никогда не вкушал он. Не видал женской прелести, ослабляющей тело… Могучий, кроткий, спокойный – был любимым слугой Сердцеведа.
– Враги идут на тебя, господин мой. Готовься защищать себя, свое богатство свое от злах, жадных нартов Эрхстуа, – сказал Колой-Канту его вещий козел, страж его стада.
Отвечал козлу Колой-Кант:
– Кто может напасть на мое белое стадо? Кто б ни пришелко мне, я приму его как гостя и как для гостя ничего не пожалею для него.
Темной ночью тихо подъехали нарты Эрхстуа к пещере Колоя; шли кони их волчьей поступью по траве, пробирались лисьей пробежкой меж ветвями кустов. У скалы,
закрывающей вход в пещеру, сошли нарты с коней, и все шестьдесят стали отодвигать скалу с места, упираясь в нее могучими плечами; до колен ушли ноги в землю; но скала не
сдвинулась и на ноготь.
– Вот приехали враги твои, господин, и хотят силою ворваться к тебе, – сказа Колой-Канту его вещий козел, вожак его стад по тучным лугам.
Отвечал Колой-Кант:
– Не верю я, чтобы то были враги: я зла людям не сделал. Я впущу их в сам в мою пещеру; приму их как гостей и свято соблюду обычай: ни в чем не отказывать гостю.
С этими словами встал Колой-Кант и тихо толкнув скалу рукой, легко отодвинул ее от входа… Ужаснулись могучие нарты, и в страхе отступили к своим коням.
– Войдите, путники, – молвил им ласково хозяин стада, – да будет приезд ваш на пользу вам и мне на счастье!
Но не захотели свирепые нарты войти гостями в жилище Колоя. Молча сели они на коней и уехали, не ответив ни слова.
– Дадите ли, нарты, мне десятую долю богатств Колоя, если я научу, как захватить их? – спросил хитрый разведчик Батоко Ширтяха, хитрый проныра Ширтяха, сумевший
спознаться с алмас, зеленоокой великаншей, лесной красавицей, одетой лишь своими волосами, злой страшной ведьмой, пожирающей грудных младенцев.
Крепкое нартское слово, нарушив клятву, дали нарты Батоко Ширтяхе, что ему отделят они десятину всех богатств Колой-Канта. Тогда молвил им хитрый знахарь-разведчик:
– В лесах быстрой Аргуни живут великанши-алмасы. Красивейшую из них я пошлю к Колой-Канту, чтобы она очаровала его женской прелестью и лишенного силы отдала в
ваши руки. Через три луны, три недели и три дня приезжайте в пещеру Колоя, там буду я вас ожидать.
У входа в пещеру, отпустив стада свои на пастбище, сидит Колой-Кант. И слышит он плач женщины в глубине леса; рыдания женские тревожат его кроткое сердце. И идет он
на голос. Перед ним – красавица. К скале прислонясь, стоит она, и слезы горными ручьями льются меж пальцами ее белых рук.
– Кто обидел тебя, женщина?
– Нарты, злодейское племя Эрхстуа – мои враги. Отец мой и мать, и все родные мои убиты ими, только я одна спасла свою жизнь, но заблудившись в этом лес, гибну теперь голодной смертью.
В пещеру свою ввел богатырь Колой предательницу, отогрел у огня ее тело, подкрепил ее пищей и сладким молочным питьем. Веселым огнем загорелись тогда
зеленые, словно глубокие озерные воды, очи алмас, жарким пламенем пахнуло на богатыря от ее золотых волос.
– Кого положил ты, господин мой? Кого обнимаешь ты, целуя и прижимая к сердцу? То – не женщина из рода людского, то – злая, коварная алмас, отродье бесов, – сказал
Колой-Канту его вещий козел, возвратившийся со стадами в пещеру; но не внял Колой-Кант его слову: не внял и убил своего верного слугу, ударив о камень.
Месяц прошел с неделей и днем.
– Что сделал бы ты, господин мой, с врагами моими, злыми нартами Эрхстуа, если б пришли они сюда, чтобы убить меня? – спросила алмас Колой-Канта, нежно ласкаясь к нему.
Вспыхнуло гневом сердце богатыря, не ведавшего раньше злобы, схватил он рукою скалу, что служила ему вместо двери, и далеко швырнул ее на чащу лесную: застонала, дрогнула земля от удара, с треском и гулом рухнули наземь столетние сосны.
– Я раздавил бы их так, как этот камень давит жалких червей.
Еще месяц прошел, прошли еще неделя и день. Опять спросила злая алмас Колой-Канта:
– Как бы ты казнил наших врагов нартов, если бы они пришли к нам?
Упершись плечами, с трудом пододвинул Колой скалу к ущелью и завалил его вход.
– Сюда они к нам не вошли бы, – молвил он тихо.
Три месяца минуло и три недели прошло с тремя днями.
– Ты очень силен, мой Кант! Но не оборвать тебе и тонкого шнурка, сплетенного из моих волос… Дай я свяжу тебе руки, – молвила злая алмас богатырю и с теми словами, будто шутя, опутала его могучие руки сзади золотыми волосами.
Раз богатырь свою силу напряг – шнурок впился в его кожу, от второго усилия – брызнула кровь от разрезанных мышц. Когда же рванул он со всей силы в третий раз, и
шнурок, не поддавшись, впился в тело до белых костей, то радостно крикнула злая алмас. Дикой медведицей ревет она в чаще лесной, воет хищной волчицей. И на зов ее словно
коршуны, что слетаются со всех сторон небосклона на труп, мчатся к пещере Колоя жадные нарты… И молвил им связанный богатырь – бессильный защитить своих белых овец. Так сказал он окружившим его нартам:
– Да будет вам, чужеземцы, приезд ваш на пользу, а мне на счастье! Принимаю вас в моем жилище за дорогих гостей. Все, что есть у меня – ваше; я – ваш слуга, вы же будете моими господами.
Злобно засмеявшись, отвечал ему Солса, старший над нартами, голосом, подобным грохоту катящегося с горы обвала, так загремел он в ответ:
– Приезд наш будет нам на пользу, мы берем все твои богатства. Мы будем твоими господами, а ты – нашим рабом. Будешь ты, скованный по рукам и ногам, молотить ячмень для наших жен, сидя в глубокой яме… Не хотим быть твоими гостями!
И ворвались алчные нарты в пещеру Колоя; кровожадные, стали рубить они овец, пробуя остроту своих мечей и силу руки. И с насмешками били ногами беззащитного и плевали в лицо связанного богатыря.
– Господа мои! – молвил им Колой-Кант. – Вы вольны над вашим слугой. Но во имя бога, прошу вас: убивая овец из моих белых стад, отделите десятинув жертву Серцеведцу и сыновьям его Елта и Этеру, и богу грома, грозному Сэлли, чтобы не прогневались на вас они, привыкшие вкушать дым сжигаемой здесь жертвы.
С насмешкой отвечал ему свирепый Солса, князь нартов:
– Пусть боги твои будут сыты прежними жертвами. Мы же не дадим и дохлого ягненка.
Тогда вступился за Колоя Сердцеведец. Грозного владыку грома Сэлли послал он к нартам, пировавшим в пещере. И смутил Сэлли их разуми, пищу в котле их обратил в расплавленную красную медь. Все нарты вкусили той меди, и умерли из них тотчас пятьдесят девять. Лишь шестидесятый – князь их, могучий Солса – долго боролся со смертью. Сгорая от палящей жажды, лежал он без сил у пещеры.
Ворон кружился над ним.
– Принеси мне воды, черный ворон! Я вдосталь поил тебя кровью людской…
– Не затем прилетел я. Жду твоей смерти, чтобы выклевать очи твои!
– Ты, волк, что глядишь на меня из чащи? Дай воды мне… Я был тебе другом и кормил тебя досыта мясом людским…
– Скорей умирай! Я хочу сожрать твое сердце!
– Будьте вы прокляты вечно! Напои меня, голубь! Я изнемог… Помоги мне смерти отдаться без стона, глядя ей прямо в глаза.
И добрый голубь принес ему воды в красном сафьяновом чувяке и освежил уста умирающего… Не было уже слов у князя нартов; рукой, которой он брал из котла жидкую медь, он погладил шейку воркующей птицы и от того виден теперь на шее голубя отблеск меди.
Так погибло все племя нартов Эрхстуа, и князь их, могучий Солса, стыдившийся жалости, так встретил конец свой. Со смертью Солсы развязался шнурок, опутывавший руки Колой-Канта.
Комментарии И. Дахкильгова.
«Ингушский нартский эпос», стр. 296—301. Нальчик, 2012. В литературно обработанной форме изложил Владимир Левченко. Текст опубликовал А. Газдиев в газете «Сердало» (22 сентября 2011 г.). Информатор и место записи не указаны.
В основе этого сказания лежит сюжет о лишении могучего пастуха – нарта Колой-канта своей телесной силы врагом (Сеска Солсой или князем) с целью угона его огромноо овечьего стада. Однако приводимый сюжет во многих деталях отличается от традиционного. Например, искусительницей нарта является не сестра Соска Солсы, а алмас – персонаж низшей мифологии; в действие сказания введены боги ингушского языческого пантеона Села, Елта, Этир; сам Колой-кант представлен пассивным героем, поскольку не вступает в сражение с разбойниками, которых губит бог Села. Перекликается это сказание с другим – Соска Солса и Горжай».
В обоих сказаниях мирные пастухи, предупреждаемые об опасности, не оказывают никакого сопротивления, уповая на защиту бога, которому они возносят жертвы, что не спасает их от нападения разбойников. Традиционным является здесь мотив: умирающий Соска Солса просит принести воды у разных птиц и животных, и лишь один голубь помогает ему.
Отдельные детали, имена, мотивы этого произведения могут натолкнуть на мысль: не есть ли это компиляция из ингушских сказаний, записанных Ч. Ахриевым и Б. Далгатом.
Мингитау («Вечная гора») – карачаево-балкарское название горы Эльбрус (прим. составителя). 1
Начислим
+1
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе