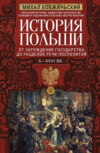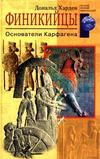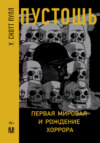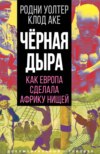Читать книгу: «Слон во Вселенной. 100 лет в поисках темной материи», страница 5
5. Плоская кривая
В честь Уильяма Кента Форда – младшего назван жук. Это Pseudanophthalmus fordi, обнаруженный Томом Малабадом, сотрудником Программы охраны природного наследия штата Виргиния, в двух карстовых пещерах, каких много на просторах штата. Обе пещеры – Рассел-Резерв-кейв и Уизерос-кейв – расположены на земле, принадлежащей Форду, и поэтому новый вид был назван в честь вышедшего на пенсию астронома.
Среди предметов, приготовленных Фордом к моему визиту, была и табличка с названием и фотографией этого редкого жука. На кофейном столике прямо напротив дружелюбного, коренастого, лысоватого 88-летнего мужчины лежала стопка книг и газет. На стене, комоде и на диване располагались большие черно-белые фотографии1.
«А вот и Вера за устройством для измерения фотопластинок в отделе земного магнетизма Института Карнеги в Вашингтоне, – говорит он. – Это она у телескопа в обсерватории Китт-Пик. Это мой электронно-оптический преобразователь крупным планом. А вот это гораздо более поздняя фотография: мы обнимаемся, встретившись на коллоквиуме в Институте Карнеги». Ну а гвоздь программы этого путешествия в прошлое – знаменитый график кривой вращения галактики Андромеды. Форд вместе с Верой Рубин показали, что внешние области галактики Андромеды вращаются гораздо быстрее, чем ожидалось. Это открытие считается первым общепризнанным убедительным доказательством существования темной материи. «Только после работы Рубин существование темной материи стало подтвержденным фактом», – сказано в пресс-релизе Института Карнеги от 25 декабря 2016 года, выпущенном по поводу ее кончины.
Форд всю жизнь проработал в отделе земного магнетизма Института Карнеги в Вашингтоне – начиная с летних каникул 1955 года. Именно там он участвовал в создании фотоэлектронного умножителя Карнеги – электронного устройства, с помощью которого астрономы смогли изучать гораздо более слабые объекты, чем позволяли обычные фотопластинки. С тех пор прошло много десятков лет.
Эллен Форд – тогда ей был 81 год – объяснила мне, как добраться к их с мужем фермерскому дому, расположенному в безлюдном месте. Надо было проехать мимо магазина Millboro Mercantile и церкви Винди-Коув, далее по дороге с гравиевым покрытием и потом за конюшню. Она встретила меня у крыльца в резиновых сапогах и ветровке со значком «НЕТ проекту газопровода Atlantic Coast Pipeline». Когда мы зашли в дом, она приготовила любимые бутерброды Кента – с ветчиной и горчицей.

Вера Рубин у устройства измерения пластинок в отделе земного магнетизма Института Карнеги в Вашингтоне
«Нет, здесь совсем не одиноко», – говорит Кент, когда мы усаживаемся в гостиной в окружении старых фотографий. Но он скучает по совместным обедам в отделе земного магнетизма, когда сотрудники по очереди готовили еду, а гамбургеры и хот-доги разрешались только раз в неделю, и можно было обсудить любые вопросы. Как раз во время одного из таких обедов в 1965 году Форд c радиоастрономом Бернардом Берком представили присутствующим новую коллегу, Веру Рубин, первую женщину – научного сотрудника отдела земного магнетизма.
Это был не первый раз, когда Рубин сталкивалась с мужским доминированием в науке. После получения диплома бакалавра астрономии в 1948 году она собиралась поступить в магистратуру в Принстонский университет, но в то время женщин туда не принимали – вопиющая гендерная дискриминация, которая продолжалась до 1975 года. Поэтому ей пришлось пойти в Корнеллский университет, после чего в 1954-м она защитила докторскую диссертацию в Джорджтаунском университете, где в 1962 году получила должность преподавателя астрономии. И даже тогда ей было нелегко добиваться выделения наблюдательного времени на больших телескопах Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. Просто до нее вообще не было женщин-наблюдателей.
После перехода в отдел земного магнетизма, куда она могла добраться из дома пешком, что было очень удачно, поскольку ее младшей дочери в 1965 году было всего пять лет, Рубин должна была решить, с кем она будет работать в одном кабинете – с Берни Берком или с Фордом. Ее заворожили разбросанные по столу детали фордовского спектрографа с электронно-оптическим преобразователем. «И поэтому она выбрала спектрограф», – сказал, улыбаясь, Форд. Они проработали в одном кабинете 15 лет.
Именно благодаря этому спектрографу с электронно-оптическим преобразователем – теперь это один из экспонатов в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики на Национальной аллее – Рубин с Фордом смогли выполнить свои эпохальные наблюдения. Для изучения движений звезд и туманностей астрономы используют спектрограф – устройство с призмой или дифракционной решеткой, служащее для разложения света на цвета радуги. Темные линии в полученном спектре – следы различных химических элементов – смещаются в красную или голубую стороны в зависимости от того, удаляется или приближается исследуемый объект, при этом величина сдвига длины волны зависит от скорости объекта. Это тот же самый метод, основанный на эффекте Доплера, который Весто Слайфер использовал в 1912 году для измерения скоростей разбегания галактик, вызванного расширением Вселенной (см. главу 3).
Но чтобы получить на фотопластинке изображение спектра тусклой туманности, нужны очень большие экспозиции, иногда длительностью до двух ночей. Сконструированный Фордом и изготовленный компанией RCA электронно-оптический преобразователь Карнеги служит усилителем изображения, позволяя снимать объекты малой яркости с более короткими экспозициями. Если не вдаваться в технические подробности, то принцип его работы состоит в том, что, попадая на катодный конец устройства, фотон выбивает электрон. После чего каскадный процесс внутри электронно-лучевой трубки порождает целую лавину электронов. В результате пучок электронов вызывает на фосфорном экране свечение пиксела, которое намного ярче исходного фотона. Эта же самая технология используется в военных приборах ночного видения.
Благодаря новому устройству спектры тусклых объектов стало возможным получать всего за пару часов – это был огромный прогресс. Слайфер первым получил спектры – и измерил скорости – для целых галактик. Теперь с помощью спектрографа Форда стало возможным сделать то же самое для отдельных объектов в исследуемой галактике, во всяком случае, если она не слишком удалена от нас. Такие спектры стали источником важной информации о зависимости скорости вращения спиральной галактики от расстояния до ее центра, что, в свою очередь, позволило определить массу галактики и характер распределения этой массы.
С такого рода соотношением между скоростью вращения и массой приходится иметь дело при изучении многих других плоских вращающихся структур во Вселенной – от колец Сатурна и всей нашей Солнечной системы в целом до протопланетных дисков вокруг новорожденных звезд. Во всех этих случаях, так же как и для дисковых галактик вроде нашей собственной или галактики Андромеды, характер движений определяется в первую очередь гравитацией, и измерения скоростей дают представление о распределении массы во вращающейся системе.
Возьмем, например, нашу Солнечную систему. Если мы знаем скорость движения планеты по орбите и радиус орбиты (среднее расстояние планеты от Солнца), то нетрудно рассчитать массу Солнца. То есть, даже если бы не имели ни малейшего представления о размере и составе Солнца – и даже если бы мы вообще никогда не видели Солнца, – его масса легко определяется просто из наблюдений движения планет.
Около 99 % массы Солнечной системы сосредоточено в самом Солнце. Но в случае дискообразной галактики вроде туманности Андромеды дело обстоит немного иначе: масса там оказывается гораздо сильнее «размазана» по системе. Из-за этого скорость движения звезды на определенном расстоянии от центра определяется не только массой центрального объекта (как и в нашей галактике Млечный Путь, в центре галактики Андромеды тоже есть сверхмассивная черная дыра), но также и массой всей – видимой и темной – материи, заключенной внутри орбиты звезды. Аналогичным образом, если бы внутри орбиты Юпитера вокруг Солнца обращались миллионы других планет-гигантов, то Юпитер двигался бы быстрее из-за вызванного их совокупной массой дополнительного притяжения.
Конечно, естественно ожидать, что начиная с некоторого места должно начаться снижение орбитальной скорости с удалением от центра галактики. В конце концов, звездная плотность на внешней границе галактического диска намного ниже плотности вблизи ядра – из-за этого внешние области галактики видны только на снимках с длительной экспозицией. Поэтому на кривой зависимости орбитальной скорости от расстояния до центра – этот график называется кривой вращения – с некоторого расстояния должно начаться медленное снижение. В форме кривой вращения галактики содержится информация о ее массе и распределении массы – именно то, что хотели определить Рубин с Фордом для галактики Андромеды.
Хотя галактика Андромеды, возможно, и ближайший сосед нашей собственной галактики Млечный Путь 9, но она все же удалена от нас на 2,5 миллиона световых лет. На таких расстояниях было невозможно получить спектры отдельных звезд – даже с помощью чувствительного прибора Форда. Вместо этого Рубин с Фордом обратили внимание на так называемые области HII – облака горячего ионизованного водорода с высокой светимостью – вроде знаменитой туманности Ориона, только гораздо крупнее. Эти облака тоже обращаются вокруг центра галактики со скоростями, которые определяются суммарной массой, заключенной внутри орбиты.
Начиная с декабря 1966 года громоздкий спектрограф с электронно-оптическим преобразователем устанавливался на 72-дюймовый телескоп обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе (штат Аризона) для проведения наблюдений в течение нескольких ночей. Надо было точно наводить телескоп на каждую область HII так, чтобы слабый свет туманности попадал в инструмент и его можно было разложить в спектр. Для съемки спектра на фосфорном экране использовалась специальная кассетная камера – в то время не было такой вещи, как автоматическое электронное считывание. Несмотря на обеспечиваемое электронно-оптическим преобразователем невероятное усиление, пластинки размером 2×2 дюйма (5×5 см) приходилось экспонировать в течение двух-трех часов. Все это время надо было вручную «вести» телескоп, чтобы точно отслеживать медленное перемещение галактики Андромеды по небу, вызванное суточным вращением Земли. И все это в подкупольном помещении, где так же холодно, как и снаружи, да к тому же еще и в полной темноте, чтобы лишняя засветка не подпортила результаты наблюдений.
Иногда после завершения работы на телескопе обсерватории Лоуэлла Рубин с Фордом загружали оборудование в машину и отправлялись по федеральной автостраде номер 17 (так она сейчас называется) из Флагстаффа в расположенный примерно в 500 километрах Тусон, чтобы выполнить дополнительные наблюдения на 84-дюймовом телескопе Национальной обсерватории Китт-Пик. Наконец, после проявления всех фотопластинок их доставили обратно в Вашингтон, где Рубин приступала к тщательным измерениям длин волн спектральных линий с помощью специального микроскопа.
Черно-белые фотографии в гостиной Форда наполняются смыслом, когда слушаешь его рассказы о том замечательном времени в конце 1960-х годов. Очаровательная Рубин в летнем платье у подножия телескопа – снимок, очевидно, сделан днем. А еще Рубин в толстой зимней куртке и перчатках, глядящая в окуляр телескопа. Снимок, похоже, сделан во время одной из длительных многочасовых экспозиций на холодной вершине на высоте свыше 2000 метров. Рубин у координатно-измерительной машины в отделе земного магнетизма. И, конечно же, результат всех этих усилий – график кривой вращения галактики Андромеды.
67 областей HII расположены на разных удалениях от центра галактики вплоть до расстояния 78 000 световых лет. 67 спектров, измерений длин волн, определений скорости и 67 соответствующих им точек на графике – плод упорного труда на протяжении почти целого года. Это было первое столь детальное исследование, охватывающее такой большой диапазон расстояний от центра галактики. И результаты оказались весьма неожиданными – даже в самых внешних областях галактики Андромеды, откуда практически не приходит никакого света, не наблюдалось ожидаемого снижения скорости вращения. Кривая вращения оставалась плоской 10.
В декабре 1968 года Рубин и Форд представили предварительные результаты на конференции Американского астрономического общества в Остине (штат Техас). Спустя немногим более года, в феврале 1970-го, их статья «Вращение туманности Андромеды по данным спектроскопии эмиссионных областей» была опубликована в The Astrophysical Journal2. На основе полученных данных они заключили, что масса галактики Андромеды составляет 185 миллиардов солнечных масс и что около половины этой массы сосредоточено в пределах 30 000 световых лет от центра галактики.
Поставленная цель – определение массы и ее распределения в галактике – была достигнута. Но, разумеется, полученные результаты позволяли судить только о том, что расположено до самого внешнего из исследованных объектов. Если скорость вращения оставалась более или менее постоянной вплоть до расстояния 78 000 световых лет от центра галактики Андромеды, то что же происходит на бо́льших расстояниях? Какая масса может скрываться за самой удаленной от центра исследованной областью HII?
Рубин и Форд решили не строить догадки. В их статье 1970 года темная материя не упоминается и нет никаких ссылок на более раннюю работу Каптейна, Оорта и Цвикки. Как они сами выразились, «экстраполяция за пределы [самой удаленной] из наблюдавшихся областей – это, очевидно, дело вкуса».
Ну а что насчет широко известного изображения с кривой вращения на фоне черно-белой фотографии галактики Андромеды, где график частично вылезает за пределы видимой границы галактики? Форд поднимается с кушетки и не спеша подходит к комоду, откуда уже больше часа на меня смотрит смонтированный вариант знаменитого изображения. «Ну да, – говорит он, несколько пристальнее разглядывая график, – это не то, что мы привели в нашей первой статье. Этот рисунок мы сделали позднее. Самые дальние точки графика соответствуют данным радионаблюдений Морта Робертса, выполненным в середине 70-х годов».
И лишь намного позднее Рубин с Фордом высказали предположение, что полученные ими результаты могут свидетельствовать о большом количестве «недостающей массы» или «несветящейся материи». В 1970-х годах они начали наблюдать более далекие спиральные галактики разных размеров и масс с помощью более новых приборов на более крупных инструментах – двух почти одинаковых четырехметровых телескопах, один из которых расположен на горе Китт-Пик в Аризоне, а другой – на горе Серро-Тололо в Чили.
В статье, написанной в соавторстве с Норьертом Тоннардом и опубликованной в ноябре 1978 года в Astrophysical Journal Letters, Рубин и Форд представили результаты, полученные для 10 галактик, и пришли к выводу, что «кривые вращения спиральных галактик высокой светимости плоские вплоть до r = 50 кпк (163 000 световых лет) от центра»3. Что это значит? К этому времени теоретики Острайкер, Пиблс и Яхил уже предположили, что дисковые галактики окружены протяженными массивными гало (см. главу 4). Быть может, новые результаты представляют собой наблюдательное подтверждение модели с гало?
Но авторы продолжали осторожничать. «Представленные здесь наблюдения являются… обязательным, но не достаточным условием существования массивных гало», – написали они. Другими словами, крупное, более или менее сферическое массивное гало действительно обеспечит плоскую кривую вращения, но такую кривую можно также получить, предположив наличие дополнительной материи в плоскости галактического диска. «Эти наблюдения не позволяют сделать выбор между сферической и дисковой моделями».
Самая знаменитая статья Рубин и Форда вышла спустя два с половиной года, в декабре 1980-го, тоже в The Astrophysical Journal и тоже в соавторстве с Тоннардом4. На этот раз они представили наблюдения как минимум для 21 галактики. У всех них – и даже у гигантской UGC2885, которая почти в два раза крупнее нашей собственной Галактики, – оказались плоские кривые вращения. В некоторых случаях орбитальная скорость даже слегка возрастает к видимому краю галактики.
По словам Рубин, Форда и Тоннарда, «отсюда следует неизбежный вывод о наличии за пределами видимой части галактики несветящейся материи». По поводу же количества невидимой субстанции они не смогли предложить ничего, кроме вопросов: «Если бы мы имели возможность выполнить наблюдения за пределами оптического изображения в небольших галактиках, то обнаружили бы дальнейшее увеличение скорости?.. Неужели на светящуюся материю приходится лишь небольшая часть массы галактики?»
Шли годы, и статья 1980-го стала восприниматься как провозвестница революции в изучении темной материи. В своей вышедшей в 1998 году книге «Темная материя»5 Уоллас и Карен Такеры отметили: «Вера Рубин перевела темную материю из предмета в основном умозрительных рассуждений в разряд реальных, насущных проблем». Но когда Рубин, Форд и Тоннард опубликовали свои результаты, плоские кривые вращения спиральных галактик не попали на страницы газет и научно-популярных журналов. Из астрономических тем у издателей гораздо больший интерес вызывали потрясающие снимки Сатурна, переданные в ноябре 1980 года космическим аппаратом НАСА «Вояджер‑1».
Кент Форд ушел на пенсию в 1989 году. Они с Эллен перебрались на уединенную ферму в Миллборо-Спрингс, расположенную на берегах реки Каупасчер. Разумеется, Форд оставался на связи с Рубин – они время от времени встречались в гостях или на симпозиумах. Но в 2011 году она не смогла приехать на его 90-летний юбилей из-за перелома бедра. Рубин перебралась в Принстон, чтобы быть поближе к сыну. Она так и не смогла оправиться от смерти дочери Джуди, которой не стало в 2014 году. У Рубин начались проблемы с памятью, и ее здоровье ухудшилось. В день Рождества в 2016 году раздался телефонный звонок с печальным известием из отдела земного магнетизма Института Карнеги.
К тому времени темная материя – когда-то малоизвестное астрофизическое понятие – перешла в разряд важнейших неразгаданных тайн, над решением которых бьются сотни астрономов, космологов и специалистов по физике элементарных частиц, и, по мнению многих, в первую очередь благодаря Вере Рубин эта тема вышла на передний край науки. А еще она очень много сделала для поддержки женщин-ученых и стала вдохновляющим примером для девочек, пожелавших связать жизнь с работой в области точных и инженерных наук.
4 января 2017 года физик Лиза Рэндалл из Гарвардского университета написала в авторской колонке New York Times:
«Разумеется, [представленные убедительные свидетельства существования темной материи] следует считать одним из величайших достижений физики XX столетия и безусловно заслуживающими Нобелевской премии как исключительной награды в этой области науки. Этого не случилось и уже не случится никогда, потому что Вера Рубин, с чьим именем в первую очередь связывают [подтверждение] существования [темной материи], умерла в рождественский день».
Рэндалл добавила: «На эту очевидную проблему никто не обращает внимания», – имея в виду других женщин-ученых, так и не удостоенных заслуженной ими Нобелевской премии6.
Сидя на кушетке у себя в глуши, Кент Форд, задумавшись, говорит со своей приветливой улыбкой: «У меня нет четкого мнения на этот счет. Я помню, как директор отдела земного магнетизма говорил, что надеется никогда не получить Нобелевскую премию, потому что весь этот шум не оставит времени на нормальную работу. Что ж, этого не случилось, ну и ладно». А пока что Форд рад тому, что до сих пор не угас интерес к их опубликованному более 40 лет назад исследованию кривых вращения. «Забавно сидя здесь, в глубинке, читать об этом в New York Times».
«А пока что не надо забывать о радионаблюдениях», – говорит он, имея в виду самые удаленные от центра точки на графике кривой вращения галактики Андромеды, который он поставил обратно на комод. «Вам следует обязательно поговорить об этом с Мортом Робертсом».
Я уже записал это имя к себе в записную книжку. Перед отъездом я также спросил Форда о диссертации нидерландского астронома Альберта Босма, защищенной им в 1978 году, на которую они ссылаются в статье 1980-го в Astrophysical Journal. «Извините, – говорит он. – Я ничего про нее не знаю. Бо`льшую часть статьи писала Вера».
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе