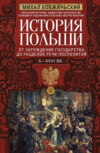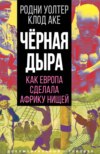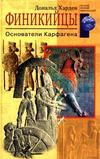Читать книгу: «Слон во Вселенной. 100 лет в поисках темной материи», страница 4
4. Эффект гало
“
Мой муж говорит, что темная материя – это реальность, не просто выдумка подрастающих компьютеров, он может доказать, что она существует, что она повсюду создает незримое гало вокруг любого объекта и силой гравитации как-то не дает всему развалиться7
”
Эти шесть первых строк стихотворения «Темная материя и темная энергия», написанного в 2015 году признанным поэтом Алисией Острайкер, замечательно и кратко характеризуют суть ранних работ ее мужа, астрофизика-теоретика Джереми Острайкера. Оба они пытались охватить мыслью загадку: Алисия – тщательно выводя строки на белом листе, а Джерри – лихорадочно записывая на доске уравнения. Пока что ни один из этих подходов не привел к успеху. Как написано в девятой строке стихотворения, «Мы не знаем, что это, но знаем, что оно реально»1.
Джерри Острайкер спешил. Он собирался на конференцию, посвященную рождению черных дыр, до начала которой оставалось меньше часа. Рассказать про загадки! Но ведь времени вполне хватит, чтобы обсудить его работы 1970-х годов, посвященные гало из темной материи, не так ли? В небольшом аккуратном рабочем кабинете на 11-м этаже корпуса Пьюпина в Колумбийском университете Острайкер с ходу начинает свой рассказ, сопровождаемый уравнениями, которые он тут же пишет на листке в блокноте. Время от времени он подходит с мелом в руке к висящей на стене доске, чтобы пояснить свои соображения при помощи формул и наспех набросанных графиков2.
Невысокий, лысеющий, дружелюбный и при этом напористый человек восьмидесяти с небольшим лет, и да – спешащий. Острайкер мечтает дожить до решения загадки или даже сам его найти. Последние пару лет он был увлечен идеей «размытой» темной материи (подробнее о ней рассказывается в главе 24). Идея, пожалуй, сумасшедшая, но пока никто не смог ее опровергнуть. По словам Острайкера, шанс, что она окажется верной, около 50 %. Но на подробные объяснения уже нет времени – «Почитайте мою статью».
Это забавно, потому что в 50-х годах прошлого века астрономия для него была далеко не на первом месте. Острайкер изучал химию и физику. Но, прочтя в журнале Fortune статью о великом астрофизике Субраманьяне Чандрасекаре, он решил подать заявление в аспирантуру Чикагского университета – знаменитый индийско-американский ученый работал там в Йеркской обсерватории, занимаясь теоретическими исследованиями эволюции звезд и при этом еще был редактором престижного журнала Astrophysical Journal.
Чандрасекар наиболее известен своими работами, посвященными белым карликам – сверхплотным звездам, примерно равным по массе Солнцу и при этом по размеру сравнимым с Землей. Через несколько миллиардов лет, в конце своей жизни, наше Солнце сожмется, превратившись в такой же странный компактный объект, у которого масса каждого кубического сантиметра будет сравнима с массой целого внедорожника. Сжатие Солнца будет сопровождаться очень сильным ускорением его вращения. Главная тема диссертации Острайкера – это устойчивость таких быстровращающихся белых карликов. Если белый карлик раскрутится до достаточно большой скорости, то он начнет терять массу, разваливаться или что? Острайкер все еще продолжал биться над проблемой устойчивости, когда перебрался в Кембриджский университет на должность постдока под руководством астрофизика Дональда Линден-Белла. Это было в середине 1960-х годов. Стивен Хокинг тогда еще был студентом Кембриджского университета.
Разумеется, как это часто бывает в астрономии, устойчивость вращающейся звезды невозможно проверить в лаборатории. Задачу не получится решить с достаточной степенью подробности аналитически, с помощью изящной системы уравнений. Острайкер был вынужден применить численные методы и компьютерное моделирование. Это все кажется простым в наше время, но тогда компьютер занимал несколько комнат, не было стандартных языков программирования, а тексты программ приходилось вводить вручную, пробивая отверстия в бумажной ленте. Только в 1968 году программа Острайкера наконец правильно заработала. К этому времени он возвратился в США, где работал в Принстонском университете. С 1968 по 1973 год Острайкер в тесном сотрудничестве с Питером Боденхаймером и другими астрофизиками опубликовал по меньшей мере восемь статей под названием «Быстровращающиеся звезды»3.
Ну и каков же ответ? Что происходит с белым карликом или вообще любой звездой, если она слишком быстро раскрутится? Мы возвращаемся в кабинет Острайкера, и он снова принимается выписывать уравнения. Угловой момент. Момент инерции. Вязкость. Потенциальная энергия. Довольно сложно, если пытаться все учесть. Но результат всегда один: сначала звезда сплющивается в направлении полюсов подобно земному шару или любому другому вращающемуся телу. Но потом происходит нечто необычное. При дальнейшем увеличении скорости вращения форма звезды меняется. Она становится вытянутой – она больше не похожа на осесимметричную тыкву, а скорее походит на кувыркающуюся гантель. И в какой-то момент звезда разделяется на две.
Я не очень дружу с уравнениями. Мне трудно понять то, что для Острайкера – «простая физика». Но когда он объясняет простыми словами, до меня доходит. Вращающиеся объекты с большим угловым моментом чувствуют себя уютнее, если они вытянуты, как шоколадные батончики, и кувыркаются, как жезл тамбурмажора. Острайкер взглянул на часы. Мы еще не начали говорить про гало галактик, но уже почти у цели. Разве такое предпочтение удлиненной форме бывает только у звезд? А что с дисковыми галактиками вроде нашей собственной?
Когда Острайкер работал в Принстонском университете, его кабинет располагался в Пейтон-холле – это совсем рядом с Джадвин-холлом, где Джим Пиблс занимался изучением фонового реликтового излучения и космологическими исследованиями. Джим и Джерри замечательно находили общий язык, обсуждая такие разные проблемы, как первичный нуклеосинтез, пульсары, крупномасштабная структура Вселенной, космические лучи и программирование. Ну и, конечно же, устойчивость спиральных галактик.
Пиблс и сам занимался численными расчетами, поскольку его интересовали гравитационные эффекты темной материи в скоплениях галактик. В то время в Принстонском университете не было достаточно мощных компьютеров для выполнения таких расчетов, и поэтому в 1969 году Пиблс провел целый месяц в Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико, чтобы воспользоваться сверхмощными компьютерами министерства энергетики США. Тогда Пиблс был еще канадским гражданином и поэтому в Лос-Аламосе находился под постоянным надзором секретаря, который присматривал за ним, читая книгу, чтобы ученый не помешал выполнению секретных программ – ведь это была государственная лаборатория, где велись работы по созданию вооружений.
Моделирование галактики на компьютере – дело довольно простое. Начинаем с начального распределения «пробных частиц», каждая из которых обладает определенной массой. На основании закона всемирного тяготения Ньютона для каждой частицы рассчитываем суммарную силу гравитационного притяжения ее остальными частицами. Потом вычисляем место, где каждая частица окажется через определенное время под действием этой суммарной силы. Таким образом получаем новую конфигурацию, которая служит исходной для очередного шага вычислений. Чем больше пробных частиц и чем короче шаг по времени, тем точнее и надежнее результаты моделирования, но, к сожалению, тем больше затраты машинного времени.
Мне это хорошо знакомо. В начале 80-х годов прошлого века я написал простую программу на бейсике для своего нового восьмибитного персонального компьютера Commodore 64. Это была программа для моделирования гравитационного хаоса, порождаемого столкновением двух вращающихся дисковых галактик, – все-таки я немного разбираюсь в уравнениях. На расчет каждого шага по времени уходило около 15 минут. Результат работы программы в течение целого дня показался мне весьма внушительным, хотя конфигурация точек у меня на мониторе, скорее всего, была мало похожа (если вообще походила) на то, как это происходит в реальном мире. (Мы вернемся к обсуждению такого рода моделирования – так называемому моделированию задачи N тел – в главе 11.)
Опыт работы Пиблса в Лос-Аламосской лаборатории заинтересовал Острайкера. А что, если немного подправить программу Пиблса и применить ее для моделирования эволюции дисковой галактики на предмет выяснения ее устойчивости (или неустойчивости)? Раз быстровращающаяся звезда может деформироваться и распасться на две, то разве может быть устойчивой плоская вращающаяся дисковая система из миллиардов звезд вроде нашей собственной Галактики? Лепешка скорее деформируется, превратившись в сэндвич-субмарину, совсем как при быстром вращении тыквообразная звезда превращается в гантелеобразное тело.
И действительно, результаты самых первых двумерных численных моделей вращающихся дисковых галактик, опубликованные астрономами Ричардом Миллером, Кевином Прендергастом и Биллом Квирком в 1970 году и Фрэнком Холом в 1971-м, оказались именно такими: изначально круглый диск превращается в удлиненную структуру, по форме напоминающую брусок, а звезды галактики переходят на очень сильно вытянутые эллиптические орбиты, совсем не похожие на наблюдаемое в Млечном Пути упорядоченное круговое движение4. Профессор Принстонского университета Эд Грот помог Пиблсу и Острайкеру создать программу для университетского компьютера, позволявшую рассчитывать эволюцию трехмерной модели. Полученные ими результаты оказались в прекрасном согласии с результатами Миллера, Прендергаста, Квирка и Хола. Как Острайкер и Пибблс написали в своей статье в The Astrophysical Journal, «плоские осесимметричные галактики сильно и необратимо неустойчивы»5.
Но в своей ставшей знаменитой статье, опубликованной в декабре 1973 года, они пошли еще дальше. Одно дело – показать неустойчивость упорядоченно вращающихся дисковых галактик, и совсем другое – объяснить, почему мы повсюду вокруг нас во Вселенной видим такие галактики. Что позволяет нашей собственной Галактике сохранять аккуратный вид? Почему она не разваливается?
Острайкер выжидательно переводит взгляд со своего блокнота на меня, как будто это я должен дать ответ. Это же вопрос простой физической интуиции – по словам Острайкера, кто угодно должен был бы догадаться. Вращающиеся маломассивные галактики неустойчивы, но проблему можно решить, увеличив массу. Но если просто добавить массу во вращающийся диск, то галактика останется такой же неустойчивой – модельные расчеты показали, что неустойчивость есть следствие самой дискообразной формы. Нет, добавочная масса должна быть распределена по огромному и более или менее сферическому гало, не участвующему в упорядоченном вращении диска.
Сначала интуиция, а потом уж математика. Новые компьютерные модельные расчеты на основе той же самой программы, но с совершенно другим начальным распределением пробных частиц подтвердили это предположение: при наличии очень массивного сферического гало (с массой до двух с половиной масс диска) плоская вращающаяся галактика остается устойчивой и сохраняет свой аккуратный упорядоченный вид. В своей статье Острайкер и Пиблс сформулировали это так: «По-видимому, массивное гало – это самое подходящее решение для нашей Галактики». Ну и, разумеется, для других «холодных», то есть упорядоченно вращающихся, дисковых галактик.
Эпохальная статья «Численное исследование устойчивости уплощенных галактик, или Возможно ли выживание холодных галактик» цитируется во всех обзорах, посвященных изучению темной материи. И авторы всех таких обзорных публикаций напоминают, что Острайкер и Пиблс первыми показали, что галактики вроде нашей могут быть устойчивыми только при наличии огромного массивного гало из темной материи. (Позднее выяснилось, что случайные высокоскоростные движения в ядрах галактик тоже могут обеспечить устойчивость плоских вращающихся дисков, но большинство астрономов все же считают правильной именно первоначальную догадку.) При этом в 14-страничной статье ни разу не встречается словосочетание «темная материя». Хотя ученые и начали рассматривать гало как возможные вместилища темной материи, в 1973 году Острайкер с Пиблсом не хотели заходить так далеко. Было, конечно, очевидно, что заключенная в гало масса не должна была сильно излучать свет, – в конце концов мы не видим, чтобы спиральные галактики были окружены сияющими сферами. Но кто знает, быть может, все объясняется большим количеством очень тусклых звезд.

Так художник изобразил окружающее спиральную галактику наподобие нашей невидимое гало из темной материи (в виде размытого облака)
На самом деле астрономы уже знали, что у галактик есть гало – этот термин был впервые употреблен в 20-х годах прошлого века – а также что в этих гало обитают звезды. Например, десятки так называемых шаровых скоплений, каждое из которых состоит из огромного числа – до нескольких сотен тысяч – звезд, клубятся роем вокруг центра Млечного Пути, образуя близкую к сферической подсистему с сильной концентрацией к галактическому ядру. С точки зрения Острайкера и Пиблса, в гало вполне могло быть бесчисленное множество тусклых карликовых звезд, суммарная масса которых достаточна для обеспечения устойчивости Млечного Пути. Как писал еще в 1965 году Ян Оорт, «согласно оценкам, на [оранжевые и красные карликовые звезды] может приходиться около 5 % всей массы Галактики. Но невозможно оценить, какая еще масса сосредоточена в звездах меньшей светимости. Истинная масса гало остается совершенно неизвестной»6.
Ну и каковы же массы гало галактик? Или, другими словами, каковы массы спиральных галактик? Этому была посвящена вторая, гораздо более краткая статья Острайкера и Пиблса, опубликованная ими в 1974 году в соавторстве с израильским астрофизиком Амосом Яхилом, который в то время был приглашенным исследователем в Принстонском университете7. Острайкер считает эту статью более важной, чем первая. Но до начала конференции по черным дырам в том же самом корпусе Пьюпина остается всего около 15 минут, так что времени на более подробное обсуждение нет. «Почитайте статью», – говорит Острайкер.
Это дерзкая статья со смелым названием – «Размеры и массы галактик и масса Вселенной» – и к тому же со множеством радикальных утверждений. Уже самая первая строка вполне могла огорошить некоторых читателей в 1974 году. «Есть все больше оснований (и все более весомых) считать, что оценки масс обычных галактик занижены как минимум в 10 раз». Всего на четырех страницах Острайкер, Пиблс и Яхил подытожили разнообразные свидетельства того, что хлипкие на вид спиральные галактики на самом деле могут оказаться самыми настоящими тяжеловесами. Гораздо более массивными, чем можно судить на первый взгляд.
Галактику не положишь на весы, но есть другие способы оценки ее массы. Достаточно просто посмотреть, насколько сильно она притягивает своих соседей. Наша Галактика – Млечный Путь – окружена карликовыми галактиками. Размеры – и сравнительно четкие границы – этих спутников определяются соотношением между их собственным внутренним тяготением и массой Млечного Пути. Динамика малых групп галактик и обращающихся вокруг друг друга пар галактик служит источником информации о массах других таких звездных систем. И везде мы видим одно и то же: получаемые на основе этих данных оценки масс намного больше ожидаемых на основании наблюдаемого света. Или, на языке астрофизиков, мы везде обнаруживаем очень высокое отношение массы к светимости.
Что касается притяжения, то наш Млечный Путь и соседняя галактика Андромеды дают еще одно свидетельство в пользу огромных масс галактик. Несмотря на общее расширение Вселенной, в настоящее время эти две спиральные галактики под действием взаимного притяжения сближаются со скоростью 110 км/с. Еще в 1959 году Франц Кан из Манчестерского университета и астрофизик из Лейдена (а также ученик Оорта) Лодевик Вольтер пришли к выводу, что большую скорость сближения можно объяснить только предположив, что суммарная масса двух галактик и расположенного между ними вещества составляет порядка триллиона масс Солнца – то есть опять получается очень большое отношение массы к светимости8.
Что касается меньших масштабов, то из результатов тогда еще новых радиоастрономических наблюдений (о которых подробнее пойдет речь в главе 8) следовало, что и у самих спиральных галактик должно быть большое отношение массы к светимости. Согласно этим предварительным результатам, внешние области спиральных галактик вращаются слишком быстро – а это говорит о том, что в них сосредоточена большая масса. Иначе они бы просто распались. И при этом начиная с определенного расстояния от центра яркость галактики резко снижается. Так что и в этом случае количество излучаемого света не согласуется с требуемым значением массы.
Более сильное притяжение, бо́льшие размеры и масса. Похоже, что астрономы сильно недооценили галактики и силу притяжения материи. И где же могла скрываться вся эта малоизлучающая материя? Правильно – конечно же в гало, которое, как показали Острайкер с Пиблсом, необходимо в первую очередь для обеспечения устойчивости звездной системы. В своей работе 1974 года с Яхилом они предположили, что гало галактик могут состоять в основном из звезд низкой светимости (в этой второй статье темная материя не упоминается вовсе), но теперь появились основания для серьезного беспокойства. Десятикратное увеличение оценки массы – откуда же взять столько карликовых звезд?
Но в названии статьи есть еще и вторая часть: масса Вселенной. Если известно среднее значение отношения массы к светимости для галактик, то, оценив число галактик в пределах определенного расстояния, нетрудно рассчитать среднюю плотность в ближней части Вселенной (даже я могу это сделать). Острайкер, Пиблс и Яхил получили величину 2 × 10–30 граммов на кубический сантиметр, то есть около одного атома водорода на кубический метр – это если размазать массу всех галактик по пространству. В своей статье в журнале Nature трое эстонских астрономов – Яан Эйнасто, Антс Каасик и Энн Саар – независимо пришли к такому же заключению9.
Но эта величина при всей ее малости представляется невероятно большой. В начале 70-х годов прошлого века космологи и физики-ядерщики начали приходить к пониманию процессов синтеза химических элементов во время Большого взрыва, и из сравнения полученных результатов с наблюдаемым содержанием дейтерия (тяжелого водорода) во Вселенной получалась гораздо меньшая оценка современной плотности Вселенной. (Подробнее об этом рассказывается в главе 7.) Другими словами, выглядело все так, будто для объяснения полученных Принстонской группой и эстонскими астрономами оценок масс галактик во Вселенной не хватает атомов.
Материя, но не такая, какой мы ее знаем.
Острайкеру пора идти. Он дает мне книгу «Сердце тьмы» (Heart of Darkness), которую он написал в 2013 году вместе с британским астрономом и популяризатором науки Саймоном Миттоном10. Уже в лифте Острайкер рассказывает мне о своем докладе на ежегодной конференции Национальной академии наук в 1976 году в Вашингтоне, где он представил свое совместное исследование с Пиблсом и Яхилом. «Гораздо позже кто-то спросил меня, почему я не упомянул в этом докладе работу Веры Рубин». Я понимающе киваю – разве не она первой обнаружила, что внешние области галактик вращаются слишком быстро? «Вера была выдающимся астрономом, – продолжает Острайкер, – но в то время в ее распоряжении были лишь предварительные результаты. Статья, принесшая ей заслуженную славу, была опубликована лишь в 1980 году».
Я покинул Колумбийский университет в некотором замешательстве. К сожалению, у меня нет возможности поговорить с Верой Рубин – она умерла в 2016 году. Но есть еще ее соавтор Кент Форд – а что расскажет он? Сидя в кафе Starbucks напротив Бродвея, я проверил электронную почту и привел в порядок свои записи. Столько всего произошло в 1970-х годах, почти полстолетия назад. Так много удивительных результатов, и все они указывали на то, что наша расширяющаяся Вселенная находится под властью темной таинственной субстанции, которая совсем не похожа на материю, из которой состоят звезды, планеты и люди.
За окном был январский мороз, и мимо проходили небольшие компании студентов, молодые родители с детьми, спешили по делам бизнесмены и проезжали бесчисленные автомобили и такси. Мы все стараемся устроить свою жизнь как можно лучше и в большинстве своем не имеем представления о нашем месте в галактике Млечный Путь, не говоря уже об окружающей ее огромной темной оболочке. И совершенно не подозреваем, что без этой субстанции нас бы попросту не существовало.
Она так важна, и при этом мы не знаем, что это такое.
Я гляжу на последние строки стихотворения «Темная материя и темная энергия», которое Алисия Острайкер написала в том самом году, когда ее муж стал одним из лауреатов престижной премии Грубера по космологии. Это прекрасные строки, но и они не дают ответа.
“
вот так же каждый человек и каждый атом летит сквозь пространство, укутанный незримым гало; эта огромная тень – это темная-претемная материя, милый, а тем временем галактики, каждая в своем роскошном защитном пузыре, свирепо таращатся друг на друга и все-таки волей-неволей горделиво расходятся в разные стороны 8
”
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе