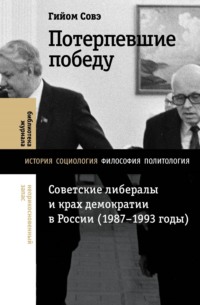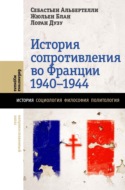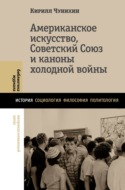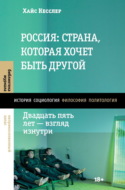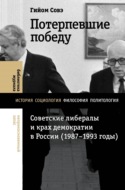Читать книгу: «Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы)», страница 5
Глава 2
Либеральный морализм перестройки
Другая сторона эпохи <…> – нравственная деградация общества. <…> Развращающая ложь, умолчание и лицемерие должны уйти навсегда и бесповоротно из нашей жизни. Только внутренне свободный человек может быть инициативным, как это необходимо обществу.
Андрей Сахаров, 1988 год95
Медийная популярность советской либеральной интеллигенции в общественной жизни эпохи перестройки стала возможной благодаря поддержке влиятельных фигур из ближайшего окружения Горбачева96. С 1986 года эти реформаторы начали назначать либералов на должность руководителей важных СМИ. Несколько раз они даже высказывались против решений цензора, что позволило публиковать эссе, проникнутые новыми идеями, и литературные произведения, которые долгое время были под запретом. Начиная с 1987 года либеральная пресса – как художественная, так и публицистическая – вызывает огромный интерес у советской общественности. С 1985 по 1989 год тираж еженедельника «Огонек» вырос с 1 500 000 до 3 350 000 экземпляров, а тираж ежемесячных журналов «Знамя» и «Новый мир» – с 1 750 000 до 1 980 000 и с 425 000 до 1 573 003 экземпляров соответственно. Столь впечатляющий рост тиражей не может даже удовлетворить спрос читателей, готовых стоять в очередях у газетных киосков, чтобы заполучить последний номер этих периодических изданий. Очень быстро либеральные интеллектуалы оказались в числе самых популярных политических мыслителей в стране97. В последующие годы они задавали тон в основных дебатах в советской общественной жизни, которые касались борьбы со сталинским наследием и возвращения к «мировой цивилизации» (то есть к западным стандартам): демократизации, введению рынка и т. д.
Наследники гуманистического социализма
Мораль занимает важное место в политическом дискурсе либеральной интеллигенции. Как и многим интеллектуалам, выступавшим на публике в это время, им не претила роль моралистов, они стремились убедить своих современников в необходимости жить, не поступаясь принципами, и называли нравственное исправление условием и одновременно конечной целью политических и экономических реформ. Однако они не выступали ни за мобилизацию коммунистической морали, ни за возвращение к русским традициям. Они отстаивали скорее «общечеловеческие ценности», которые ассоциируются у них с либеральными идеями, такими как парламентская демократия, права человека, конституционализм, правовое государство и т. д. Они отвергают марксистско-ленинскую доктрину, но не сам социализм. На самом деле большинство советских либералов причисляли себя к сторонникам социализма по крайней мере до 1990 года98. Учитывая самоцензуру, к которой они часто прибегали, трудно бывает иногда оценить степень их приверженности социализму, но многие из идеалов и аргументов, на которые они ссылаются, напрямую связаны с гуманистическим социализмом, за который они выступали в 1950‑х и 1960‑х годах, в период десталинизации: модернистская вера в прогресс человечества благодаря разуму и науке, а также романтический идеал гармоничной самореализации человека и естественного развития общества. Эта точка зрения не была чисто советской: социологи Гил Эяль, Иван Селеньи и Элеонора Р. Таунсли отмечали, что идеология, культивируемая в то время восточноевропейскими диссидентами, стремилась к обществу, которое «примиряло бы фундаментальные антиномии модерности», сочетая рациональность с обещанием преодолеть расколдовывание мира99. Более того, как и их восточноевропейские коллеги, советские либералы критиковали сталинизм, используя те же самые термины, к которым когда-то прибегал сталинизм, обвиняя западное капиталистическое общество и ссылаясь, например, на отчуждение индивида в руках искусственной бюрократической системы или на структурное обобщение лицемерия и цинизма.
Идея «общечеловеческих ценностей» как таковая не нова. Принцип универсальности моральных норм был заявлен уже в марксизме-ленинизме. Большая советская энциклопедия утверждает, что «социалистическая и коммунистическая нравственность концентрируют в себе в наиболее полном выражении и все нормы общечеловеческой морали»100. Однако советские либералы придерживались точки зрения, которую марксизм-ленинизм отвергал как абстрактный и буржуазный гуманизм, поскольку она предполагала существование неких «общечеловеческих ценностей», общих для всего человечества независимо от производственных отношений, в которых они заложены. В соответствии с этим абстрактным универсализмом бинарное противостояние между коммунизмом и капитализмом во время холодной войны теряет свое значение в глазах советских либералов, уступив место всемирному сближению вокруг общих ценностей, таких как честность, искренность, социальная справедливость, а также определенных форм социальной организации, а именно парламентской демократии и рыночной экономики. Эта защита «общечеловеческих ценностей» порождает особый вариант ощущения морального упадка, который – как часто бывало в то время – также содержит важный романтический аспект. В данном случае речь идет об освобождении общества от искусственного ига сталинской системы управления с целью возвращения в русло естественного прогресса.
Тоска по прогрессу
Конечно, либеральные интеллектуалы – модернисты. Они считают, что перестройка должна вывести СССР на путь прогресса, ликвидировав отставание от «цивилизованного мира», то есть от западных стран. Так, историк Юрий Афанасьев призывает прекратить «демонизацию капитализма» и использовать его потенциал, физик Андрей Сахаров говорит о «конвергенции» социализма и капитализма в будущем путем адаптации первого ко второму, а историк Леонид Баткин хочет, чтобы советское общество «стало Европой»101. Каждый из них хочет продолжить модернизацию, которую не смогла довести до конца советская модель и чей путь, по их мнению, проложили разум и наука. Переход к демократии и рынку, по их мнению, отвечает объективным требованиям современного, рационального и эффективного общества. В то же время эти интеллектуалы выказывают сильную романтическую меланхолию по поводу естественного развития общества, которое было прервано в СССР искусственным и бездушным социальным экспериментированием. Яркой иллюстрацией этого является постоянное использование ими природных метафор. Например, Юрий Афанасьев сравнивает потерю исторического сознания советского общества с экологической катастрофой:
С этой точки зрения можно и должно констатировать, что для значительной части советского общества историческая, социально-психологическая экология на сегодня существенно деформирована, и по этому поводу надо бить тревогу столь же сильно, как и в случае с поворотом северных рек. С той, однако, разницей, что здесь реки уже едва ли не повернуты и, следовательно, на этом поприще во многом требуются не только профилактика, предостережение, но уже и восстановление жизненной среды102.
Леонид Баткин также отстаивает видение прогресса, противопоставляющее искусственное строительство естественному росту. В августе 1989 года он завершил следующими словами статью, направленную против монополии Коммунистической партии: «Теперь не будем жить по „предначертаниям“, а просто – жить: работать, думать, сталкиваться в парламенте, бороться на выборах. Будет общество не строиться, а расти и созревать, как растет лес и созревает плод по отчасти таинственным законам»103.
С этой точки зрения прогресс разума и триумф научной истины направлены не на создание нового мира, а на возвращение к естественному ходу исторического развития общества, следуя присущим ему моральным установкам, примером которых, как кажется либералам, являются западные страны. Как показывает обширное исследование общественного дискурса перестройки, проведенное историком Тимуром Атнашевым, они далеко не единственные, кто мыслит подобным образом104. Почти все интеллектуалы, независимо от их идеологической ориентации, разделяли в то время телеологический постулат о благотворном характере исторического процесса. Большинство участников дебатов по поводу истории страны, которые бушевали в то время, пытались определить тот роковой исторический момент, начиная с которого общество якобы отклонилось от своего естественного пути развития. Либералы, националисты и, конечно, консервативные коммунисты расходятся во мнениях относительно этого момента – во времена сталинского террора, отмены новой экономической политики (НЭП), Октябрьской революции или даже раньше, – но сходятся во мнении, что общество не может добиться прогресса, если сначала не вернется в то состояние, в котором находилось накануне развилки. С этой точки зрения прогресс направлен не на отрыв человека от природы, как в рационалистической и механистической логике эпохи Просвещения, которой придерживается марксизм-ленинизм, а на романтическое примирение с ходом «естественно-исторического развития», как выражались в то время105. Правда, в отличие от консервативных националистов либеральные интеллектуалы не впадают в меланхолию по поводу прошлого, застывшего на своих традициях. Они хотят вернуться на путь прогресса, рассматривая его как естественный процесс, ведущий к гармоничной и цивилизованной жизни, основанной на общечеловеческих ценностях, которая была прервана искусственным проектом. В среде либеральных интеллектуалов эта связь между верой в прогресс и романтическим идеалом естественного развития понимается по-разному, в зависимости от конкретного интеллектуального багажа. В качестве примера мы кратко представим литературоведов Юрия Буртина и Юрия Карякина, журналиста Лена Карпинского и писателя Алеся Адамовича.
Реификация социалистических идеалов
У Буртина и Карпинского меланхолия по поводу естественного прогресса на пути к гармоничному обществу была вызвана народнической идеей106, которая разделяет революционный и эгалитарный этос марксизма-ленинизма, но переносит свой идеал социальной гармонии на естественное начало, которое якобы предшествовало вмешательству государства: это было общество, основанное на горизонтальном сотрудничестве независимых собственников и самоуправляемых кооперативов. Характерной особенностью народнического подхода является противопоставление самостоятельной деятельности народа искусственному господству бюрократии. В постсталинском СССР эта концепция получила известное воплощение в «теории номенклатуры», разработанной югославским политическим деятелем Милованом Джиласом и советским историком Михаилом Восленским, которая утверждает, что социалистические общества управляются новым эксплуататорским классом, а именно номенклатурой Партии-государства. Эта теория обвиняет социалистическое общество в том, в чем сторонники социализма обычно обвиняют капитализм: классовое разделение, эксплуатация, отчуждение и господство бюрократии. Возможно, именно это и делает эту теорию столь привлекательной для социалистов-гуманистов, разочаровавшихся в марксизме-ленинизме, но заинтересовавшихся осуждением «мелкобуржуазных» пороков, вездесущих в современном им обществе, презирать которые их научило сталинское воспитание, подпитанное классиками русской литературы.
Юрий Буртин, по его собственному признанию, в молодости был ярым сталинистом107. Внук образованного крестьянина, выросший в деревне, он живо интересовался трагической судьбой русского крестьянства. Эта увлеченность выражается в его литературных вкусах и взглядах, публичное выражение которых привело к тому, что в университете к Буртину были применены дисциплинарные меры, а репутация испортилась настолько, что его шансы на вступление в партию свелись к нулю. После ряда разочарований, которые подорвали его веру в марксизм-ленинизм, Буртин окончательно отверг социализм в начале 1960‑х годов под влиянием Солженицына, чью бескомпромиссную критику советской власти он подхватывает. Однако Буртин не разделял осуждение Солженицыным западной цивилизации. Перенося на западный капитализм идеалы народников, Буртин видит в нем воплощение идеала естественной общины без классового расслоения, в то время как социализм представляется ему режимом абсолютно беззаконного господства привилегированного меньшинства, как это утверждает «теория номенклатуры», которая ходила в то время в самиздате. Романтический характер буртинского бунта против искусственности советской системы ясно прослеживается в основной теоретической статье, над которой он втайне работал с 1975 года и которая в конечном итоге была опубликована в 1989 году108. В ней Буртин осуждает главную, по его мнению, ошибку Маркса: он полагает, что Маркс не увидел, что в капитализме содержатся универсальные элементы, а именно рынок и демократия, которые позволяют ему развиваться естественным образом. Социалистическая революция, по мнению Буртина, «не столько устранила то, что устарело <…> а скорее резала по живому, разрушала и вытаптывала все, что было живого и жизнеспособного в исторической перспективе. Это было насильственное прерывание естественной и исторической эволюции капиталистического общества, устранившее всю социальную структуру, которая развивалась в нем»109. Буртин настаивает на искусственном характере этого действия, порвавшего с естественными динамическими силами капиталистического общества. В отличие от буржуазной революции, которая, по его словам, «произвела на свет» целостное существо – капитализм «с головкой, ручками, ножками и всем остальным, что ему нужно для жизни», социалистическая революция явилась «актом создания общественного строя, которого до тех пор вовсе не существовало в природе»110. Перестройка, по его мнению, должна вернуться к общечеловеческим ценностям, то есть к демократии и рынку, которые соответствуют естественному развитию общества и были отвергнуты коммунистической системой.
Журналист Лен Карпинский считает, как и Буртин, что советское общество характеризуется классовым разделением на народ и привилегированное меньшинство, которое основывает свое господство на силе бюрократического государства. Карпинский критикует власть номенклатуры, руководствуясь собственным опытом, поскольку сам был выходцем из элитарной среды. Его отец, Вячеслав Карпинский, был одним из первых большевиков и личным секретарем Ленина во время ссылки в Швейцарию. Лен Карпинский, названный в честь Ленина, воспитывался в знаменитом Доме на набережной, грандиозном московском здании, в котором проживала советская элита. Готовясь к работе на самых высоких постах в партии, он сделал блестящую карьеру в комсомоле в студенческие годы, но преследование его еврейского друга и знакомство с трудной жизнью в деревне, куда он был направлен в качестве пропагандиста, заставили его впервые усомниться в марксизме-ленинизме. Он становится сторонником гуманистического социализма в кругах московской интеллигенции, где часто встречается с Карякиным и Буртиным. Но в отличие от Буртина, Карпинский остался верен социализму, который, под воздействием народнических идеалов, он представлял себе как общество свободных собственников, где демократическим путем установлено самоуправление, а производство регулируется путем горизонтальных связей в соответствии с законами рынка. Для Карпинского рынок – это «универсальное достижение человеческой цивилизации», которое было «открыто» задолго до капитализма, и поэтому он считает вполне естественным, что лучше всего рынок может функционировать при социализме111. В отличие от капитализма, который, по его мнению, характеризуется концентрацией собственности в руках немногих граждан, Карпинский рассматривает социализм как тип социальной формации, который позволяет каждому человеку «развернуть свои силы и возможности, испытать себя во всех духовных измерениях». Для него романтический идеал самореализации не требует вмешательства государства, поскольку соответствует естественному состоянию общества. Социализм, по его словам, «тождествен вполне человечной, нормальной жизни; жизни с другими, но не за счет других»112, Карпинский, как и Буртин, считает, что в целом романтические идеалы самореализации и социальная органичность могут быть достигнуты не с помощью Партии-государства, как утверждает марксистско-ленинская доктрина, а вопреки ему. Прогресс общества для них – это, прежде всего, возрождение общечеловеческих ценностей, гарантирующих естественное развитие общества, начиная с демократии и рынка, которые были отвергнуты коммунистической системой.
К тому же у Юрия Карякина и Алеся Адамовича меланхолия по поводу естественного прогресса является результатом усвоения понятия нравственной чистоты, пропагандируемой Коммунистической партией, которую они интерпретировали как личную совесть, которая приобретает всемирное значение в контексте борьбы за мир и ядерное разоружение. В 1960‑е годы Карякина, воспитанного на социалистическом идеале моральной непримиримости и на отказе идти на компромисс по принципиальным вопросам, все больше беспокоила безнравственность советского руководства113. Он отказался от марксизма-ленинизма – но еще не от социализма, – а его духовными учителями стали Достоевский и Солженицын, научившие его судить о мире в соответствии с критерием личной совести, основанной на абсолютном требовании честности, правды и искренности. Однако он считает, что совесть основана не на традиционных ценностях, а на идее единого человечества, сплоченного угрозой ядерного уничтожения. В начале 1980‑х годов Карякин вместе со своим другом, писателем Алесем Адамовичем, начал принимать участие в движении за мир и ядерное разоружение114. В статье, опубликованной в самом начале перестройки115, Карякин утверждал, что возможность ядерной войны ставит человечество в такую ситуацию, когда совершенно необходимо преодолевать свои разногласия и строить политику на основе морали. По его мнению, ядерная угроза подтверждает смертельную опасность любого нарушения «объективных нравственных норм», которые, как он считает, так же абсолютно объективны, как законы физики. Карякин находится, похоже, под сильным влиянием трудов Лихачева, которого он с одобрением цитирует, описывая нравственную сферу как экосистему, которая должна быть восстановлена для собирания «всех жизненных, жизнетворческих сил для борьбы со смертью». Так же как Адамович в это время116, он с возмущением осуждает «бункерную психологию», которая заставляла многих людей беспокоиться о личном выживании, вместо того чтобы пытаться спасти человечество в целом. При этом Карякин и Адамович осуждают эгоистический индивидуализм с такой же силой, как и в годы своей сталинской молодости, но теперь они утверждают, что нравственность зависит от личной совести, которая является не носителем какой-либо доктрины или идей партии, а неотъемлемым атрибутом человечества, а угроза ядерного уничтожения придает актуальность такой позиции. Поэтому прогресс человечества требует, по их мнению, восстановления общечеловеческих ценностей, которые гарантируют функционирование моральной экосистемы.
Краткое описание этих четырех авторов дает лишь ориентиры для исследования истоков романтической чувствительности либеральной интеллигенции эпохи перестройки. Тем не менее эти элементы интеллектуальных биографий позволяют нам наблюдать общую тенденцию к реификации идеалов, изначально ассоциировавшихся с социализмом. Мы позаимствовали концепцию реификации (naturalisation) у историка Шейлы Фицпатрик117, которая использует ее для обозначения процесса, уже почти завершившегося, по ее мнению, к середине 1960‑х годов. Благодаря этому процессу советский человек больше не рассматривается как неопределенный идеал, который еще следует воплотить в жизнь; теперь он предстает как данность, с которой нужно считаться118. По мере того как прометеевский пафос формирования нового человека исчезает, черты советского общества все чаще представляются как универсальные свойства, истинность которых выходит за рамки исторического контекста классовой борьбы. Так мы увидели, что начиная с 1950‑х годов коммунистическая мораль упоминается в официальных документах как лучшее воплощение общечеловеческой морали. Эта точка зрения нашла большой отклик среди советских интеллектуалов, которые благосклонно относились к десталинизации, настаивали на универсальном значении социализма и впоследствии оказались в авангарде либеральной интеллигенции, приверженной перестройке. Их растущее разочарование в социализме, особенно после подавления в 1968 году Пражской весны с ее обещанием «социализма с человеческим лицом», а также встречи с глубоко романтическими интеллектуалами-националистами, такими как Солженицын и Лихачев, привели их к углублению реификации своих идеалов, отныне связанных не с универсальным характером проекта построения коммунизма, а с либеральными идеями парламентской демократии и рыночной экономики, которые, как им казалось, лучше воплощали естественное развитие общества. Даже когда моральные обещания советской модерности исчерпали себя, идеалы самореализации и интеграции в общество, развивающееся естественным путем, сохранились, но их романтическое восприятие обострилось настолько, что стало вызывать меланхолию: эти ценности были, кажется, утрачены на пути строительства коммунизма. Эта меланхолия, в свою очередь, побуждает к типичному романтическому протесту против искусственной системы, отвергающей эти ценности.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе