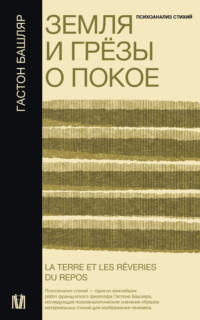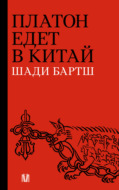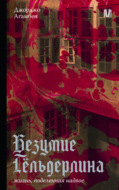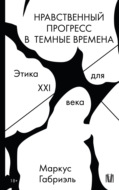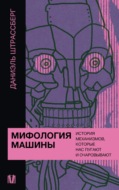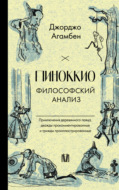Читать книгу: «Земля и грёзы о покое», страница 2
Алхимия тоже зачастую доверяет этой упрощенной диалектической перспективе внутреннего и внешнего. Часто она задается целью «перелицовывать» субстанции подобно тому, как выворачивают перчатки. Если ты умеешь располагать снаружи то, что внутри, и внутри то, что снаружи, – говорит один алхимик, – ты хозяин своей работы.
Алхимики также часто советуют промывать внутренние части субстанции. Эта глубинная промывка порою требует «вод», весьма отличающихся от обыкновенной. В ней нет ничего общего с поверхностным мытьем. Разумеется, глубинная чистота субстанции достигается и не путем ее простого измельчения под струей воды. С этой точки зрения пульверизация очищению не помогает. Только универсальный растворитель может вызвать это субстанциальное очищение. Порою темы выворачивания субстанций и внутреннего очищения объединяются. Субстанции выворачивают ради того, чтобы их очистить.
Итак, темы, характеризующие внутреннюю часть субстанций как противоположность внешней, изобилуют и усиливают друг друга. Такая диалектика придает ученый тон старинной поговорке: снаружи горькое, а внутри сладкое. Скорлупа горька, но орех хорош. Флориан27 написал басню на эту тему.
Не следует полагать, будто подобные инверсии внешних и внутренних качеств свойственны грезам, отжившим свой век. Поэтов, как и алхимиков, влекут глубинные инверсии, и, когда такие «перелицовки» производятся со вкусом, в результате получаются восхищающие нас литературные образы. Так, Франсис Жамм28, глядя на море, терзаемое камнями пиренейских горных потоков, полагает, что видит «изнанку воды». «Как же не назвать эту белизну изнанкой воды, воды, которая в спокойном состоянии бывает сине-зеленой, словно липа перед тем, как ее начинает сотрясать ветер?» (Nouvelle Revue Française, avril 1938, p. 640). Эта вода, вывернутая собственной субстанцией кверху, – удобный пример показать суровое удовольствие грезовидца, любящего воду материальной любовью. Он страдает, когда видит платье, разрываемое под бахромой пены, но без конца грезит о доселе невиданной материи. Ему диалектически открывается субстанция отражений. И тогда кажется, будто в воде есть «чистая вода» в том смысле, в каком говорят об изумруде чистой воды. Глядя на горный поток, Тэн29 в «Путешествии в Пиренеи» также грезит о сокровенной глубине. Он видит, как «исчерпывается» река; он видит «ее мертвенно-бледное чрево». Этот историк на каникулах, между тем, не замечает в ней образа встряхиваемой липы.
Такая диалектическая перспектива внутреннего и внешнего порою сопряжена с обратимой диалектикой снятой и вновь надетой маски. Строки из Малларме:
Un chandelier, laissant sous son argent austère
Rire le cuivre…
Подсвечник, повергающий под своим суровым серебром
Медь в смех…
Я их прочитываю двумя способами в зависимости от часа моих грез: вначале – ироническим тоном, слыша, как медь смеется над россказнями серебрения, а затем – более смягченным тоном, не издеваясь над канделябром, с которого сошло серебряное покрытие, а тщательнее анализируя ритм пошловатой суровости и здоровой радости двух объединенных металлических сил30.
В направлении тех же диалектических впечатлений мы займемся подробным анализом одного образа из Одиберти31, образа, живущего противоречием между субстанцией и ее атрибутом. В одном сонете Одиберти говорит о «тайной черноте молока». И что странно, так это то, что эти звучные слова – не просто вербальная радость. Для любящего воображение материи это радость глубинная. По существу, достаточно немного погрезить об этой тестообразной белизне, об этой густой белизне, чтобы ощутить, что материальному воображению под белизной необходимо темное тестообразное вещество. Иначе у молока не было бы этой матовой, действительно густой и уверенной в собственной густоте белизны. У этой питательной жидкости не было бы всевозможных земных ценностей. И как раз желание увидеть под белизной изнанку белизны заставляет воображение «грунтовать» некоторые синие отсветы, пробегающие по поверхности жидкости, и находить путь к «тайной черноте молока»32.
Странную образную систему Пьера Гегана можно разместить как бы на острие множества метафор, касающихся тайной черноты белых предметов. Говоря о воде, сплошь замутненной от пены и совершенно белой от глубинных движений, о воде, которая, подобно белым коням Росмерсхольма33, влечет меланхолика к смерти, Пьер Геган пишет: «У этого свернувшегося молока был вкус чернил» (La Bretagne, р. 67). Как лучше выразить глубинную черноту, сокровенную греховность лицемерно доброй (douce) и белой субстанции! Какая прекрасная фатальность человеческого воображения привела современного писателя к обретению понятия суровых вяжущих свойств, столь часто встречающихся в сочинениях Якоба Бёме? У млечной в лунном свете воды – сокровенная чернота смерти, у бальзамической воды – привкус чернил, терпкость напитка для самоубийства. Так бретонская вода Гегана становится подобной «черному молоку» Горгон, которое в «Корабле» Элемира Буржа34 названо «железным семенем».
Стоит лишь найти проявитель, как страницы, написанные полутонами, обнаружат необыкновенную глубину. С проявителем тайной черноты молока прочтем, к примеру, страницу, на которой Рильке рассказывает о своем ночном путешествии с девушками на холмы, чтобы пить молоко косуль:
Блондинка несет каменную миску, которую ставит перед нами на стол. Молоко было черным. Каждый изумился этому, но никто не посмел высказаться о своем открытии; каждый подумал: ну что ж! Теперь ночь, и я никогда не доил косуль в такой час, а, значит, их молоко начало темнеть в сумерки, так что в два часа ночи сделалось подобным чернилам… Все мы отведали черного молока этой ночной косули…
(Fragments d’un Journal intime // Lettres. Éd. Stock, p. 14)
С какой тонкостью штрихов подготовлен этот материальный образ ночного молока!
Впрочем, кажется, будто некая сокровенная ночь, хранящая наши личные тайны, вступает в общение с ночью вещей. Выражение этого соответствия мы найдем на страницах Жоэ Буске35, которые будем анализировать в дальнейшем: «Ночь минералов, – говорит Жоэ Буске, – в каждом из нас то же самое, что межзвездная чернота в небесной лазури».
Тайная чернота молока привлекает внимание и Бриса Парена36. Между тем он усматривает в ней обыкновенный каприз фантазии:
Я совершенно волен вопреки всякому правдоподобию говорить о «тайной черноте молока», и притом лгать, зная, что я лгу; похоже, что язык подготовлен ко всем моим капризам, поскольку это я веду его куда хочу.
Такая интерпретация несправедлива по отношению к поэтическому воображению. Кажется, будто в ней поэт становится всего лишь иллюзионистом, заставляющим ощущения лгать и накапливающим капризы и противоречия в самой сердцевине образов. Между тем единственного прилагательного, делающего черноту молока таинственной, самого по себе достаточно для обозначения глубинной перспективы. Всевозможные недомолвки вовсе не лгут, и необходимо уяснить, что материальные грезы, сами себе противореча, предоставляют нам две истины. Если бы речь шла о полемике между «я» и «ты», здесь можно было бы усмотреть потребность противоречить: достаточно ему сказать «белое», чтобы он сказал «черное». Но греза не спорит, поэма не полемизирует. Когда поэт говорит о тайне молока, он не лжет ни себе, ни другим. Напротив, он находит из ряда вон выходящую тотальность. Как выразился Жан-Поль Сартр37, если вы хотите в один прекрасный день обнаружить сердце вещей, его надо выдумать. Одиберти дает нам новую информацию о молоке, когда говорит о его «тайной черноте». Но для Жюля Ренара38 молоко является безнадежно белым, ибо оно «лишь то, чем оно кажется».
И вот здесь-то и можно уловить различие между разными видами диалектики рассудка, который сополагает противоречия, чтобы покрыть все поле возможного, и разными видами диалектики воображения, стремящегося схватить все реальное и находящего больше реальности в скрывающемся, нежели в выставляющем себя напоказ. В диалектике соположения движение обратно по отношению к диалектике наложения. В первой синтез происходит ради примирения двух противоположных видимостей. Здесь синтез – это последний шаг. Наоборот, при тотальной воображаемой апперцепции (форма и материя) синтез происходит вначале: образ, принимающий всю материю, делится в диалектике глубинного и поверхностного. Поэт, который мгновенно вступает в контакт с глубинным материальным образом, хорошо знает, что для опоры столь тонкой белизне необходима непрозрачная субстанция. Брис Парен справедливо сопоставляет с образом из Одиберти следующий текст Анаксагора39: «Снег, состоящий из воды, черен вопреки тому, что мы видим». Какая заслуга, в сущности, делает снег белым, если его материя всего лишь не черна? А если материя, явившись из своего темного бытия, не выкристаллизовалась в своей белизне? Воля быть белым – не дар «взятого в готовом виде» цвета, который нужно лишь сохранить. Материальное воображение, всегда обладающее демиургическим настроем, стремится творить любую белую материю, отправляясь от материи темной; оно хочет победить всякую историю черноты. Отсюда масса выражений, которые кажутся трезвой мысли необоснованными или фальшивыми. Однако грезы о материальной сокровенности не подчиняются законам означающей мысли. Представляется, что столь интересный тезис Бриса Парена о языке можно как бы продублировать, наделив являющий логос известной толщей, в которой могут обитать мифы и образы. На свой лад образы также нечто показывают. И наилучшее доказательство объективности их диалектики – в том, что мы только что видели, как «неправдоподобный образ» навязывает себя поэтическим убеждениям самых различных писателей. Поэты же просто-напросто обнаружили гегелевский закон «перевернутого мира», который выражается так: то, что по закону первого мира «является белым, становится черным по закону перевернутого мира, так что черное в первом диалектическом движении является “белым-в-себе”» (Hegel. La Phénoménologie de l’Esprit. Trad. Hippolyte. T. I, pp. 132, 134). Впрочем, заканчивая тему, вернемся к поэтам.
Всякий цвет, о котором медитирует поэт субстанций, полагает черноту как субстанциальную твердость, как субстанциальное отрицание всего, что досягает света. Можно бесконечно грезить вглубь над странным стихотворением Гильвика40:
Au fond du bleu il y a le jaune,
Et au fond du jaune il y a le noir,
Du noir qui se lève
Et qui regarde
Qu’on ne pourra pas abattre comme un homme
Avec ses poings.
В глубине синего есть желтое,
А в глубине желтого – черное,
Черное, которое встает
И смотрит,
И которое мы не сможем свалить, как человека,
Своими кулаками.
(Cahiers du Sud. Exécutoire, no. 280)
Черный цвет, – говорит к тому же Мишель Лейрис41 (Аurora, р. 45), – «далек от того, чтобы быть цветом пустоты и небытия; это, скорее, активный цвет, откуда брызжет глубинная, а следовательно, темная субстанция всех вещей». Если же ворон черен, то это, по Мишелю Лейрису, следствие его «кадаверических трапез», он черен «подобно свернувшейся крови или обугленной древесине». Чернота подпитывает всякий глубокий цвет, она представляет собой сокровенную залежь цвета. Так грезят о ней упрямые сновидцы.
Великие грезовидцы черноты желают даже – подобно Андрею Белому – обнаружить (Le Tentateur // Anthologie Rais)«черное в черноте», этот пронзительный цвет, действующий под притупившейся чернотой, эту черноту субстанции, рождающую ее цвет бездны. Так современный поэт обретает стародавние грезы черноты алхимиков, искавших черное чернее черного: Nigrum nigrius nigro.
Д. Г. Лоуренс находит глубину некоторых из своих впечатлений в аналогичных объективных инверсиях, переворачивая все ощущения. У солнца…
…только и блещет, что его пыльная одежда. Значит, настоящие лучи, доходящие до нас, странствуя во тьме, – это движущийся мрак первозданного солнца. Солнце темное, и лучи его тоже темны. А свет – лишь его изнанка; желтые лучи не более чем изнанка того, что посылает к нам солнце…
(L’Homme et la Poupée. Trad., p. 169)
Благодаря этому примеру тезис становится грандиозным:
Мы, стало быть, живем с изнанки мира. Настоящий мир огня – темный и трепещущий, чернее крови; мир же света, где мы живем, – его обратная сторона…
Слушайте дальше. Так же обстоят дела и с любовью. Та бледная любовь, которая нам знакома, – тоже изнанка, белое надгробие настоящей любви. Настоящая любовь дика и печальна; это трепет двоих во мраке…
Углубление образа способствовало вовлечению в него глубин нашей сути. Такова новая потенция метафор, работающих в том же направлении, что и изначальные грезы.
V
3. Третья перспектива сокровенности, которую мы собрались изучать, – та, что открывает нам чудесный интерьер, изваянный и окрашенный с большей щедростью, нежели самые прекрасные цветы. Стоит лишь убрать пустую породу и приоткрыть жеоду, как перед нами распахнется кристаллический мир; если рассечь хорошо отполированный кристалл, мы увидим цветы, плетеные узоры, фигуры. И уже не прекратим грезить. Эта внутренняя скульптура, эти глубинные трехмерные рисунки, эти изображения и портреты подобны спящим красавицам. Такой глубинный панкализм42 вызвал самые разнообразные толкования, соответствующие способам грезить. Исследуем некоторые из них.
Пронаблюдаем за зрителем, пришедшим из внешнего мира, где он видел цветы, деревья, свет. Он входит в темный и замкнутый мир и находит цветоподобия, древоподобия, светоподобия. Все эти смутные формы приглашают его грезить. В этих смутных формах, требующих завершенности, выделенности, скрывается примета грез. В нашей книге «Вода и грезы» мы выделяли эстетические настроения, получаемые грезовидцем от отражения пейзажа в тихой воде. Нам казалось, что эта природная акварель непрерывно воодушевляет грезовидца, который также желает воспроизводить цвета и формы. Пейзаж, отраженный в воде озера, обусловливает грезу, предшествующую творчеству. Больше души вкладывают в подражание той реальности, о которой сначала грезили. Один старый автор, написавший в XVII в. книгу по алхимии, у которой было больше читателей, чем у ученых книг той эпохи, поможет нам поддержать наш тезис об эстетических импульсах ониризма:
И если бы эти дары и науки не были (вначале) в недрах Природы, само по себе искусство никогда бы не сумело выдумать эти формы и фигуры и не смогло бы изобразить ни дерево, ни цветок, если бы Природа вообще не сотворила их. И мы восхищаемся и впадаем в экстаз, когда видим на мраморе и яшме людей, ангелов, зверей, здания, виноградные лозы, луга, усеянные всеми видами цветов43.
Эта скульптура, обнаруживаемая в глубинах камня и руды, эта сокровенная природная живопись, эти естественные статуи изображают внешние пейзажи и внешних персонажей «за пределами их привычной материи». Такие сокровенные произведения искусства восхищают грезящего о сокровенности субстанций. По мнению Фабра, гений, образующий кристаллы, – самый умелый из чеканщиков, самый дотошный из миниатюристов:
Итак, мы видим, что эти естественные картины в мраморе и яшме более изысканны и намного более совершенны, нежели те, что предлагает нам искусство, ибо искусственные цвета никогда не бывают ни столь совершенными, ни столь живыми, ни столь яркими, как те, что применяет Природа в этих естественных картинах.
Для нас, рациональных умов, рисунок является человеческой приметой par excellence: стоит нам посмотреть на профиль бизона, нарисованного на стене пещеры, и мы тотчас же узнáем, что здесь прошел человек. Но если грезовидец считает, что природа – художница, что она пишет картины и рисует, то не может ли она высекать статуи в камне с таким же успехом, как и лепить их во плоти? Грезы о сокровенных силах материи доходят у Фабра до следующего (р. 305):
В гротах и земляных пещерах в провинции Лангедок близ Сорежа, в пещере, называемой на вульгарном языке Транк дель Калей, я видел самые совершенные приметы скульптуры и живописи из всех, какие можно пожелать; самые любопытные могут взглянуть на них, они увидят их в пещерах и на скалах, тысячью разновидностей фигур восхищающих взоры смотрящих. Никогда скульптор не входил туда, чтобы высечь или вычеканить образ… И это должно внушить нам веру в то, что Природа одарена способностями и чудесными знаниями, пожалованными ей Творцом, чтобы она умела работать по-разному, что она и делает с разнообразнейшими материями.
И пусть не говорят, – продолжает Фабр, – что это делают подземные демоны. Прошла пора, когда верили в гномов-кузнецов. Нет! Следует уступить очевидности и приписать эстетическую деятельность самим субстанциям, сокровенным потенциям материи (р. 305):
Это тонкие небесные, огненные и воздушные субстанции, которые живут в общем мировом духе и обладают способностью и властью располагать им, создавая всевозможные фигуры и формы, каковые может пожелать материя, – (иногда) за пределами того рода и вида, где фигура обыкновенно обретается, например фигура вола или какого-либо иного животного, которое можно представить себе в мраморе, камне или дереве: эти фигуры зависят от естественных свойств Архитектонических духов, существующих в Природе.
И Фабр приводит пример с корнем папоротника, который мы весьма часто встречали, читая книги по алхимии. Если из него вырезать «козью ножку», он воспроизведет фигуру римского Орла. И тогда самая безумная из грез объединит папоротник, орла и Римскую империю: соответствие между папоротником и орлом остается таинственным, но их взаимоотношения от этого делаются лишь более глубинными: «должно быть, папоротник служит орлам, обладая неким великим секретом их здоровья» (р. 307). Что же касается Римской империи, тут все ясно: «Папоротник растет во всех уголках мира… войска Римской империи считают естественным собственное присутствие на всей земле». Грезы, создающие геральдические знаки, находят их в малейших намеках.
Если мы собираем столь бредовые тексты и такие чрезмерные образы, то это потому, что их смягченные и скрыто действующие формы мы обнаружили у авторов, по всей вероятности, не испытавших влияния повествований алхимиков и не читавших старинных колдовских книг. После того, как мы прочли страницу о корне папоротника у автора XVII века, неудивительно встретить искушение подобным образом и у столь осторожного писателя, как Каросса. В «Докторе Гионе»44 читаем как Цинтия, юная скульпторша, режет помидор (trad. р. 23):
«Такой плод много понимает в блеске», – заявила она и, показывая надрез белой сердцевины, которую окружал красноватый кристалл мякоти, попыталась продемонстрировать, что эта сердцевина напоминала ангелочка из слоновой кости, коленопреклоненного и с крыльями, заостренными, словно у ласточек.
Почти то же читаем и в «Инферно» Стриндберга (р. 65):
Когда посаженный мною орех через четыре дня пророс, я отделил зародыш в форме сердечка не больше грушевого зернышка, вставленного между двумя семядолями и напоминавшего видом человеческий мозг. Пусть же судят о моем волнении, когда на столике микроскопа я заметил две маленькие ручки, белые, словно алебастр, поднятые и сложенные как во время молитвы. Видение? Галлюцинация? Да нет же! Ошарашивающая реальность, внушившая мне ужас. Недвижные и протянутые ко мне, как при мольбе; я насчитал пять пальчиков, и большой был короче других, настоящие руки женщины или ребенка!
И этот текст, как и многие другие, на наш взгляд, характеризует мощь грез о бесконечно малом у Стриндберга, красноречивые смыслы, которыми он наделяет незначительное, – и то, что его неотступно преследовали тайны, заключенные в мелких деталях. Вообще говоря, надреза́ть плод, зернышко или миндальный орех означает готовиться к грезам о вселенной. Любой зародыш существа есть зародыш грез.
Величайшие из поэтов, слегка растушевывая образы, ведут нас в глубины видéний. В «Воспоминаниях о Райнере Мария Рильке» княгини Турн-и-Таксис45 содержится пересказ сна Рильке, в котором взаимодействует диалектика сокровенности и поверхностности, диалектика, возникающая на пересечении отвращения и очарованности. Поэт в своем ночном сновидении
держит в руке комок земли, черной, влажной и отвратительной, и, по существу, ощущает по отношению к нему глубокое отвращение, омерзение и неприязнь, но он знает, что ему надо работать с этой грязью, и он с большой неохотой обрабатывает ее, словно гончарную глину; он берет нож, и ему предстоит снять тонкий слой с этого комка земли, и, надрезая его, он говорит себе, что внутренняя часть комка будет еще более ужасной, чем внешняя, и, чуть ли не колеблясь, он разглядывает внутреннюю часть, которую только что обнажил, – а это поверхность бабочки с распростертыми крыльями, восхитительная по рисунку и цвету, чудесная поверхность живых драгоценных камней.
(Betz, р. 183)
Рассказ немного шероховат, но его онирические смыслы на месте. Всякий адепт медленного чтения, плавно переставляя смыслы, обнаружит могущество этого светоносного ископаемого, окутанного «черноземом».
VI
4. Наряду с такими грезами о сокровенности, которые размножают и увеличивают разнообразные детали структуры, существует и иной тип грез о материальной сокровенности – последний из четырех упомянутых нами типов, – и он осмысляет сокровенность не столько по чудесно расцвеченным фигурам, сколько по субстанциальной напряженности. И тогда начинаются бесконечные грезы о беспредельном богатстве. Обнаруживаемая сокровенность предстает не столько в виде ларца с бесчисленными сокровищами, сколько как таинственная и непрерывная мощь, спускающаяся в нескончаемом процессе в бесконечно малое субстанции. Чтобы наделить наше исследование материальными темами, мы с определенностью будем исходить из диалектических отношений цвета и окрашенности (teinture). И тотчас же ощутим, что цвет представляет собой поверхностный соблазн, тогда как окрашенность – глубинную истину.
В алхимии понятие тинктуры (teinture) служит поводом для несметных метафор как раз оттого, что ему соответствует всеобщий и отчетливый опыт. В таких случаях больше всего осмысляется красильная способность (vertu tingeante). Существуют бесконечные грезы о взаимопревращении порошков, о способности окрашивать субстанции. Роджер Бэкон говорит, что силою своей тинктуры философский камень может превращать в золото собственный свинцовый вес сто тысяч раз, Исаак Голландец – что миллион раз. А Раймунд Луллий46 писал, что, если бы мы обладали настоящей ртутью, мы окрасили бы море.
Но образы окрашенных жидкостей слишком слабы и пассивны, ибо вода – чересчур «сговорчивая» субстанция, и потому не может предоставлять нам динамические образы тинктуры. Как мы уже сказали, материальная драма, в которой замешан алхимик, представляет собой трилогию черного, белого и красного. Исходя из субстанциальной чудовищности черного, проходя через промежуточное очищение отбеленной субстанции, как добраться до высших ценностей красного? «Вульгарное» пламя имеет мимолетно-красную расцветку, которая может ввести в заблуждение профана. Необходим более сокровенный огонь, тинктура, которой удастся сразу и сжечь внутренние нечистоты, и оставить свои качества в субстанции. Эта тинктура истребляет черное, успокаивается во время отбеливания, а затем побеждает глубинной краснотой золота. Преображать означает окрашивать.
Подводя итог этой преображающей силе, после разногласий, когда одни говорили, что философский камень имеет цвет шафрана, а другие – рубина, один алхимик написал: «У философского камня все цвета – он белый, красный, желтый, небесно-голубой, зеленый». У него все цвета, т. е. все потенции.
Когда тинктура осмысляется так, что становится подлинным корнем субстанции, до такой степени, что заменяет лишенную формы и жизни материю, мы лучше прослеживаем образы «влитых» качеств и сил пропитывания. Греза о пропитывании причисляется к самым амбициозным грезам воли. Существует лишь одно дополнение к времени – вечность. Грезовидец в своей воле к коварному могуществу отождествляет себя с силой, обладающей нестираемой стойкостью. Примета может стираться. Настоящая тинктура нестираема. Внутреннее покоряется в бесконечности глубины на беспредельное время. Так хочет цепкость материального воображения.
Если бы эти грезы о внутренней тинктуре, т. е. цвет, снабженный своей окрашивающей силой, можно было представить во всем их онирическом могуществе, мы, возможно, лучше бы поняли соперничество между психологическими теориями, каковыми поистине являются учения о цвете у Гёте и Шопенгауэра, и научным учением, опирающимся на объективный опыт, каким является теория цвета у Ньютона. И тогда мы меньше удивлялись бы пылу, с каким Гёте и Шопенгауэр боролись – столь безуспешно! – с теориями математической физики. У них были сокровенные убеждения, сформированные поверх глубоких материальных образов. В общем, Гёте ставит в упрек теории Ньютона учет лишь поверхностного аспекта окрашивания. С точки зрения Гёте, цвет – не просто игра света, а действие в глубинах бытия, действие, пробуждающее существенные ощутимые ценности. Die Farben, – говорит Гёте, – sind Thaten des Lichts, Thaten und Leidem («Цвета – это деяния света, деяния и претерпевания»). «Как понять их, эти цвета, без сопричастности к их глубинному деянию? – думает такой метафизик, как Шопенгауэр. – А каково действие цвета, если не окрашивание?»
Этот акт окрашивания, взятый во всей своей первозданной силе, немедленно предстает как воля руки, руки, сжимающей ткани до последней нитки. Рука красильщика равнозначна руке месильщика, желающего добраться до дна материи, до абсолюта тонкости. Окрашивание также движется к центру материи. Один автор XVIII столетия пишет: «Ибо окраска подобна существенной точке, из которой, как из центра, расходятся лучи, размножающиеся при своей работе» (La Lettre philosophique. Trad. Duval, 1773, p. 8). Когда у рук нет силы, у них есть терпение. Домработница получает такие впечатления, проводя тщательную чистку. Интересная страница из одного романа Д. Г. Лоуренса показывает нам волю к белизне, волю к пропитке материи чистотой, когда «центр» материи столь близко, что кажется, будто материя взрывается, не в силах сохранить высшую степень белизны. Вот великая греза об избыточной материальной жизни, какую мы часто встречаем в стольких произведениях великого английского писателя:
Генриетта стирала свое белье сама ради радости отбеливания, и ничего она так не любила, как думать о том, как она увидит его становящимся все белее, когда миссис Спенсер будет выходить из моря в солнечную погоду каждые пять минут и смотреть на траву, каждый раз обнаруживая, что белье действительно сделалось более белым, – до тех пор, пока ее муж не объявит, что оно достигло такой степени белизны, что цвета взорвутся, и, выходя, она найдет на траве и в кустах куски радуги вместо салфеток и рубашек.
– Вот уж я удивлюсь! – сказала она, допуская это как вполне приемлемую возможность, и добавила с задумчивым видом: – Да нет же, это невозможно47.
Как лучше довести грезы до абсолютных образов, до образов невозможных! Такова греза прачки, обработанная материальным воображением с желанием субстанциальной белизны, когда чистота преподносится как нечто вроде качества атомов. Чтобы зайти столь далеко, иногда достаточно как следует начать – и грезить во время работы, как умел Лоуренс.
Продолжительная верность окраски по отношению к материи может фигурировать в весьма любопытных практиках. Так, Б. Карно напоминает, что черный цвет римские живописцы создавали при помощи обожженного винного осадка: «Они полагали, что от качества вина зависит красота черноты» (La Peinture dans l’Industrie, p. 11). Итак, материальное воображение с легкостью верит в переходный характер ценностей: хорошее вино дает хорошо сгущающийся осадок, а тот – прекрасную черноту48.
В 1783 году аббат Бертолон в книге о растительном электричестве все еще утверждает (р. 280):
Граф де Муру в пятом томе туринских сочинений поставил себе задачей доказать с помощью многочисленных опытов, что цветы содержат особо стойкое окрашивающее начало, продолжающее существовать в пепле и придающее стеклу, в которое их добавляют, цвет цветка.
Об окрашивании вглубь, как и об остальном, Свифт рассуждает забавно. В «Путешествии в Лапуту» он вкладывает в уста изобретателя следующие слова: разве не глупо ткать нить шелковичного червя, если паук может стать нашим рабом, умеющим для нас сразу и прясть, и ткать? Тогда нам только и оставалось бы, что окрашивать. И даже если так – разве паук не подготовлен и к третьему ремеслу? Достаточно было бы кормить его «разноцветными и блестящими» мухами… К тому же, поскольку цвета лучше усваиваются с пищей – отчего бы мух, скармливаемых паукам, не кормить «камедью, растительным маслом и клейковиной, необходимыми для того, чтобы паутина обрела достаточную густоту»49 (Trad. Ch. V, р. 155).
Нам, возможно, возразят, что эти игры ума весьма далеки от серьезности грез. Но если у грез нет привычки шутить, то существуют трезвые умы, умеющие оснащать свои грезы шуткой. Одним из них был Свифт. Тем не менее остается справедливым, что его материальные фантазии формировались на тему усвоения пищи. Пищеварительная психика Свифта, которую без труда распознáет начинающий психоаналитик из-за обилия ее черт в «Путешествиях», тем самым показывает нам материальное воображение в упрощенном свете, но всегда отмеченное признаками глубинной пропитанности субстанциальными качествами50.
Кроме прочего мы собираемся привести пример, который, по нашему мнению, как следует продемонстрирует, как столь редкостный материальный образ, как окраска, о которой грезят в ее субстанциальной пропитке, может смутить моральную жизнь и взять на себя моральные суждения. Фактически воображение с таким же пылом способно ненавидеть образы, как и ласкать их. Сейчас мы встретимся с воображением, отвергающим любую окраску как загрязненность, как своего рода материальную ложь, символизирующую прочие виды лжи. Цитата длиннее обычной, однако заимствуем мы ее у Уильяма Джемса51, который без колебаний и вопреки ее анекдотическому характеру целиком включил ее в свою книгу «Религиозный опыт». Она покажет нам, что привлекательные черты или отвращение, формируемое воображением сокровенной материи предметов, может играть существенную роль в высших сферах духовной жизни:
Эти первые квакеры поистине были пуританами… В «Дневнике» одного из них, Джона Вулмэна52, читаем:
«Я часто раздумывал над первопричиной угнетения, от которого страдает столько людей… Время от времени я задавал себе вопрос: во всех ли своих поступках я пользуюсь каждой вещью сообразно вселенской справедливости?..
Часто об этом размышляя, я всякий раз все больше терзался сомнениями относительно ношения шляп и костюмов, окрашенных портящей их краской… Я был убежден, что эти обычаи не основаны на подлинной мудрости. Боязнь же из-за моего странного вида отдалить от меня тех, кого я любил, сдерживала и стесняла меня. Итак, я одевался как прежде… Я заболел и слег… Ощущая потребность в большем очищении, я не имел ни малейшего желания выздороветь, прежде чем будет достигнута цель моего испытания… Мне пришло в голову раздобыть фетровую шляпу, шерсть которой сохранила естественный цвет; но страх выделяться своим внешним видом все еще терзал меня. Он стал для меня причиной невыносимых мучений во время нашей общей ассамблеи весной 1762 г.; я страстно желал, чтобы Господь указал мне истинный путь. Низко согбенный духом перед Господом, я воспринял от Него волю к подчинению тому, чего – как я чувствовал – Он от меня требует. Собравшись с духом, я раздобыл себе шляпу из фетра естественного цвета.
Когда я участвовал в собраниях, этот диковинный вид стал причиной моих испытаний; как раз в ту пору некоторые щеголи, любившие следовать изменениям моды, стали носить белые шляпы, похожие на мою: многие друзья, не знавшие моих мотивов ее ношения, избегали меня. На некоторое время это воспрепятствовало моей пастырской деятельности. Многие друзья опасались, что, нося такую шляпу, я просто стараюсь выделиться. Что же касается тех, кто говорил со мною о ней в дружеском тоне, я обыкновенно в нескольких словах отвечал им, что если я ношу эту шляпу, то это не зависит от моей воли».
Впоследствии – в пеших путешествиях по Англии – он получил аналогичные впечатления: «В своих путешествиях, – пишет он, – я проходил мимо больших красилен, и много раз я ступал на землю, пропитанную красящими веществами. Я остро желал, чтобы люди могли достичь чистоты своих жилищ, одежд, тела и духа. А ведь цель окраски тканей, с одной стороны, радовать глаз, а с другой – скрывать грязь. И часто, вынужденный брести по этой грязи, испускавшей нездоровое зловоние, я страстно желал, чтобы люди задумались над тем, чего стоит практика, состоящая в маскировке нечистоты под окраской.
Стирать наши одежды, чтобы держать их чистыми и опрятными, есть чистоплотность; но скрывать их нечистоту есть противоположность чистоплотности. Уступая этому обычаю, мы укрепляем в себе склонность скрывать от глаз то, что нам не нравится. Совершенная чистоплотность приличествует святому народу. Но красить наши одежды ради сокрытия их загрязненности – противоположно совершенной искренности. Некоторые виды окраски делают ткань менее пригодной для ношения. Если бы все деньги, расходуемые на красящие вещества и на процессы окраски, и все деньги, которые мы теряем, портя тем самым ткани, употреблялись на поддержание повсюду совершеннейшей чистоты, как воцарилась бы она в мире!»53
(The Journal of John Woolman. London, 1903. Ch. XII, XIII, pp. 158 et suiv., pp. 241, 242)
Как мы видим, некоторые души сопрягают ценности с самыми диковинными образами, оставляющими равнодушными большинство людей. Это действительно доказывает нам, что любой искренне принимаемый материальный образ немедленно становится ценностью. Настаивая на этом факте, мы хотим закончить эту главу, пробудив решающую диалектику образов, диалектику, которую мы можем обозначить в таких терминах: загрязнить, чтобы очистить. Она станет характерным признаком сокровенной битвы между субстанциями и приведет к подлинному манихейству54 материи.
Le rouge des gros vin bleus.
Краснота ярко-синих вин.
(Soleil irréductible, 14 juillet)
Так где же здесь субстанция – в характеризующей вино красноте или же в его темных глубинах?
*Френо, Андре (1907–1993) – франц. поэт. Для его творчества характерен апофеоз молчания, отказа, «ничто». – Прим. пер.
*Гиппоман (ветеринарный термин) – яйцеобразное или плоское тело, плавающее в аллантоидальной жидкости у кобыл и коров. Функция его неизвестна. – Прим. пер.
*В работе «Сейрис, или Цепь философских размышлений и исследований, касающихся достоинств дегтярной настойки и разных других предметов, связанных друг с другом и возникающих один из другого» Беркли дает сжатый очерк истории философии, а также излагает медицинские сведения на счет целебного действия дегтярной настойки, которую он считал панацеей. В русск. переводе (Беркли Дж. Соч. М., 1978. С. 465–509), страницы, посвященные дегтярной настойке, отсутствуют. – Прим. пер.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе