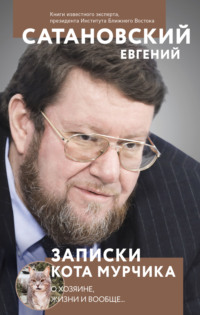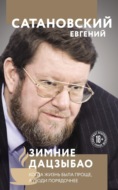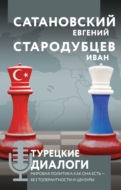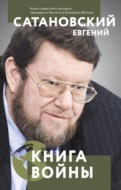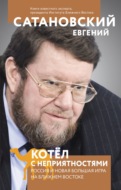Читать книгу: «Записки кота Мурчика», страница 4
Ради того, чтобы в конце жизни Г-дь тебе за добро воздал? Ну-ну. Воздадут тебе, как же. А потом догонят и ещё раз воздадут. Прадед – мамин дедушка – был, судя по рассказам всех, кто его знал, включая последнего Любавического ребе, самым щедрым и добрым человеком на свете. Помогал всем бедным, кому только мог, прятал людей и от преследований царских властей, и от погромов, не брал с бедняков, живших в его домах, плату за аренду, держал открытый стол для тех, кому нечего было есть… Его даже в революцию и Гражданскую войну никто не тронул, да и после новые власти не репрессировали. А умер с голоду и холоду, в палатке, заваленной снегом, в эвакуацию, где-то под Орском. И ничего ни от него, ни от его жизни не осталось, даже могилы. Одни воспоминания.
Один дед был добряк, умница, весельчак… Погиб в войну. Даже до фронта не добрался – отморозил ноги и умер от гангрены. Второй всю жизнь воевал – вся грудь в орденах, строил военные базы на всех морях и океанах, а после ухода из действующей армии объекты «Спецстроя», и был кристально честным человеком. Ничего не оставил после себя, кроме фотографий, кортика, орденов, да собрания сочинений Лескова. И то кортик с орденами его вторая жена себе забрала. Но он хотя бы умер в старости. А отец был гениальным изобретателем и конструктором, его патенты и лицензии были в десятки стран проданы, маму и нас, детей, очень любил, руки были золотые – всё мог и умел, а до пенсии не дожил. Сердце. И через два месяца все выплаты по его изобретениям остановили. Зачем платить? Умер же человек…
Тесть был редкого таланта, потрясающим сварщиком. Отлично делал всё, за что брался. Очень любил семью и тоже рано умер – за два месяца до отца. Рак лёгких его свёл в могилу, хотя лечили от плеврита, которого у него не было. И снова то же самое. Никто, кроме домашних, о нём и не вспомнил. Какая после этого вера? В кого? Если в высшие силы, так что ж они никого не защищают и никому не помогают из тех, кто это больше всех заслужил? Если в тех, кто называет себя и кого люди считают их земными представителями, так тем более. Не важно, в каких храмах они служат. Видел их иерархов, на всех уровнях. Есть неплохие люди, есть средние, есть очень плохие. Не в том суть. Что до веры – делай что должен и будь что будет. За добро никто всё равно спасибо не скажет.
Да оно и не надо. Раз ты его делаешь, значит, тебе от этого хорошо и тебе это нужно. И когда не делаешь зла – тем более. Ты его не потому не делаешь, что тебе его делать не велено, а потому, что у тебя совесть есть. Если она, конечно, есть. Много тех, у кого она спит, или вообще в первичных заводских настройках напрочь отсутствует. И тут верует в Б-га этот человек, не верует, или говорит, что верует, а может, искренне так и считает… Говоря о вере, люди в основном подразумевают всего лишь религиозные обряды. А что понятия эти отличаются друг от друга, зачастую даже не подозревают. Это отсюда «Не согрешишь, не покаешься» и прочее, в том же роде. Что до Г-да Б-га, когда и если он и вправду существует, что для него, всеведущего и всемогущего, наши фокусы? Он в суть вещей смотрит. Если, конечно, вообще на нас отвлекается…
* * *
Разбирая старые фотографии, наткнулся на снимки с первого курса. Почти все ребята с длинными до плеч волосами. Мода такая была, в середине 70-х. Причём «старики», учившиеся после армии на подготовительном отделении – ПО, и в Москву приехавшие из провинциальных городов, отработавшие на заводах и имевшие большой опыт массовых драк, избежать участия в которых было в те годы нереально, носили эти причёски ничуть не реже, чем москвичи. Скорее чаще.
Вообще-то в молодости всем хочется выделиться. Мозгов пока особо нет, дресс-код не сковывает, так что за счёт внешнего вида. Сам всю жизнь хотел длинные волосы носить. Опять же, приветствовались цепь на шее, перстень с камнем, серьга в ухе, татуировки и борода. Ну и, естественно, трубка. Что в детстве читали? Дюма, Майн Рид, Жюль Верн, Конан Дойль и прочее такого рода. Как они все ходили? Ну и…
Очки никто из их героев не носил. Особая признательность Джоан Роулинг за Гарри Поттера. Ей сотни миллионов очкариков благодарны, которых она в глазах девочек реабилитировала. Автору со своими пришлось самому разбираться. С четвёртого класса, когда зрение, обрушенное чтением книжек под одеялом с фонариком, просело, до сего дня. С учётом многолетнего астигматизма и замены хрусталиков в обоих глазах, когда зрение с обычных минус шести за год рухнуло до минус двенадцати с лишним.
Кто сказал, что годы, проведенные в качестве рабочего в горячем цеху металлургического завода, для здоровья полезны? Никто не сказал. Поэтому и пенсия с пятидесяти. Смертники с отложенными похоронами. Или не доживаешь, или пару лет протянешь и уже тогда даёшь дуба. Но всё по-честному. Пока жив, прилично зарабатываешь и кормишь семью. Потом немножко травм, если повезёт, без переломов и смертоубийства, немножко болезней, и алямба. Сердце, ноги, лёгкие… Очень полезно для понимания того, как мир устроен.
Так вот, очки тогда модными не были, да и в драках мешали. И на тренировках. Карате в реальной жизни сохранению их целыми способствует, но очки не совсем то, что помогает освоить базовую технику, не говоря уже о спарринге. И это даже без полного контакта. Уракен или тетсуе по переносице и меняй оправу… Так что приходилось их оставлять в раздевалке. Про контактные линзы не в курсе, наверное, тоже, кто их носил, оставляли. Про них тогда никто и не слыхивал.
Цепь и кольцо… Остались в детских хотелках. У брата кольцо было, серебро с красным корундом. Купил на первом курсе, в 70-м, на практике. Носил год, хипповал и форсил перед девочками, а потом началась военная кафедра и тю-тю. Не понимали этих штучек товарищи офицеры, даже добрейшие и умнейшие из них, Цельман и Курамшин, и сильно пьющие раздолбаи Вощанкин и Шуров. Не танковое это дело – с ювелиркой шастать.
Опять-таки, за цепь могли в драке ухватиться и на удушение взять. Да и длинные волосы в хорошем мордобое большая помеха. Что до кольца, не то что перстень, и обручальное пришлось на заводе после первой же смены снять. Такой ожог дало… Вачики, защитные варежки, конечно – вещь, руки защищают: войлок, кожа, но от идиотизма не спасают. Если ты на сортировке или прицепщиком работаешь, а металл целую смену под руками не то что горячий, а очень горячий, так что кожаную нашлёпку на рукавице за несколько часов скручивает, какое кольцо? После завода надел, проходил лет десять, растолстел вместе с пальцами, и оно так врезалось, что перекусывать пришлось. В итоге никакой мужской бижутерии. Бытие определяет сознание.
Коготь волчий и зуб акулы с зазубринами, на кожаных шнурках, в Тюмени в аэропорту увидел, повздыхал над детской мечтой, внуку купил… Гойко Митич с медвежьими клыками и когтями на шее ходил, в ролях индейцев. «Сыновья Большой Медведицы» по Лизелотте Вельскопф Генрих и читал, и смотрел, так что запомнилось. Кто бы знал, что через несколько десятилетий с ним на «Вестях» увидимся на передаче у Володи Соловьёва. Уже старик, и роста оказался неожиданно маленького, но ведь герой детства! Какие были фильмы…
Ну, с серьгой и трубкой то же самое произошло. Не пират, да и не курил никогда. Опять же, серьга в ухе – подарок для противника в любой потасовке. Рванул за неё – шоковая травма обеспечена. Кому это надо? А тут ещё пошла гомосеческая тема, не в обиду гомосяо будет сказано… Нет, у каждого, конечно, свой секс. Кому мил поп, кому попадья, а кому и свиной хрящик. Никаких претензий в личной жизни, но никаких симпатий по части гей-парадов и влезания в образование на тему полового воспитания детей и подростков. Так что идея серьги умерла в зародыше.
Татуировка… Моряки с ними ходили и уголовники – да и сейчас ходят. Викинги и хиппи. Индейцы и полинезийцы, особенно маори на Новой Зеландии. Байкеры и рокеры. Но те, которые нравились: как у викингов и маори, в 70-х не делали, а те, которые делали, не нравились. Они под конец 80-х пошли, а в 90-е и вовсе тату-салоны расцвели: и цветные, восточные, и этнические, и какие угодно другие. Так что сын одного из друзей закосил под викинга по самую шею. На лицо не наносил – его бабушка бы этого не одобрила. Она и так на него косилась в ужасе.
Да и племянница в Израиле после армии набила бабочку на щиколотку. Оперирующий хирург, майор бронетанковых войск, главврач дивизии, мама девочек-близняшек… Ну, молодёжная мода. Маме автора, бабушке племянницы сказали, что это переводная картинка, чтобы не расстраивать. Сам тем более не стал. В оперотрядах на братков насмотрелся, как-то желание отпало. Альбомов с фотографиями особо выдающихся татуировок накупил, в качестве моральной компенсации, вполне хватило. И эстетическое чувство удовлетворено, и шкура цела. Да и особых примет нету.
Волосы длинные… Опять незадача. Шурин носит. Лысеет, но носит. Его только жена подстричь может: со старшей сестрой не спорят. А живёт он в Америке, так что от визита до визита… Сын носит, периодически укорачивая, чтобы в гриву не превращались. Ну, компьютерщики… Да и по образованию он искусствовед. Суриковке длинная грива не мешала. Сам – увы. Карате, завод… До военной кафедры мама была против, а папа особо нет, но он всегда коротко стригся, ну и мы с братом так же. После института и армейских лагерей отрастил роскошную, до плеч, копну. На тренировках головной повязкой волосы удерживал, чтобы в глаза не лезли. И так года полтора, до встречи с будущей женой. К свадьбе остригли, и скоро сорок лет как стригут. А теперь уже зачем они?
Борода… Вот тут – да. Как из лагерей в Москву вернулся, так её отрастил и не сбриваю. Форму менял, было. С эспаньолкой ходил, со шкиперской, без усов. В итоге осталась классическая. Не щетина, с которой смотришься, как плохо выбритый поросёнок, но и не кудлатая. Волосы растут по-разному, в разные стороны и с разной скоростью, так что, если их больше месяца не стричь, похож на лешего. Причём на старого лешего. А сформируют в парикмахерской нормальную бороду, усы подравняют – минус десять лет.
Очки, опять же… С венгерского стройотряда, с восемнадцати лет, когда открыл для себя наличие в природе стёкол-хамелеон и нормальных оправ, пристрастился, есть грех. И тут главное, не обращать внимания на моду, носить что нравится и не заморачиваться. Они теперь и в Москве есть, причём в любом количестве. Дорого, но комфорт, и чтоб глаза не болели, для очкарика дороже. Особенно для того, кто много за компьютером сидит и ещё больше читает. Благо читать после операций, раз уж зрение подняли до минус трёх, нужно без них… С чего начали, тем и кончили. Первые, в четвёртом классе, минус четыре были.
Последний из аксессуаров: часы. Самые первые папа подарил, на металлическом браслете, в шестом классе, со светящимися стрелками, фосфором намазанными. Тогда же кожу на запястье этим браслетом защемил, здоровенная бородавка выросла. И лет до двадцати пяти с ней ходил, пока на «Серпе и молоте» она не сгорела. Начисто, бесследно и безболезненно. Перед сменой была, после – чистая кожа. Мы тогда шарикоподшипниковую сталь катали и с адъюстажа отгружали. Пилить металл, как по гэдээровской технологии было положено, было невозможно: визг дикий, глохли. Никакие беруши не спасали. Так что пилу аккуратно демонтировали, поставив вместо неё гильотинные ножницы. А шарик когда ими рубят, скол идёт. Потом его обрезать на станках надо, а его когда катают, так сотнями тонн. Круг большого диаметра, длина метров по шесть, штанги тяжеленные. Геморрой страшный. Туда-сюда кран гонять, пару человек на станки с циркулярками ставить, сортировать всё, чтобы скол не пропустить…
В общем, рубили его горячим, без охлаждения. И отгружали не по пять тонн, как положено, с учётом того, что автоматический захват сам по себе те же пять тонн весит, а тонн по девять, сколько кран без опасности обрушения унесёт. Всё равно вязальные машины, которые прямо в приёмных карманах металл проволокой обвязывать должны были, не работали. Сварка не держала: рвалась проволока. Да и высотный склад, говоря по чести, не фурычил. Автоматика, понятно. Прогресс. Ни хрена не пахало. Как у нынешних, с их разводиловом на бабки, по части искусственного интеллекта, нанотехнологий и суперджета. Выбили из начальства бабло, освоили, красавцы. А как оно пашет, сколько это стоит и зачем оно такое, косое и кривое нужно, вопрос.
Ну, снимали со стана металл цепями. 180 кг цепь, два пуда кольцо, крюк на коротком дублёре той цепи, нормально. Главное, то кольцо своим личным персональным крючком из упругого металла, с ручкой толстенькой, как раз под вачику, приспособленной, зацепить, по профнастилу металлическому под пачкой протащить, с ходу, с налёту, чтобы всю цепь не вытягивать, надрываясь, с наскоку, на выдохе его на крюк надеть, потом второе так же, и развести цепи пошире, на всю ширину рук, чтоб не перекосило, как кран кверху металл рванёт. И чтоб большие пальцы варежки цепью не зажало. Оторвёт их к чёртовой матери, вместе с содержимым.
Потом пачку многотонную на весы, которые рядом, из балок сварили. Вешаешь, бежишь в будку, говоришь вес. Девочки-учётчицы его в книгу амбарную записывают, где марка, номер плавки и прочие данные партии, бабушка Настя Дейнека, калибровщица, на пару металлических бирок-пластинок, заранее, с маркой и номером плавки подготовленные, вес набивает, чеканит, девочки картонку с весом и номером заказа пишут – и на проволоку, которой к тому времени пачка уже вручную, в трёх местах обвязана, те бирки вешают. А картонку – на хвост пачке, чтобы видна была. Для отгрузки. И в штабель. Проволоку для обвязки заранее готовят, мягкую, отожжёную, чтоб гнулась и вязать её было легко. Не дай Б-г, пружинить будет. На концы пачки двойные кольца, посередине одинарное. Набрасываешь, как ковбой лассо. До сих пор руки движения помнят. Как цеплять, как вязать, как закручивать…
Если пара сколов есть, на месте их режешь газовым резаком. Если их много – успел металл остыть, без завязки, на сортировочный стеллаж, солидолом смазанный, чтобы окалина процесс не тормозила. Он под горячим металлом шипит, воняет… Но ведро в уголке у ограждения стоит и квач из тряпки на толстой проволочной ручке в нём ждёт – лучшие друзья сортировщика. Отсортировываешь брак, на станок его краном перетаскиваешь, обрезаешь, обратно в карман стеллажа к пачке добрасываешь, взвешиваешь по новой и вяжешь. А потом уже в штабель.
Он, по идее, и по норме должен быть не выше двух с половиной метров, чтоб с пола крючком доставать. Да куда там… Места мало. Четыре метра норма, а на техническом этаже, куда состав пригоняют, увозить и до шести. А шарикоподшипник, он же «шарик», напомним, горячий. Бумажка на нём сгорает, полыхая, в момент. Доска обугливается. Подошва у ботинка, толстенная, кожаная, плавится. Стоишь, как фигурист ездишь, ноги варятся… Их от ожогов только портянки спасали. Из байковых пелёнок зимних – самые лучшие. Толстые, и пот хорошо впитывают. Не дай Б-г в носках синтетических! Только на хлопок вертеть надо, или, на худой конец, на босу ногу.
Так что штабель грузишь снизу, поленницей. Четыре пачки, крест-накрест. На них, если металл горячий, кладёшь доски и встаёшь на них. Снизу жар пышет, но из ворот воздух мало-помалу идёт, а если зима, то мороз, и снег метёт. Новые пачки по одной принимаешь, доску перекладываешь и на ней балансируешь. И так до конца. Потом слезаешь, за соседний штабель придерживаясь, где металл уже остыл. Помесь чёрта с обезьяной.
С непривычки страшно, а так что такого? Ко всему человек привыкает. Плохо только, когда в ночную смену крановщица по пути к тебе отрубается. Едет, скорость не снижает… Орёшь ей, не слышит, значит, отключилась. Молодые девчонки и бабы любовь крутят, у кого-то уже дети, семья… Если без груза, главное – от цепей увернуться. Шарахнет по каске – сбросит. Внутрь полетишь, зажаришься. Наружу – переломаешь всё, или на торчащий конец напорешься, они отовсюду торчат. Ну, а если с грузом…
Тут одно спасение: как пачка подлетит, на неё прыгать и, вцепившись в цепи руками и ноги поджав, лететь над цехом вместе с металлом, орать. Или крючком по кабине с размаху шваркнуть в момент прыжка, с пожеланиями… Главное, чтобы в момент, когда кран в соседний врежется, или в стенку, и затормозит, цепи не перекосило. А то пачка вниз полетит и тебя за собой потянуть может. Ну, и тем, кто внизу, когда цепи плохо растянуты и металл падает, кисло. Подарок с неба: пять тонн минимум. Штанги как копья летят, втыкаются… Под рольганг укатываться надо, под железнодорожную платформу, под тележку отгрузочную, которая между цехами бегает, или под машину, если рядом стоит. Тогда уцелеешь…
Б-г миловал, проносило. Один только раз со спины кран заезжал, стоял на платформе, готовился пачку зацепить, со склада присланную, на правильную машину бросить, крановщица задремала, цепями по каске шандарахнула. Две цепи, 360 кило. Улетел кубарем. С тех пор мениска нет на левом колене. Легко отделался.
В общем, не носил на заводе ни кольца, ни часов. Лишнее это. Опять же: какие часы в заводском районе? Мало ли что. Мешают они в драке. А уж после завода дарили всякие. И командирские, с дарственными надписями. Особенно почему-то у Шаймиева дареные, когда туда Гусинский с РЕКовским начальством и израильским послом, Алисой Шенхар, запомнились. И в Штатах. Где две пары были замечательные. Одну Милтон Гралла, замечательный мужик, уже тогда пожилой, филантроп, журналист и издатель в 90-м вручил, к 40-летию Израиля специально изготовленную, со знаками Зодиака, под двенадцать колен народа израилева подобранных, вместо цифр. Долго их носил.
Другую Миша Гальперин, бывший одессит и большой еврейский чиновник из Нью-Йорка, уже в 2000-х, когда автор сам Российским еврейским конгрессом командовал в качестве его третьего президента. С поездом, бегающим по циферблату, и при нажатии на кнопку взрёвывающим, как положено настоящему паровозу, в металлической коллекционной коробочке. Чего только народ для развлечения не придумывает. Мужики – чисто дети, в любом возрасте.
Последние часы себе в 2001-м в Нью-Йорке купил. Дорогие были, гады, но красивые. Президент РЕКа, положено. Визит Буша в Москву намечался, встреча с ним была назначена, нехорошо было из числа приглашённых по стилю выбиваться. Три этажа магазина на Манхэттене, недалеко от Центрального парка обошёл, пока наконец одни не понравились. Спокойные, форма необычная, спрямлённым бочонком, ремешок из аллигаторовой кожи, приятного колера, циферблат правильный, механические и с ручным подзаводом, что особенно ценно. Немецкие, номерные, «Гласхютте Ориджинал». Фирма старинная, редкая. Таких моделей больше не выпускают.
До сих пор в торжественных случаях носить приятно, хотя ремешок уже раза три менял, да и чинить пришлось. Треснул по столу кулаком, уходя из РЕКа, они через месяц и остановились: пружина какая-то треснула и в итоге лопнула. Надо было по зубам преемнику, нынешнему президенту конгресса, съездить за всё, что он там наколбасил, да сдержал себя. До сих пор жалко… Год стояли, пока в Москве эту марку не начали на ремонт принимать. Интересно, после коронавируса и всех кризисов, уцелела ли эта часовая лавка?
* * *
Новый год настал… Еврейский, 5782 год. Как третья звезда на небо вышла, так праздновать его и можно, согласно религиозной еврейской традиции, которая у большинства евреев мира превратилась просто в традицию. На столе у соблюдающего каноны еврея в этот вечер должны быть непременные яблоки, мёд (ломтики яблок в меду – самое правильное дело), фаршированная рыба, она же гефилте фиш – лучше всего карп и лучше с головой (Рош а-Шана дословно переводится, как «голова года»), сладкая морковная запеканка – цимес и, разумеется, круглая сдобная витая хала с изюмом (простая, с жёлтой, словно лакированной корочкой, или сплошь осыпанная светлыми зёрнышками кунжута или колючим чёрным маком, всё равно). Ну и, понятное дело, вино. Куда же без него за еврейским праздничным столом?
Возможны варианты. Восточные евреи, к примеру, готовят рыбу целиком, хотя и без большого количества острых специй (главное пожелание на еврейский Новый год, чтобы он был «добрым и сладким», так что специи в еду кладут умеренно, а вот сладостей не жалеют), баранину с луком и сухофруктами (в том числе, голову барашка), а также финики. На столе приветствуется гранат, поскольку по традиции число зёрнышек в нём соответствует числу религиозных заповедей – «мицвот»: 613. Впрочем, кто считал? Еврейская традиция тем и хороша, что позволяет не заморачиваться с пересчётом зерён в конкретном гранате, доверяя авторитету мудрецов древности. Сказали 613, значит 613, не больше и не меньше. Им, предкам, лучше знать было…
На столе не должно быть ничего горького, кислого и солёного. Для этого в жизни есть другие дни. А так – под хорошее настроение, да с добрыми словами, которые, опять же, по традиции сопровождают каждое блюдо… Кстати, в этот вечер даже блюда из овощей должны быть только те, которые у евреев ассоциируются с чем-то сладким. Чему, к примеру, помимо моркови соответствует та же свекла – она тоже сладковатая и с изюмом или черносливом идёт великолепно. В общем, понятно. Как говорили когда-то на идише, сплошной «цимес мит компот». Что такое компот, переводить на русский не нужно – компот и в Сибири, и на Урале, и в Магадане и есть компот… Ну и, в канун еврейского Нового года должен звучать шофар: козий рожок. Очень пронзительно. Очень громко, переливами. Мёртвых разбудит. А уж когда их, рожков, как в Израиле, звучит вокруг много…
Начинается новый годовой цикл. Сколько их уже прошло – понятно, все сосчитаны. Новый цикл чтения Торы начинают в синагогах. По главе в неделю, каждую субботу, год за годом, век за веком, тысячи лет подряд. Есть в этом что-то от вечности. По крайней мере, у евреев, а заодно и у всех, кто с ними вместе живёт на этой Земле. Знают про них и их праздники все эти люди или не знают, не важно. Разделяют их веру, как христиане и мусульмане, каждый по-своему, или нет, не важно. Относятся к ним терпимо или, по какой-то своей причине, ненавидят, тоже не важно. Люди же. Разные – хорошие и плохие, доброжелательные друг к другу и не очень, а то и просто друг друга на дух не переваривающие – Б-г им всем судья. Главное, чтобы Новый год был добрым и сладким у всех них и их детей. Затем его и отмечают…
* * *
Однокашники дружно поздравляют с Днём танкиста… Действительно, второе воскресенье сентября настало – наш день. Те, кто учился в МИСиСе и прошёл там военную кафедру, обязательно празднуют два дня в году: День металлурга и День танкиста. Когда ещё в стране была советская власть и когда её уже не было. Когда мы были стройными и ловкими, и по команде шеметом залетали в танковые люки, и когда постарели и погрузнели, а в танковый люк из-за пивного живота – этого «бархана мудрости», уже и не влезешь… Застрянешь, как Винни-Пух в норе у кролика, после сытного обеда, и что тогда делать? Ждать, когда похудеешь? Чёрт его знает, почему нам так запали в душу эти броневые гробы, срок жизни которых в современном бою идёт на минуты…
Нет, понятно, что когда на третьем курсе всем пришлось подстричь длинные, по тогдашней моде, волосы и сбрить бороды, у кого они были, одеться в хаки (стройотрядовская форма как раз подошла) и по средам целый день торчать на военной кафедре, в маленьком домике у метро «Октябрьская», на месте которого теперь длинные серые бетонные громады, это впечатляло. Особенно тех, кто в армии не служил, но им тут же про неё всё подробно рассказали. Опять же, танков там не было – они, все три, стояли в ангаре на Таганке, пока не отправились в новое здание военной кафедры, в Тёплый Стан, которое сами же студенты и построили, но в кабинете по огневой подготовке располагалось 100-миллиметровое танковое орудие, которое летом, распахнув окно, наводили по зданию МВД, которое как раз строили напротив.
Очень было весело. Особенно когда её дула, выдвигавшегося из окна, слегка покачиваясь, прохожие шугались. Ну и, понятно, походы строем, чеканя шаг, с учебными автоматами в Парк культуры и отдыха имени Горького, народ развлекали. Туда шли, неся оружие как положено, на плече. Стрелять оно, понятно, не стреляло, но вид имело боевой. Благо автоматы у танкистов – со складным стальным прикладом – если не обращать внимание на чуть изогнутый типовой магазин «калашникова», типичные «шмайсеры». Ну, их на обратном пути, слегка понтуясь, и надевали на шею, закатав рукава, пока майор Вощанкин, который в хорошую погоду любил занятия по тактике в парке проводить, мирно пил пиво со «стариками» в «Уголке» – он же на местном жаргоне «Уголовник», или в «Ракушке».
Автор как-то в таком виде зарулил прямо на Крымский Вал, в здание Цветмета, где располагалась огромная аудитория, в которой проводились лекции по химии для всего потока. Нужно было первокурсникам срочно объявление насчёт Ленинского зачёта сделать. До сих пор те вспоминают… Хотя лектор, профессор Грановская, надо отдать ей должное, даже глазом не моргнула. Видали они в жизни и не такое, наши профессора. Впрочем, это было задолго до того, как ректором МИСиСа стал Ливанов, который, уйдя в министры, пост передал фигуристой блондинке, имевшей к металлургии такое же отношение, как бабочка к прокатному стану. Ну, тогда время было ещё непрогрессивное, все занимались своими делами, и никто даже представить себе не мог, что партия, наш рулевой, вырулит в сегодняшний бардак и всю страну за собой потянет.
Ректором тогда был Пётр Иванович Полухин, и это таки был ректор. Министром – Вячеслав Петрович Елютин, тоже металлург, и это был министр, а не то, что мы имеем на этом посту сегодня. Ну, а деканом и заодно куратором группы, Иван Герасимович Астахов – «дядя Ваня». Они не знали, что такое модернизация, оптимизация и цифровизация. Не представляли себе, что в стране возникнут демократия и список Forbes. Они все прошли войну, не ездили на лимузинах и не умели есть устриц. И для них престижными курортами в лучшем случае были чешские Карловы Вары или отечественные Паланга, Юрмала, Ялта с Гаграми и Кавказские Минеральные Воды, а не Куршевель. Но это были мужики и это была страна – одна на всех. Может, поэтому мы все до сих пор и вспоминаем про День танкиста?
Как ни встретишься с ребятами, про военную кафедру и её офицеров речь заходит всегда. Въелись в память… Чирской, не любивший евреев, и Сиверсков, который терпеть не мог пацифистов. Умница Цельман и большие любители выпить Вощанкин и Шульман. Лысо-кудрявый Курамшин и грузный Батян. Улыбчивый полковник Иванов, называвший курсантов «воин», и неулыбчивый, но не подлый Петров, с которым после лагерей, возвращаясь в Москву на катере, вечно дрались – притом что он, хороший боксёр, воспринимал это как должное и никогда никого не закладывал. Маленького роста, но крепенький, как дубовый пенёк, Жидких, которого, в память о его отце-генерале, друзья того тянули по службе со страшной скоростью и вечно злой завкафедрой, полковник Мамаев – пьяница, хам и редкая скотина…
День танкиста… Три года по средам на кафедре и три месяца в военных лагерях, на Волге, недалеко от Калинина и деревни Путилово, где стояли серые палатки на 10 человек каждая на бетонных квадратах, с решётчатыми полами из реек и деревянными низкими дверцами, крашенными в цвет хаки. Офицерский городок из щитовых домиков, крытых причудливой, старой, китайской глиняной черепицей странной формы, с окнами, которые приходилось стеклить оставшимися более или менее целыми с прошлого года кусками стёкол, внахлёст, замазывая щели сосновой смолой. Вечный дивизионный ворюга-начпрод, прапорщик Дадашев и начальник сборов, подполковник Карл Иванович Сирадзе, который сжирал всё мясо, отпущенное на три роты, с горячо им любимыми капустными кочерыжками…
Песчаная трасса, по которой танки шли, ревя и ныряя в ухабы, когда отрабатывали вождение. Стрельбы – из пистолета (чёртов «макаров»!), автомата, танкового пулемёта (тяжёлый, зверь, но бьёт на убой) и пушки… До сих пор помнятся те снаряды – осколочные, подкалиберные и бронебойные. Ну и, понятное дело, работа заточенной сапёрной лопаткой и метание в цель штык-ножа – но это уже в свободное от строевой, матчасти, стрельб и вождения время. Вместе с карате, бегом по пересечённой местности, сбором моховиков и охотой на лягушек на окрестных болотах. С украденным на огородах луком и картофелем, да под майонезом, их жареные мясистые ножки так под самогон шли… Ну, а что делать? Рыбы там было почему-то мало, хоть и Волга. Организм белка требует. А еды – всего ничего. Воровал прапор, на студентах-то.
Хлеб, правда, всегда был (иногда сухари – из резерва, каменные, когда ненароком свежий хлеб завозили, и его Дадашев тоже мог продать). Сахар был кусковой (два любимых коренных зуба в нижней челюсти автор на нём там потерял – теперь на этих местах пришлось ставить импланты). Каша, в основном перловка – «пулемёт», да пустой суп с запахом картошки и отдельно плававшими в жижице капустными листьями. Плюс крупная грубая серая соль и почему-то редкая для того времени натуральная паприка. Красная, венгерская, настоящая. Правда, не острая, но так даже лучше было. Что до консервов… Из резервов, старые, в томате – «красная рыба». В банках, усеянных точками ржавчины. По три на стол – взвод из 10 человек. Как-то в масле свежие завезли. Один день их ели, потом пропали. Тоже продал прапорщик…
Вот, за такие кунштюки ему каждый год под дембель курсанты домик дотла и сжигали. И традиционно жгли все деревянные части палаток. К утру дембеля в лагере стоял сизый дым, смешанный с густым туманом, среди сосен бродили как тени курсантские фигуры, выползали из кустов получившие по мордам за всё, что заслужили, сержанты из самых глупых, которые свою власть пытались в эти три месяца кому-то продемонстрировать… Бывают такие шкуры. Ты его пять лет тянул за шкирку, списывать давал, а тут он вдруг почувствовал себя начальником. Кого-то в наряды начал ставить, кого-то не пускать в увольнительную… Что с такими людьми делать? Только бить смертным боем, как всё закончится. Ну, их и били. Очень уж они на нынешних начальников были похожи. Такая аристократия помойки!
О многом напоминает День танкиста. Как раз в то время, пока мы под Калинином сидели в местных моховых болотах, в Москве шла Олимпиада. Так что мы все её видели только по телевизору, и то в свободное от учёбы и нарядов время. В офицерском городке как раз был один. И, кстати, именно там в первый раз увидели «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. 41 год прошёл. Ни Захарова уже нет, ни Янковского, ни Абдулова с Леоновым… А тогда, в эти летние дни 1980 года, Высоцкий умер. Сначала, услышав, не поверили. Потом кто-то позвонил в Москву, ему это подтвердили… До того было мрачное у всех настроение! Один полковник Мамаев по паршивости своего характера что-то про него не то сказанул… Ну, посмотрели на него такими волками, что быстро замолчал. А потом открытым текстом и послали. Было дело.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе