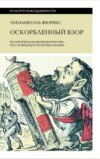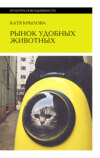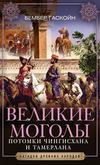Читать книгу: «Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции», страница 7
Язык растений
Растения также используются для политизации внешнего облика, порой за счет их цвета, а порой за счет эмблематического значения, почерпнутого из геральдики или независимого от нее. Лилии, фиалки, розы красные и белые, гвоздики, иммортели, ромашки, тимьян – самые разные цветы в букетах, петлицах или на шляпах конкурируют друг с другом и становятся элементами политического языка. Языка, рождающего конфликты: выставление напоказ растений, воспринимаемых как политические, часто приводит к спорам, потасовкам, волнениям и даже насилию. Одни растения обретают политическое значение лишь пунктирно, время от времени, другие, напротив, сохраняют его очень долго. Лилия остается эмблемой роялистов в течение всего XIX века, а вот бонапартистская красная гвоздика не пережила первых лет эпохи Реставрации и лишь позже начинает отождествляться с социализмом. Политическое использование растений проникает в социальные ритуалы, казалось бы априорно чуждые всякой политизации, как то: воскресная прогулка по городу, в ходе которой мужчины и женщины часто носят цветы в петлицах или на шляпах; праздники святых покровителей или гражданские торжества, традиционно украшаемые цветами; гражданские банкеты; религиозные процессии, особенно в честь праздника Тела и Крови Христовых, в ходе которых девушки надевают цветочные венки; похороны и паломничества на кладбища296. «Зрители» могут понять политическую коннотацию выставленных напоказ цветов, только исходя из контекста и социальных интеракций, да и то с большим риском недоразумений и гиперинтерпретаций. В 1831 году на рынке в Монпелье белые с зелеными прожилками листья капусты вызвали скопление народа, а затем и вмешательство полиции, явившейся разоблачить и конфисковать «капусту Генриха V»297!
С первых дней Реставрации лилии – или, за неимением таковых, любые белые цветы – в массовом порядке использовались для публичной демонстрации преданности режиму Бурбонов. Благодаря цветам в такой демонстрации могли принимать участие, не нарушая при этом правил поведения, приличествующего их полу, даже женщины-роялистки. Порой, при определенном соотношении сил в данной местности, их жесты становились перформативными. Так, в Бордо 12 июля 1815 года, после того как власть вновь перешла в руки Бурбонов, женщины, согласно полицейскому отчету, «явились на террасе театра с белыми букетами (у одной из них лилия была бумажная), вокруг них собралась толпа, потребовавшая возвращения белого флага. Тотчас трехцветный флаг сняли, а белый занял его место»298. Впрочем, носить лилию не всегда безопасно: порой это провоцирует рукоприкладство со стороны иконоборцев. В Марселе 15 мая 1815 года, когда власть Наполеона начинает шататься, цветочницы, предлагающие прохожим «лилии и другие белые цветы», вызывают негодование непреклонных «бонапартистов»: они разбивают вазы и топчут ногами неугодные растения299. В Семюре в 1818 году во время свадебного бала два «повесы», оказавшиеся бонапартистами, задирают танцоров, носящих в петлице «жаннеты» – белые нарциссы, и, недолго думая, отвешивают этим «сторонникам Бурбонов» пощечины300.
Легитимистская репутация закрепляется за лилиями очень надолго и сохраняется, даже когда их использование, казалось бы, уже утратило политическую актуальность. Начиная с 1830‐х годов лилии, отныне считающиеся знаком мятежа, вызывают бесконечные споры в самые неожиданные моменты, например во время религиозных церемоний. По случаю процессий в честь праздника Тела и Крови Христовых украшением балдахинов и временных алтарей служат букеты лилий, и в 1830‐е годы это зрелище рождает вопросы относительно возможного скрытого смысла подобных украшений. А вдруг они сообщают зрителям о карлистском заговоре, задуманном священниками-легитимистами? Подобные семиотические сомнения порой приводят к иконоборчеству. Так, в Плуэре (департамент Кот-д’Армор) в 1834 году, когда «карлистские дамы» возлагают букеты лилий на временный алтарь, моряки-«патриоты» не только требуют убрать букеты, но и швыряют их в лицо присутствующим при сем «карлистам»301. Одно поколение спустя, при Второй империи, повторяются, казалось бы, аналогичные конфликты, однако теперь «лилиям» приписывается значение не столько политическое, сколько социальное. В 1868 году в ходе антиклерикальных и бонапартистских кампаний в Перигоре и Шаранте букеты лилий и пшеницы, украшающие алтари, интерпретируются как знаки скорого восстановления церковной десятины. Они рождают множество слухов и очень серьезные волнения в полутора десятках кантонов: вооруженные палками и вилами, крестьяне врываются в церкви, требуют от кюре, чтобы те убрали подозрительные букеты, а затем сами их сжигают302.
Сторонники Наполеона довольно широко использовали для демонстрации своих симпатий фиалку и гвоздики, а затем, после кончины их кумира в 1821 году, иммортели, или бессмертники. Эти растительные эмблемы, конечно менее известные, чем орел или пчела, тем не менее не раз служили в эпоху Реставрации причиной волнений. Фиалка начиная с 1815 года стала цветком наполеоновского мессианизма: напоминавшая о надеждах тогдашней весны, она обозначала для тех, кому хотелось в это верить, неизбежность нового возвращения императора. Те, кто сожалел о крушении империи, украшали себя букетиками фиалок, а их противникам это представлялось «бравадой» и они стремились букетики сорвать. Тот же смысл, хотя и с меньшей очевидностью, вкладывался и в красную гвоздику. Этот цветок «в петлице или во рту» воспринимался властями как «сигнал сбора», и в течение всей эпохи Реставрации его старательно изгоняли из публичного пространства. И в Париже, и в провинции гвоздика служила причиной многочисленных потасовок и превращала гражданина, ее носившего, в «нарушителя общественного порядка», за которым нужно следить и которого нужно карать особенно строго303.
Другие растения возводятся в ранг политических знаков на основе местных обычаев и конфликтов, более ограниченных во времени и пространстве. Так, на юге, в Провансе, тимьян, или чабрец (на местном наречии farigoule), при Второй республике указывает на социал-демократических монтаньяров, наследников монтаньяров революционных304. Массовое использование его в качестве политического символа зафиксировано в целом ряде департаментов Прованса, от Ардеша до Дрома и Воклюза, от Буш-дю-Рона до Вара. Передовые республиканцы видят в нем «символ народа» и Горы: «серый горный тимьян, который презирают, топчут ногами, но он не сдается»305. Участники «красного» банкета, состоявшегося в мае 1850 года в Буше (Дром), прогуливаются с букетами чабреца в руках, распевая «Расцветет Гора опять»; так же поступают и 750 подписчиков «красного» банкета в Лурмарене (Воклюз) в 1849‐м306.
«Соцдемы» часто носят тимьян вместе с красными лентами или кусочками ткани; тимьяном украшают «красные кофейни», в частности во время избирательной кампании 1849 года. Пара тимьян/красный цвет может при этом приобретать и более грозные коннотации. 1 мая 1849 года во время «красной» фарандолы в Шабасе республиканцы, носящие эти эмблемы, восклицают: «Да здравствуют красные и смерть белым! Мы их поджарим с тимьяном!»307 Намек понятен: провансальскую кровяную колбасу готовят с веточками тимьяна; тимьян воспринимается как пряность, которая в качестве эмблемы народного карательного правосудия будет сопровождать политическое кровопускание. Во время Второй империи «красный» тимьян уходит в тень, чтобы вновь возникнуть в средиземноморском публичном пространстве в начале Третьей республики308.
Животные демонстративные и искупительные
С животными из плоти и крови, превращающимися в символы, дело обстоит не совсем так, как с растениями. Домашнее животное не только воплощает в себе политические симпатии и антипатии хозяина, но и служит тотемным воплощением его врага. Этот процесс, плохо документированный применительно к XIX веку, вписывается в историю более длительную, одним из эпизодов которой стало в XVIII веке «великое кошачье побоище», сделавшееся знаменитым благодаря Роберту Дарнтону и предложенной им социальной интерпретации происшествия. Избиение котов, принадлежащих хозяину парижской книгопечатни на улице Сен-Северен, которого ненавидели его подмастерья, американский историк интерпретировал как социальный протест с сексуальными коннотациями: «перебивая хребет „серенькой“ [любимой кошке хозяйки], они, с одной стороны, обзывали супругу хозяина ведьмой, а с другой – превращали хозяина в дурака-рогоносца»309. Но политизация животных в XIX веке вписывается и в противоположный процесс; мы имеем в виду становление и укрепление «зоофильских» тенденций, постепенную антропоморфизацию домашних животных: разрыв между человеком и животным, наделенным чувствительностью, сужается, что, впрочем, вызывает сильный протест310.
При Второй республике в департаменте Восточные Пиренеи некоторые социал-демократы с совершенно сознательным политическим намерением украшают рога своих быков красными лентами; в коммуне Арль-сюр-Теш активист по фамилии Батль пользуется праздником местного святого покровителя, чтобы выпустить на улицу быка с красными лентами и тем бросить вызов землякам: Батль «объявил во всеуслышание, что бык будет принадлежать тому, кто сумеет его покорить»311. Сходным образом в 1850 году группа социалистов-республиканцев нарочно прогуливает между двумя деревнями близ пика Канигу, в том же департаменте Восточные Пиренеи, козленка в красном колпаке312. В обоих случаях животное наравне с гражданами снабжается политической эмблемой, в результате чего размывается граница между человеческим и нечеловеческим. В обществах – и сельском, и городском, – где животное присутствует всегда и повсюду, оно используется не только как метафора, но и как продолжение взглядов своего хозяина. В знак сопротивления Реставрации лошадей украшают трехцветными лентами313, а голубям прицепляют трехцветные кокарды314. А в 1851 году у одного мятежника из департамента Нижние Альпы315, известного под именем Тонен, сидела на голове большая красная птица, сделавшаяся своего рода локальной эмблемой восстания в Ди´не316.
Впрочем, гораздо чаще животное, превращающееся в символ, все-таки носит на себе какое-то клеймо или служит предметом насмешек в ходе карнавальных и иконоборческих процессий. Не случайно Роберт Дарнтон говорит по этому поводу об отрицательной «ритуальной ценности». «Некоторые животные, – пишет Дарнтон, – очень подходят для обзывания, как другие, по знаменитой формулировке Леви-Стросса, „подходят для думанья“»317. Прогулки с животными в сатирических и политических целях служат выражением «народного экспрессионизма» (Морис Агюлон), но не только; они продолжают традицию искупительного использования животных318, зафиксированную во время Французской революции и сохранившуюся до середины XIX века. Чаще, чем кошки, испокон веков ассоциировавшиеся с оккультными силами и по этой причине использовавшиеся в мстительных «кошачьих концертах», эту искупительную роль исполняют собаки и ослы, реже лошади и, наконец, свиньи, продолжающие волновать народное воображение319. Подобные сцены, особенно частые в эпоху Реставрации, происходили и в городах, и в деревнях. В марте 1815 года при известии о «прилете Орла» (возвращении императора) один ветеран наполеоновских кампаний принимается расхаживать по улицам Тулузы в обществе собаки с крестом Святого Людовика на хвосте320; несколькими неделями позже сцена повторяется в Драгиньяне, только теперь на хвосте красуются лилия и белая кокарда321; а в Мюлузе заводчики в знак раскаяния привязывают «к гривам и хвостам лошадей кресты Святого Людовика, которыми наградили их самих»322. В начале Второй реставрации в Париже в квартале Сен-Марсо из одного кабака в другой водят свинью с лилией на хвосте, а в это время фрондеры-бонапартисты иронически пьют за здоровье «толстого папаши»323. Похожие сцены разыгрываются в коммуне Антрег (департамент Аверон): ее жители привязывают белые кокарды к хвостам собак и лошадей324; несколько месяцев спустя в одной из деревень департамента Рона «шалопаи» смеха ради прикрепляют белую кокарду к хвосту собаки, и она, к негодованию окружающих, бегает в таком виде по улицам325. Напротив, в Сен-Жилле (департамент Гар) служанка-роялистка, вдова Гине, разгуливает по городу с белой кокардой на голове, а своему псу, которого именует «бонапартистом», нацепляет кокарду красную и тем самым разыгрывает поединок с собственным домашним животным. Комментирует она это следующим образом: «Я-то роялистка и ношу белую, а вот пес мой, чертов бонапартист, разбойник, красную напялил; но как придем домой, я ему голову отрублю, вот бы и всех бонапартистов туда же»326. В октябре 1830 года в том же департаменте Гар, в деревне Сен-Кантен-ла-Потери легитимисты, желая высмеять революционные цвета, которые новая власть сделала государственными, прогуливают по улицам осла с трехцветными кокардами в ушах и носу327. При Второй республике «красные» из края Апт в департаменте Воклюз, судя по некоторым рассказам, нарядили осла принцем-президентом328. Иначе говоря, некоторые домашние животные или рабочий скот превращаются в негативные политические эмблемы – предмет насмешек. Во второй половине XIX века подобное использование животных постепенно сходит на нет.
Что же касается тотемического животного, его могут приносить в жертву и подвергать насилию, метя при этом в обозначаемого им политического противника. В этом случае целью иконоборцев становится порой само тело животных-символов. Коллективные представления, особенно среди простонародья, легко мирились с такими жестами, особенно до 1850 года, когда был принят закон Граммона, запрещавший публичное жестокое обращение с домашними животными329. Бои животных (петухов, собак, медведей и проч.) были в ту пору самым обычным делом не только в деревнях, но и в восточных пригородах Парижа (возле заставы Травли). В первой половине XIX века одной из любимейших забав сельской молодежи было отрубание головы домашним птицам или забивание их камнями330. В коммуне Ла-Валет (департамент Вар) в 1832 году карлисты публично высекли, а затем повесили петуха – по всей вероятности, намекая на официальную символику режима Луи-Филиппа. Морис Агюлон однажды уже привлек внимание к этому случаю, в котором увидел политизацию фольклора: «петуха используют без предварительных объяснений, поскольку так принято, но при этом помнят о тех политических ассоциациях, какие он порождает в данный момент, и с радостью их обыгрывают»331. Позднее, в июле 1851 года, белого петуха – в этом случае цвет важнее породы животного – носят по деревне Бельгард-ан-Диуа (департамент Дром), осыпают оскорблениями, а потом публично сворачивают ему шею, «чтобы показать, как бы надо обойтись с белыми»332. Во всех описанных эпизодах эмблематическое животное превращается в искупительный манекен, «козла отпущения», за которым стоит другой объект; примерно так же во время карнавала устраивают суд над Карамантраном – манекеном, изображающим Великий пост, – а затем сжигают его или вешают.
Предметы-фетиши
В XIX веке, так же как и во время Революции, политические конфликты отражаются на всем, включая самые повседневные предметы. Бритвы, ножи, настольные игры, игральные карты, полотенца, фигурные трубки, табакерки, медальоны, женские украшения, брошки и брелоки, веера, рукоятки тростей, стаканы, расписные тарелки333, вазы, стеклышки волшебных фонарей, формы для вафель, этикетки для ликеров и духов, мыло, конфеты, пряники и гостии – все это украшается картинками, эмблемами, надписями и портретами с более или менее явным политическим смыслом. Все эти предметы во многих отношениях гибридны: это и вещи, и изображения; их можно употреблять и в повседневной жизни, и в политических целях; они приносят пользу и демонстрируют убеждения; они предназначены для частного пространства, но могут быть явлены и в пространстве публичном; они участвуют и в торговых обменах, и в обменах дарами.
В эпоху Реставрации поклонники Наполеона создали настоящий «культ возмутительных предметов», хранящих память об императоре; культ этот был распространен повсеместно, как в городах, так и в деревнях, и его разделяли представители всех классов общества334. Количество предметов такого типа, находившихся в обращении, достигало, по всей вероятности, нескольких миллионов. Факт этот широко известен, но слишком часто в нем видят всего лишь симптом популярности «наполеоновской легенды». Гораздо менее изучены безделушки самого разного рода, от носовых платков до мыла, украшенные изображением Генриха V, которые во множестве циркулировали в легитимистских кругах с 1830‐х годов до начала Третьей республики. Не остались в стороне и либералы с «памятными вещицами» в честь депутатов Манюэля и Фуа335 и «табакерками Туке», выпущенными в огромном количестве для защиты Конституционной хартии336. Даже республиканцы прибегали для пропаганды своих идей не только к политическим катехизисам, но и к предметам-фетишам, опоре сенсуалистской педагогики. Портреты депутатов-монтаньяров украшают различные предметы, в частности шейные платки337, а «красные» курильщики из департамента Жер в 1850 году выставляют напоказ «зажигательные [sic!] трубки, увенчанные головами Ледрю-Роллена, Барбеса и Распая»338. Ассоциация под названием «Демократическая и социальная пропаганда» в 1849 году объявляет своей целью распространение «предметов искусства демократической и социальной направленности»: «портретов, бюстов, статуэток, медалей и медальонов аллегорического свойства» ради образования и эмансипации масс339. Иначе говоря, циркуляция предметов составляет автономное, четко определенное пространство, дополнительное по отношению к сфере публичных дискуссий.
Для историка все эти разнородные предметы представляют опасную ловушку. Они бесспорно потрясают воображение своей принадлежностью к более или менее экзотическому китчу. В 1827 году кондитер в Меце выставляет на ярмарке издевательские пряничные фигурки Карла Х в иезуитском головном уборе340; в 1829 году во время карнавала взорам жителей Понтуаза предстает куда более изощренная композиция: орел, на нем бюст Бонапарта, а сверху два ангела, венчающие его французской короной341… Поражают предметы-фетиши и сложностью шифровки: многие из них имеют двойной и тройной смысл, и если на первый взгляд они кажутся совершенно невинными, то при внимательном рассмотрении выдают свою возмутительную природу; например, во многих департаментах широкое распространение получил листок с нарисованными на нем лилиями: стоило его развернуть, и из-под лилий показывался победительный орел и Наполеон, прогоняющий короля-Бурбона342; в том же духе выполнены бронзовые статуэтки Людовика XVIII, внутри которых прячутся крохотные бюсты Наполеона343. В тот момент, когда возвращение Наполеона (или его сына) на французский престол еще кажется возможным, двойное изображение напоминает об обратимости эпох и властей. Многие из предметов-фетишей завораживают также своей якобы «народной» эстетикой, которая вселяет иллюзию, будто, изучив их, историк наконец получит доступ к «народной политике», замешанной на мирском идолопоклонстве и полной фантазмов. Наконец, эти предметы поражают и привлекают своей мнимой прозрачностью: кажется, будто их наличие у того или иного человека недвусмысленно указывает на его политические верования и политическую ангажированность. Все эти фетишистские иллюзии необходимо отбросить.
Историк, как правило, получает доступ ко всем «политическим» безделушкам такого рода только благодаря посредничеству полицейских. Полицейские же рапорты уделяют преимущественное внимание производству и распространению подобных предметов или их доступности, но не позволяют вынести окончательные суждения об их значении (зачастую двойственном) или об их употреблении (также весьма двусмысленном). Архивы эти, особенно в эпоху Реставрации, действуют как увеличительное зеркало, отражающее процветающую торговлю возмутительными предметами, но также и порождаемые ею страхи. Изготовлением подобных предметов занимаются либо заключенные, которые мастерят их из соломы344, либо ремесленники, которые тайком делают их на фабриках345, но порой производство достигает промышленного масштаба: такова, например, серия из сорока восьми тысяч так называемых «наполеоновских» ножей, пущенная в продажу, по всей вероятности, фабрикантом из города Тьер в 1826–1830 годах346.
Что сообщают нам полицейские рапорты о способах присваивать и осмыслять эти предметы, манипулировать ими, выставлять их напоказ или скрывать? Проникнутые глухой тревогой, рапорты преувеличивают прозрачность и перформативность описываемых знаков. Разве этикетка ликера под названием «Эликсир Святой Елены» с изображением Наполеона может не разжечь страсти и не вдохновить на бунт? Именно об этом и пишет начальник полиции департамента Рона через несколько дней после убийства герцога Беррийского: «Ничто, кажется, не способно так быстро возбудить умы, и без того горячие от природы и уже распаленные вином и крепкими напитками, как вид подобных этикеток»347.
Между тем потребители и производители используют эти знаки разными, зачастую противоречащими один другому способами, и это доказывает, что на самом деле прозрачность их отнюдь не так велика. «Социальная жизнь вещей» соткана из подобных двусмысленностей348. Производители, равно как и разносчики – продавцы эстампов, табака, галантерейных товаров или модных новинок, – утверждают не без оснований, что они стремятся прежде всего отвечать на запросы анонимной публики с разными вкусами. Производители вовсе не обязательно руководствуются политическими убеждениями, их гораздо больше интересует прибыль. Некоторые даже ссылаются на свою верноподданность и законопослушность. Другие оправдывают себя эклектичностью своих запасов, в которых смешаны предметы самой несхожей направленности. В этом случае политический символ тонет в хаосе смыслов и разнородных следов прошлого. Владелец парижского «музея изящных искусств» в Вивьеновом пассаже объясняет в 1825 году присутствие в своей лавке бюстов Бонапарта тем, что они «пребывают здесь среди более восьми сотен людей, прославленных своими талантами, добродетелями или преступлениями»349. В 1869 году в каталоге фигурных трубок торгового дома Гамбье в Живé (департамент Арденны) императорское семейство соседствует с «узником», чьи черты напоминают мятежного Огюста Бланки350. В эпоху «изобретения знаменитостей»351 визуальный пантеон обретает самые разнообразные формы, так что возмутительное изображение теряется среди множества других знаков.
Что же касается потребителей, они в первую очередь используют эти предметы по прямому назначению, строго дозируя степень их символического истолкования в зависимости от того, кто на них смотрит. Деполитизацию ближайшего прошлого, особенно после 1830 года, осуществляют, в частности, «коллекционеры» (слово возникает именно в эту эпоху). Прошлое, разъятое на кусочки и превращенное в часть культурного наследия, ускользает от политических истолкований. Манюэль Шарпи, исследовавший обстановку парижских буржуазных квартир во второй половине XIX века, приводит удивительный факт: в 1860 году Ашиль Грегуар, торговец с улицы Сен-Лазар, хранит в столовой статуэтку Людовика XVIII, в прихожей бюст Наполеона I, а в кабинете портрет республиканца Армана Карреля352. Трудно найти лучшую иллюстрацию для политического эклектизма коллекционера, чье собрание почти превращается в музей. Впрочем, другие коллекционеры руководствуются принципом избирательного сродства. Ими движет прежде всего желание отыскать политического покровителя для истории своей семьи. Поэтому барон де Бургуэн, шталмейстер Наполеона III, собирает в своем особняке коллекцию, полностью посвященную императорской фамилии353.
Обстановка жилищ людей более низких сословий известна нам гораздо хуже. Кое-какие сведения имеются только о квартирах участников восстаний или заговорщиков, у которых проводился обыск. Такие обыски в большом количестве проходили после апрельского восстания 1834 года; из их протоколов следует, что в обысканных квартирах политические предметы встречаются очень редко; преобладает печатная продукция: литографированные портреты Робеспьера, Марата, Сен-Жюста, купленные у торговцев эстампами; рисунок, изображающий аллегорию Свободы354; ленты и куски красной ткани, которые могут послужить сигналом сбора. Обстановка в жилищах некоторых парижских мятежников в июне 1848 или в декабре 1851 года мало отличается от описанной картины: гипсовая «богиня свободы» у рабочего делегата Жака Бо, участника июньского восстания 1848 года, – восьмидесятисантиметровая статуэтка с ружьем в руках и булыжниками у ног (смысл более чем прозрачен), а также медальоны с изображением Робеспьера и Сен-Жюста355; у бельвильского садовника Тартенвиля – «портреты Робеспьера, Марата и всех людей 93‐го года на стенах»356 (обе квартиры обысканы в 1851 году). Впрочем, встречаются и вещи более современные: коллекция портретов «соцдемов» или монтаньяров 1849 года, свидетельствующая об обновлении политической визуальной культуры357.
В апреле 1834 года в скромной комнате повстанца Альфонса Фурнье, повара из Сен-Клу, обнаруживают наряду с республиканскими брошюрами «фригийский колпак красного цвета, украшенный серебряными галунами и лентами», длинный кусок красной саржи и странный предмет-реликвию. Это «четки, нанизанные на ленту и завернутые в кусок красного сукна, а поверх колпак свободы из белой бумаги с надписью „Не расстанусь с ним до самой смерти“»358. Вещи из наследства повстанца-республиканца, члена Общества прав человека, приоткрывают нам другой мир политических предметов, независимый от торговли, – мир скромных вещиц, изготовленных своими руками и превращенных в предмет поклонения (заметим, что речь идет о четках). Мир, очень мало изученный историками. Мир, довольно близкий к тайным обществам романтической эпохи с их ритуалами: в 1830‐е годы при вступлении в реформированные общества карбонариев использовались синие, черные и красные ленты, прикрепленные к острому деревянному бруску359, а главное – кинжалы, неразрывно связанные с ритуальной клятвой360. В тайных обществах сакральность обеспечивается наличием опознавательных знаков, верность которым члены общества хранят до самой смерти.
Преданные сторонники Наполеона в эпоху Реставрации пользовались аналогичными предметами, священными для всех единомышленников: так, в сентябре 1815 года в нантском кафе бонапартисты каждый вечер «передавали из рук в руки табакерку с портретом Наполеона» и «набожно целовали это изображение»361. В глазах властей эта явная и, по всей вероятности, провокационная демонстрация чувств превращает группу оппозиционеров в религиозную секту. В самом ли деле в данном случае имеет место идолопоклонство или это только видимость, последствия несомненны: возмутительные предметы в публичном пространстве чреваты политическими опасностями и потому становятся потенциальными мишенями официального иконоборчества.
Когда предметы-фетиши начинают навлекать на себя атаки иконоборцев? До тех пор, пока они не пересекают священных границ частного пространства, им, как правило, ничего не грозит; исключение, как мы увидим, составляет только период 1815–1816 годов с его антинаполеоновскими чистками. И блюстителей закона, и хранителей социальных обычаев интересует не столько содержание, транслируемое возмутительным предметом, сколько степень его доступности для широкой публики. Поэтому обнаружение в ходе обыска такого предмета у частного лица само по себе не может вызвать судебное разбирательство, если, конечно, предмет этот не был виден с улицы, например выставлен в окне. Зато если становится известно, что возмутительные безделушки поступили в продажу или выставлены на всеобщее обозрение, власти судебные или даже административные нередко предписывают уничтожить и сами предметы, и формы, служащие для их изготовления362. Так, судебный пристав уничтожает наполеоновские эмблемы, найденные у сапожника из Барра (департамент Нижний Рейн)363; наполеоновские орлы и статуэтки, обнаруженные у литейщиков, подвергаются той же участи364. Эти жесты обрисовывают нам другое официальное иконоборчество, скрытое и оставляющее мало следов. Некоторые из заподозренных торговцев сами на всякий случай предлагают уничтожить недозволенные предметы, чтобы избегнуть судебного разбирательства; так, например, поступает торговка модными товарами из Арраса в 1829 году365 или продавец галантерейных товаров в Нанте в 1833‐м366. Последний, выказывая прекрасное знакомство со статьями закона, изъявляет готовность «изничтожить их [носовые платки с изображением Генриха V], какой бы урон это мне ни принесло, потому что я вовсе не хочу, чтобы меня посчитали виновником какого-либо правонарушения». Сходным образом молодой музыкант соглашается разбить трубку, украшенную изображением Наполеона, несмотря на отсутствие судебного решения367. Порой иконоборчество носит превентивный и оборонительный характер: коммерсанты или простые пользователи идут на хитрость и деполитизируют свой собственный жест.
Генрих V – герцог Анри (Генрих) Бордоский (1820–1883), сын убитого в 1820 году герцога Беррийского и внук свергнутого в июле 1830 года короля Карла Х; он вместе с дедом отправился в изгнание и королем так и не стал, но роялисты-легитимисты считали своим законным королем именно его. – Примеч. пер.
Упомянутые политики – видные деятели Второй республики. – Примеч. пер.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе