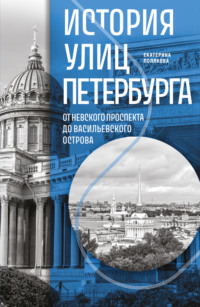Читать книгу: «История улиц Петербурга. От Невского проспекта до Васильевского острова», страница 4
Крестовский остров
Какие отзывы в прессе получил первый в Петербурге чемпионат по женской борьбе.
В честь кого назвали улицы на Крестовском острове.
Как дворовый пёсик смог сорвать постановку «Ромео и Джульетты».
В Петербурге множество островов, по неофициальной версии, их 101, но среди всех лишь три зовутся с большой буквы – Островами: Крестовский, Каменный и Елагин. «Одновременно и город, и сельская местность», наличие «храмоподобных зданий» и близость к центру Петербурга «заставляет вас думать, что, находясь на островах, вы не покинули города», – писал французский путешественник маркиз де Кюстин, он приезжал на Острова еще в 1830‐х годах, но, кажется, словно ничего с тех пор не поменялось.
На острова приезжали как в «пригород в городе», пили шампанское, пускали фейерверки, слушали музыку, а их красоту описывал поэт Саша Черный. Конечно, мода эта возникла с появлением доступного транспорта, когда в городе шумном, перенаселенном оставаться не хотелось. А здесь – водная гладь и ощущение простора.
Немцы, татары и Христофор
Крестовский – самый крупный из островов, сначала он принадлежал другу и ближайшему сподвижнику Петра I Александру Меншикову. Название его идет еще от финского Ristisaari, и считается, что на острове издалека виднелась небольшая часовня с крестом, давшая ему имя. Хотя версий происхождения – уйма: и по крестообразному озеру, и по кладбищу, и по навигационным знакам, при помощи которых ориентировались между островами. В любом случае приметили лакомый кусочек природы сразу: Пётр подарил его своей любимой младшей сестре, Наталье Алексеевне. Затем, интересное совпадение, владельцем Крестовского стал фаворит Анны Иоанновны, граф Бурхард Христофор Миних, и тот решил: пусть будет остров Христофорским. До его появления остров был местом, далеким от цивилизации, поэтому здесь собирались те, кто не хотел оставаться на виду. Например, петербургские немцы устраивали очень неординарный ритуал во время праздника Ивана Купалы. Ночью они забирались на холм и парами сбегали с него, смеясь, визжа и крича. Традиция исключительно немецкая, и она дала имя холму – Кулерберг, а потом и сама стала называться Кулербергскими гуляньями.
Свой ритуал устраивали на Крестовском и татары: здесь они забивали лошадей, поскольку употребляли конское мясо. Делалось это не на глазах у всех, а на небольшом островке, образованном протоками. Народ назвал этот островок Татарским, но позже протоки засыпали.
Теннисные корты, богемные вечеринки и супрематизм
«Дичь и болота» позднее стали преобразовывать: строить трактиры и прочие веселые здания для праздного выходного дня. При Белосельских-Белозерских эти места обрели аристократический лоск. Они подошли к делу предприимчиво, разделив остров на зоны: в одной проходила охота, в другой располагались рестораны и проходили представления, в третьей были дачные участки и усадьба Белосельских-Белозерских. Почему бы не снять квартиру на выходные за городом, звучит очень современно! Дачников стало пруд-пруди, а князья неплохо заработали. Не только сдавая дачи в аренду, но еще и организовывая перевозки на остров, продажу сена, получая доход за зимовку лодок на берегах. На дачах часто варили варенье, заводили кур – старались почувствовать вкус сельской жизни, но недалеко от города. Частым развлечением был домашний театр, который устраивали без особых изысков: на полянке среди деревьев разыгрывались драмы. Мать Александра Блока вспоминала, как однажды во время пылкого объяснения Ромео и Джульетты на сцену вышел мохнатый дворовый пёсик. Романтика момента вмиг растаяла – а обескураженный Ромео удалился с «оскорбленным лицом». Спектакль пришлось на этом закончить.
«Наших бедных дачников совсем заели актеры-любители! Эти несчастные маньяки не пощадили бы, кажется, и девственных лесов, если бы проезд туда и обратно стоил не дороже 30 копеек. Всюду следуют за человеком с настойчивостью крыс и тараканов».
А. П. Чехов
Туристы на Крестовском не только по трактирам ходили, модники играли в теннис или крокет в роскошном клубе, посещали тренировки в обществе гребцов и устраивали регаты в яхт-клубе или голубиные стрельбища. Для любителей отдыха поспокойней были опции пикников с самоваром (его приносила прислуга), лекций и концертов звезд эстрады. Дачная жизнь, хоть многие в письмах ее описывали как «тоска и скука», была разнообразной, занятий было хоть отбавляй, а в город возвращаться никто вовсе не хотел! Можно было искупаться, покататься на лодке, ходить в гости и варить варенье на террасе, причем ягоды продавали разносчики, принося их прямо к порогу, в лес за ними горожане уже не ходили, а пользовались услугами доставки. «Крестовский остров есть теперь наше самое модное гулянье, особливо по воскресеньям», – пишет издатель журнала «Отечественные записки» Павел Свиньин. В 1903 году здесь прошло важное в истории женской эмансипации событие: первый чемпионат по женской борьбе. Мероприятие длилось целый месяц и вызвало у петербургских обывателей немало пересудов. Участниц называли не иначе как «борчихами», относились к ним с ехидством и снисхождением, хотя среди девушек были весьма известные спортсменки из России, Германии и Швеции. Простой люд, не имевший дач, съезжался на остров участвовать в массовых развлечениях, устраивать пикники, слушать граммофон, кататься с огромных деревянных гор и купаться.
Семья Белосельских-Белозерских решила закрепиться на острове не только физически, но еще и переименовав улицы в свои имена: Эсперов переулок, Константиновский проспект, Ольгина улица.
После революции остров решили сделать центром спорта, здесь с 1920-х базировались такие гиганты, как «Динамо», «Нева», «Знамя». Остров стал и местом, где рождалось искусство. С 1930 года после уплотнения здесь поселился ученик Малевича, авангардист Владимир Стерлигов. Его пленэры и занятия в мастерской были продолжением идей Малевича о духовном поиске через искусство. Именно во время проживания на Крестовском острове художник открыл новый прибавочный элемент в живописи, который назвал «прямо-кривой».
Адмиралтейский район


Адмиралтейская набережная
• Как зарабатывали на спуске судна из верфи прозорливые граждане.
• Когда шпиль Адмиралтейства стал «капсулой времени».
• Как Миш-Миш женился на внучке Пушкина и был изгнан из страны.
На этом берегу сошло на воду первое судно, построенное на Адмиралтейской верфи, хотя всего за пару лет до этого ничто не предвещало появления гиганта-города, выросшего на болотах.
От верфи к променаду
Спуск судна был для горожан целым шоу, поэтому многие приходили на противоположный берег «поглазеть» на чудо. Некоторые горожане понастырнее приплывали на лодках, но должны были соблюдать дистанцию, чтобы не попасться речной полиции. Помимо интереса технического, можно было на спуске судна и подзаработать: самые больше хитрецы собирали оставшиеся на воде комки животного сала, которыми в те годы смазывались спускные салазки корабля, и потом продавали той же верфи. Преодолев этот участок, который прозвали «речными воротами», корабли из верфи отправлялись по Большой Неве. Кроме склада материалов для строительства судов, здесь особо ничего не было. Сто лет спустя набережная была уже промышленным центром, достаточно сильно выделяющимся из общей парадной красоты города. Некоторые горожане мечтали ее преобразить, как мы бы сейчас сказали, ревитализировать. Одним из таких урбанистов был молодой и амбициозный Карл Росси. Он мыслил очень новаторски: построить 10 арок высотой 25 метров, а сверху арок разместить новую набережную. Комиссия не оценила буйство фантазий Карла Росси, проект его так и остался на бумаге. И только в 1870-х наконец-то было решено: набережная должна радовать горожан.
«Безобразная часть Адмиралтейства, выходящая на Неву, наконец примет тот вид, который так давно желателен всем жителям Петербурга… Вдоль реки будет устроена гранитная набережная, около нее – небольшая аллея в виде бульвара, затем широкая улица, а далее – отведено место для будущих палаццо Северной Пальмиры»
Из журнала «Зодчий»
Появились причалы, деревья и газоны. Внутри адмиралтейства стали распродаваться участки, но вот незадача, никто не хотел их выкупать! Оказалось, существовали «эскизы для постройки домов», шаблоны фасадов зданий, регламентировали декор. Это не сильно нравилось частным богатым заказчикам, которые, наоборот, не хотели иметь похожие дома. Пришлось это правило отменить, оставив лишь регламент высотности до 23 метров.
«На набережной выросли скучные или безобразные громады, закрывшие совершенно Адмиралтейскую башню со стороны Невы»
Н. Е. Лансере, архитектор
Как видно из этой цитаты, башня уже была знаковой для города, от нее по плану застройки города расходились главные магистрали, знаменитое трехлучие.
Капсула времени и тайна шпиля
Шпиль, который Пушкин прозвал «Адмиралтейской иглой», со сверкающим на макушке корабликом, стал историческим символом Петербурга, на его золочение ушло почти 18 килограммов золота! По легенде считается, что это были дукаты, полученные Петром I, – не позавидуешь тем, кому пришлось это добро тащить на огромную высоту. Под корабликом можно заметить золотой шар, и он, прямо как в сказке Пушкина, не простой, а с сюрпризом. Туда как-то раз спрятали послание в будущее – газеты, датирующиеся 1886 годом, а позже советские граждане решили к ним добавить и ленинградские газеты, в 1977 году снова вернулись с обновлениями, в шар доложили Проект Конституции СССР и очередную подборку газет, видимо, для поддержания актуальности послания. Получается, этот шар стал настоящей «капсулой времени». Адмиралтейство было одним из первых зданий города, первую его версию строили по чертежам, на которых стоит подпись самого Петра I. В его проекте ров разделял два корпуса, в одном работали морское и речное ведомства, а во втором – мастеровые. Считается, что император сам работал на стройке лично, весь в пыли и стружке, обливаясь потом, ожидая скорого нападения шведов. Нынешняя версия здания, строгая и классическая, спроектирована архитектором Андреяном Захаровым, автором Нижегородской ярмарки.
Помимо талисмана-кораблика, на башне Адмиралтейства есть и другие символы-хранители: всего 28 скульптур. Авторы не скупились на фигуры «стражников» города, которые должны были стать символами успеха морской державы: с погодой помогут времена года, с налаживанием контактов и успехом в других начинаниях – четыре стороны света, а также аллегории огня, воды, земли, воздуха. В науке поспособствует богиня Урания – муза астрономии, в технике – Изида, покровительница корабельщиков.
Фарс, шансонетки и скабрезные шуточки
На короткой Адмиралтейской набережной всего 6 домов, поэтому мы остановимся у некоторых из них. Дом № 4 прославился как Панаевский театр.
Забавно, что владелец постройки, инженер-путеец Панаев, успел разориться до окончания строительства, но его имя все равно вошло в историю.
Хозяева умели завлекать публику: здесь ставили фарс, самый популярный жанр начала XX века. Его можно описать как легкую комическую постановку повседневного бытового характера, но нередко достаточно скабрезную для привлечения массовой аудитории.
Актрисы в таком жанре выходили на сцену в очень глубоких декольте, на что активно шел посмотреть зритель.
«Новые злободневные куплеты! Новые модные танцы! Новые модные шансонетки!» – так выглядела, например, реклама «Невского фарса». Комедии про мужей-рогоносцев, канкан, шутки про политику – все вперемешку.
Ходили на фарсы прежде всего обыватели среднего достатка. Главная приманка – актрисы, которые иногда появлялись затянутыми лишь в трико или в полупрозрачных покрывалах.
Дискуссия о наготе на сцене стала одной из самых популярных дореволюционных светских тем: считать ли это недопустимым позором или, наоборот, развитием сценического искусства? Вышел даже сборник эссе «Нагота на сцене», где будущий нарком просвещения Луначарский провозглашал: «Борьба за наготу есть борьба за красоту, здоровье и свободу». Судьба театра оказалась незавидной: он сгорел в 1917 году, как злословили современники, из-за того, что беднеющий Панаев строил его из мусора.
Приличный дом
Рядом с этим привлекательным для обывателей заведением по улице соседствовал дом № 8, построенный для великого князя Михаила Михайловича архитектором Месмахером. Его история – удивительна. Миш-Миш Романов, как князя называли в семье, начал строить себе, как он сам говорил, «приличный дом», потому как была у него мечта: поскорее жениться и обзавестись семьей. Глаз на хороших невест у двадцатилетнего юнца был еще не наметан, и даму он выбрал совсем неподходящую.
«Кроме неравенства в этом браке пугает сближение с семейством, состоящим из завзятых интриганов… Государь, отказав наотрез в разрешении на подобный брак, назвал Михаила Михайловича дураком, сколько я могу догадаться, потому что он, не спросив родителей, обещал гр. Игнатьевой на ней жениться. Михаила Михайловича посылают за границу»
А. А. Половцев, статс-секретарь
В путешествии Миш-Миш надежды на свадьбу не терял, если не на одной красавице, то хотя бы на другой. Уже спустя пару месяцев появилась новая избранница: князь влюбился в Софью Маренберг, внучку Пушкина, и женился на ней, опять никого не спросив. Брак в семье не признавали, въезд в Россию князю запретили, лишили всех регалий, и они с любимой уехали в Англию. Там, совсем не бедствуя, снимали домик в Лондоне да еще и дачу в Каннах в придачу. Сам князь в Россию наведывался редко, уже когда его восстановили в должностях при Николае II. Он предпочитал проводить время в делах культурных, например устроил благотворительные концерты «Русского балета» Сергея Дягилева в Париже и Лондоне. Роскошный дворец в Петербурге остался одиноко ждать своего хозяина, а стройка затянулась на семь лет, что, конечно, не очень отразилось на доходах архитектора Месмахера. Проект он, несмотря на долг, не бросил, а создал один из красивейших интерьеров Петербурга с мраморными каминами, парадной лестницей и шикарными залами. Дворец строили, как полагается, по последнему слову техники. В нем были водопровод, канализация, подъемные машины. Перед дворцом был уложен асфальт. Жаль, конечно, что Миш-Миш эти старания так и не оценил по достоинству.
Загородный проспект
• Где в Петербурге появился один из первых автосалонов.
• На каком вокзале за бокалом вина или чашкой кофе можно было встретить Гумилёва или художника Судейкина.
• Какие рестораны в городе работали до трех ночи.
Название «Загородный проспект» вызывает ощущение приближения дачного сезона, поездок за грибами, на речку, костров и всяческих подобных забав.
Сады и огороды
Назвали эту улицу так по указу императрицы Анны Иоанновны – Большая Загородная улица. И не потому что она ездила на дачу; все гораздо проще, улица пролегала в те времена за городом. Место, которое сейчас мы прозвали «Пять углов», и его окрестности раньше очень нравились для жизни купцам. Цена ниже, чем у Гостиного двора, можно высадить огород, закрывать свои овощи и фрукты на зиму и жить неспешной жизнью вдали от суеты. Любили здесь, на краю города, принимать гостей и устраивать салоны дворянские семьи: в доме № 1 к поэту Антону Дельвигу сюда заглядывали на литературные встречи Пушкин, Жуковский, Плетнев, Одоевский.
«Купцов с бородами, особенно богатых, в Петербурге очень мало, и они кажутся решительными колонистами в этом оевропеившемся городе, они даже выбрали особенные улицы своим исключительным местом жительства: это Троицкий переулок, улицы, сопредельные Пяти углам».
В. Г. Белинский
Конец провинциальным замашкам
Какой купец без лавки – верно? Обживая местные земли, купцы еще и вкладывались в доходные дома, на первых этажах размещая свои лавки и мастерские. И жизнь лилась бы как песня – но и этой чудесной провинциальной сказке пришел конец, когда в 1848 году запретили строить деревянные дома. Купцы считали, что в дереве здоровый дух, да и обогревать и содержать такой дом было легче. Поэтому вместо садов и огородов стали расти как грибы огромные доходники.
Один из них – дом-утюг, что на площади Пяти углов, которой, кстати, официально не существует на карте.
Но эту точку, на пересечении проспекта Загородного и трех улиц – Разъезжей, Ломоносова и Рубинштейна, местные отметили еще давно, например, ее описал Фёдор Достоевский в романе «Идиот». В его время вместо дома с башней на площади стоял особняк купцов Лапиных, где можно было купить хлеб и сбитень. Отведав медового напитка и утирая усы, случайно столкнуться в дверях с Николаем Некрасовым, который преподавал здесь арифметику, историю и правописание в пансионе Бенецкого для мальчиков и описал здание в произведениях «Великодушный поступок» и «Федя и Володя».
Примечательная башенка художника на доме появилась благодаря купцу Шнеер-Залману Иофу, владельцу аукционного дома и торговцу антиквариатом. Его друг, архитектор Александр Лишневский, знал: чтобы дом был коммерчески успешен для сдачи, нужно привлечь к нему внимание, а в этом деле он был специалист. Огромные витрины для магазинов он разместил на первом и втором этажах, дальше посадил на фасад 40 фигур, каменных гигантов, а сверху поставил двухъярусную башню.
Вскоре просторные торговые помещения снизу были отданы автосалону «Шапиро» – одному из первых в столице. Тогда автомобилистов было не так много: по статистике, в 1912 году в России было продано более трех тысяч автомобилей, но регистрация их была хаотична, отследить точное количество очень сложно. Популярными стали автогонки, где собирались самые бесстрашные и неугомонные водители. Гоняли по маршруту Москва – Петербург, показывая иностранцам, что и по русским дорогам можно «развивать скорость свыше 100 км в час». Были и гонки по кругу, похожие на мини-ралли, там победителем с результатом 143 км/час стал Г. М. Суворин на «Бенце».
Вернемся к нашей башне, где рядом с автосалоном были другие заведения, тоже из разряда люкс: торговали, например, дорогими колониальными товарами (мехами, обувью и прочим). А в 1915 году здесь открыли огромный кинотеатр на 300 персон.
Среди известных людей в доме снимали квартиры астрофизик Матвей Бронштейн и его жена Лидия Чуковская, дочь знаменитого писателя. Во время репрессий Матвея Петровича арестовали и отправили в лагерь на десять лет. Позже стало известно, что его расстреляли. Чуковская продолжила жить в этом доме, а ее частой гостьей была Анна Ахматова, с которой их объединило общее горе.
На вокзал, как в театр
Уехать на дачу с Загородного проспекта можно было запросто – здесь в 1837 году построили первый в Российской империи вокзал. Задача была важная: соединить Петербург и Царское Село, и среди первых пассажиров, помимо самого инженера профессора фон Герстнера, управлявшего паровозом, был император Николай I. Станция, правда, тогда совсем не соответствовала императорскому размаху – это был обычный деревянный домишко, а весь путь до конечной остановки занял 35 минут.
Воздушное, ажурное здание с металлическим дебаркадером, как на картинах Моне, появилось позже – в 1904 году. Старичок-вокзал тогда перестраивался в стиле модерн как «ворота в город», он должен был продемонстрировать, как развита страна, стать ее лицом. Поэтому среди технических новинок были лифты для багажа и пассажиров, разнообразные транспортеры и электричество. Интерьеры могли дать фору какому-нибудь дворцу: лепнина, мрамор, цветные стекла, фонари, канделябры…
Еще одна необычная деталь вокзала – это его перроны. Они расположены на втором этаже, над Обводным каналом, который решили в то время не засыпать и не перекрывать мощный транспортный поток. Пассажиры прошлых веков на вокзале не только пробегали к поездам, сюда заходили и отведать вкуснейших блюд. Не в стиле фастфуд, как это теперь бывает на вокзалах, а чинно посидеть за столиком и обсудить с друзьями актуальные темы. Поэтому многие горожане специально приезжали на вокзалы пообедать, даже если не хотели никуда уезжать; кормили вкусно и обильно. Местные рестораны разных классов «гремели» своей популярностью.
Их интерьеры поражали своей элегантностью: архитектор С. А. Бржозовский создал витиеватый сад из заплетенных деревянных цветов, кованых оград и чарующих порталов. О кухне отзывались отлично, здесь за столиками можно было встретить за бокалом вина или чашкой кофе Гумилёва или художника Судейкина. Но вскоре ресторан испортился, кухня оставляла желать лучшего. Появилась даже забавная история про повод для разрыва между двумя поэтическими направлениями: символистами и акмеистами.
Однажды во время очередной поэтической тусовки поэт Северянин прочел «И, пожалуйста, в соус // Положите анчоус». Николай Гумилёв решил уточнить, где поэт добыл такой оригинальный рецепт. «В буфете Царскосельского вокзала», – выдумал Северянин. Гумилёв, знаток придорожных кафе и ресторанов, сразу почуял неладное. «Неужели? А мы там часто под утро едим яичницу из обрезков – коронное их блюдо. Завтра же закажу ваш соус!» – съехидничал Гумилёв. Так случилась поэтическая и кулинарная драма.
Тот самый буфет сохранился до наших дней, в бывшем зале 1-го класса уцелела даже оригинальная буфетная стойка.
Кстати, разделение на классы было для Царскосельского вокзала обычной практикой. Люд победнее входил в отдельный вход, разные классы ожидали поезда в отдельных помещениях, даже вагоны были разного цвета. Чем ниже класс – тем хуже условия, жесткие лавки, накурено, толпы людей. Вагоны 1-го класса были синие, 2-го – желтые, 3-го – зеленые. Перед отправлением давали три звонка: первый за 15 минут, второй – за 5, сразу за третьим поезд трогался. Поезда делали по 30–40 км/час, подолгу стояли на станциях, опаздывали. «Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели; молчали желтые и синие; в зеленых плакали и пели». Это – строки стихотворения «На железной дороге» Александра Блока, который испытал железнодорожную романтику и однажды записал в дневнике: «Вчера в сумерках ночи под дождем на Приморском вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами. Страшный мир. Но быть с тобой странно и сладко».
С тех пор вокзал почти не изменился, однажды он стал Детскосельским, тогда Царское Село по иронии судьбы переименовали в Детское. А в 1935 году его назвали в честь города Витебска, куда ведет эта железная дорога.
Витебский вокзал очень полюбился киношникам за аутенчичную архитектуру и легкую туманную дымку, стоящую на перроне. Здесь снимали «Вокзал для двоих», «Статского советника», «Идиота», «Гибель империи», «Анну Каренину». Сегодня с Витебского вокзала можно уехать в Минск или Калининград. Но нам сперва нужно закончить нашу прогулку по Петербургу, так что не торопитесь.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе