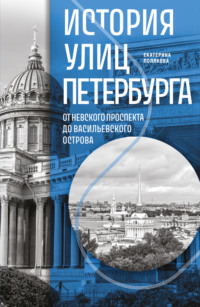Читать книгу: «История улиц Петербурга. От Невского проспекта до Васильевского острова», страница 3
Зоосад
Зоосад, в отличие от скейтинг-ринков, публику манил всеми возможными способами – но безуспешно, популярность ему только снилась. Его хозяева Софья и Юлиус Гебгардт едва сводили концы с концами и даже получили право в течение 20 лет не платить городу аренду. Они превратили его в место увеселения с концертным залом, театром и рестораном, которые позволили зоосаду получать прибыль и приобретать новые виды животных, число которых дошло до 200. Главными любимицами зоосада стали слонихи Бетти и Жолли (Бетти проживет долгую жизнь и погибнет в годы блокады). Кроме того, здесь организовывали катания детей на пони и осликах, работали торговые киоски, три театра, где ставили главным образом оперетту, открытая эстрада, карусель, тир и ресторан. Афиши рекламировали представления человека-рыбы, гимнастов и эквилибристов.
А в конце 1880-х вошли в моду «этнографические выставки», вместе с животными стали показывать… людей. Сейчас нам такая идея кажется унизительной, но тогда публика желала видеть «дикарей» из далеких племен, порой с расистскими подтекстами. В Париже, Лондоне и других крупных городах практиковали колониальные турне, перевозя целые деревни с детьми, животными и предметами быта. Зачастую назад в свои края они уже не возвращались… На первом представлении в Петербурге показали племя зулусов, затем нубийцев, обнаженных амазонок. Такие сады очень запомнились 11-летнему Пастернаку, который потом писал, что испытал в тот момент «первое ощущенье женщины». Интерес к бушменам, кафрам и сенегальцам был огромен: зоосад посещали до 20 тысяч человек в день.
«28 сентября посетил зоосад в Санкт-Петербурге. Зашел посмотреть дикарей – дагомейцев. Сперва проделывают военные эволюции под убийственную игру собственных музыкантов, которые трещали немилосердно руками по барабанам. Дикари небольшого роста, все части тела, кроме ног, закрыты, да иначе и невозможно при нашей сентябрьской погоде. Рев и барабанный бой заставил даже некоторых уйти раньше окончания представления. Затем дагомейцы неистово плясали на коньках с колесиками. Грохот невообразимый!»
А. И. Коноров
Интересно, что с «этносами» заключался контракт, который предусматривал зарплату, одежду, питание и даже социальные гарантии – лечение и пенсию на возвращение домой. К сожалению, так было не во всех этнодеревнях, кое-где людей держали за заборами и не давали выходить в город в свободное время. Поэтому «человеческие зоопарки» считаются позорным пятном в истории колонизации. Последняя такая выставка прошла совсем недавно, в 1958 году в Бельгии.
Заячий остров и Петропавловская крепость
• Были ли зайцы на Заячьем острове.
• Как на воротах Петропавловской крепости оказалось изображение шведского короля.
• Где, забытая всеми, тонула знаменитая княжна Тараканова.
С Петропавловской крепости начался Петербург. Возраст города поребриков отсчитывают со дня, когда Пётр I заложил эту крепость в 1703 году. Сюда перенесли столицу, построили шикарные дворцы, а земля эта почти двадцать лет была фактически на вражеской территории. Только в 1721 году после подписания Ништадтского мира Петербург официально стал российской землей. Поэтому защищать город нужно было очень серьезно, в любой момент могли напасть шведы. Пётр задумал идеальный форт. По проекту императора он занял весь Заячий остров, и высадиться к его стенам было почти невозможно. А зайцы тут при чем? Да в целом ни при чем. Просто когда переводили финское название Яниссаари на русский – пропустили букву А, и остров Иоанна на русском превратился в Заячий.
С сооружением крепостей связан и первый житель будущих земель Петербурга. Историки считают, что им был шведский воевода Стен. Он упоминается еще в Новгородской летописи, и в шведской «Хронике Эрика», написанной неизвестным автором в 1320‐е годы, тоже есть упоминание о Стене.
Крепость достроили и укрепили.
Надолго запасами воинов снабдили.
Пора благородному войску домой.
Оставлен известный отвагой большой
Начальником рыцарь по имени Стен.
Новгородцы в итоге этот форт разрушили, шведы поставили здесь новую крепость Ниеншанц, вокруг которой возник город Ниен. А потом уже царь Пётр Алексеевич захватил и Ниен, и Ниеншанц, находившиеся на Охтинском мысу, и недалеко от этого места возвел новую крепость и новый город под названием Санкт-Петербург.
Почему Пётр выбрал именно Заячий остров для своего форта? Дело в том, что отсюда очень хорошо прослеживается передвижение кораблей по Неве, можно почти в упор стрелять из орудий и контролировать навигацию. Царь, как считается, сам придумал план крепости, а проект для него чертил архитектор Жозеф Гаспар Ламбер де Герен, предложивший форму шестиконечной звезды, каждый луч которой оканчивался бастионом. Назвать их решили именами сподвижников царя, а один – «Государев». Уже в апреле 1704 года крепость была построена, но это была деревянная версия, каменную создавали на ее основе еще 30 лет. Сегодня мы видим крепость времен Екатерины II, от Петровского форта остались только форма и напоминание об императоре в виде длинноногого памятника Шемякина, а еще – единственная дошедшая до нас с тех лет триумфальная арка в Петербурге, барочные Петровские ворота по проекту Доменико Трезини. В них – множество символов, говорящих о могуществе морской державы. В нишах ворот стоят две фигуры одной и той же богини, Афины, работы французского скульптора Пино. Но она представлена в разных своих образах: со змеей и зеркалом – олицетворение благоразумия и покровительницы мирных городов Афина Полиада, а справа, в воинских доспехах, – храбрости и силы.
На фронтоне над российским гербом – аллегорическое панно «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром». В нем современники Петра I видели скрытые отсылки к политике: в фигуре волхва прослеживается портретное сходство с Карлом XII. Это – аллегория победы Петра I над шведским королем.
Легенда гласит, что волхв, то есть колдун, Симон объявил, что сам сможет взлететь на небо. Он, воспользовавшись черной магией и помощью нечистой силы, поднялся к облакам и возомнил себя повелителем мира. Но апостол Пётр разогнал демонов и низверг самозванца.
Пройдя через арку и попав во двор крепости, можно разглядеть Инженерный дом – в нем располагалась чертежная мастерская и цейхгауз, где базировались мастера по ремонтным работам крепости. За ним чуть подальше – Петропавловский собор – усыпальница русских императоров и самое высокое здание центра города. Строился собор по проекту Трезини, как считается, в стилистике римских барочных церквей и лютеранских храмов Прибалтики. Храм заложили одновременно с крепостью, сначала в дереве, а с 1712 года – в камне. Пётр I хотел покончить с привязанностью к Москве – перенес династическую усыпальницу коронованных особ из Архангельского собора Московского Кремля сюда. Здесь захоронены все российские цари, кроме Петра II и Иоанна IV. Некоторые могилы даже обросли легендами и преданиями: например, что если прислониться к крышке саркофага Павла I щекой, то пройдет зубная боль. Захоронения в усыпальнице продолжаются и в современности. Одно из недавних – трагически убитых членов семьи Николая II, останки которых перевезли из Екатеринбурга в 1998-м.
Внутри собор не поражал роскошью отделки – кирпичные части стен расписали под мрамор. Но зато как роскошен 20-метровый позолоченный иконостас, который доходит до самого подкупольного пространства! В иконостасе – иконы московской школы, а место около него во время служб занимала императорская семья.
Флюгер в виде трубящего ангела на шпиле колокольни заслуживает отдельного внимания: однажды в него ударила молния и шпиль накренился. Здание спас первый «промышленный альпинист», кровельщик Пётр Телушкин. Этот смельчак из Ярославля взобрался на шпиль по веревке, не используя леса, чтобы починить крест и ангела, и так поразил своей отвагой Николая I, что, по легенде, тот наградил его возможностью пить в любом трактире Российской империи за счет государственной казны. Нынешний флюгер – четвертый по счету. Второго ужасно попортил ветер во время сильной бури, а третьего ангела сняли во время реконструкции. В соборе также есть один удивительный механизм – карильон, редкий инструмент из 51 колокола, его реконструировали в 2001 году и проводят концерты карильонной музыки. Возле собора стоит очень важное для истории Петербурга здание – Монетный двор. Здесь еще при Павле I стали чеканить первые монеты, и делают это до сих пор! Напротив выхода из собора – невероятной красоты кованая решетка – она многим знакома, ведь это уменьшенная копия знаменитой решетки Летнего сада. Из других артефактов в Петропавловской крепости привлекает внимание копия деревянного ботика Петра I, которого ласково зовут «дедушкой Русского флота», а для его хранения был выстроен Ботный дом. В юности царь обнаружил в дедовском сарае в Измайлове корабль, на котором можно было ходить против ветра – и приказал его привести в порядок. Так началась история потешной флотилии: ходя на старом ботике по Яузе, Пётр изучал основы морского дела. Уже после заключения мира со Швецией ботику выпала честь пройти перед строем победоносных русских кораблей. На руле тогда был вице-адмирал Пётр Михайлов, то есть сам Пётр I. В августе 1723 года во время смотра Балтийского флота Пётр I сказал о нем: «Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют!»
Те, у кого получилось не увидеть в Питере Петропавловку – наверняка ее слышали. В полдень тут стреляют из пушек. Обычно из одной. А в особенные дни и с особенными гостями разрешают сразу из двух. Обычно так развлекаются по сигналу точного времени сотрудники музея города, а иногда – отличившиеся студенты. Первый пушечный выстрел прозвучал в цитадели почти сразу после постройки – в момент поднятия флага. Стреляла пушка, оповещая горожан о начале и окончании рабочего дня или опасном подъеме воды на Неве.
Наводнения постоянно нарушали покой петербуржцев, и Петропавловская крепость хранит воспоминания об этом: в углублении ворот есть отметки уровня воды при крупнейших наводнениях, а город их пережил более трех сотен. Первое произошло уже летом 1703 года. Вода поднялась на 2,5 метра, затопила строящуюся крепость и заготовки материалов для строительства.
«У меня в хоромах было сверх полу 21 дюйм, а по городу и на другой стороне свободно ездили на лодках… И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время всемирного потопа, сидели, не только мужики, но и бабы».
Пётр I (1706 год)
После катастрофического наводнения, когда вода поднялась более чем на три метра, Екатерина II издала «Указ об учреждении специальных знаков и сигналов». Он гласил, что «Когда вода возвышается в большой Неве до такой высоты, что оною поемлются берега реки в Коломне, то тогда производятся там З пушечные выстрела, повторяемые при постепенном оной возвышении. Сколь же скоро вода начинает наводнять город, то с Адмиралтейской крепости палят из 5 пушек и во время дня в Адмиралтейской башне по четырем углам галереи поставляются 4 белые флага, а ночью 4 фонаря; также и возвращается приумножающаяся опасность беспрестанным тихим колокольным звоном. В наиопаснейших местах всегда в готовности имеются суда для спасения людей в случае нужды».
Так что прислушивались к пушечным залпам все горожане, это было важно для жизни. А с 1865 года один залп возвещает о наступлении полудня, причем точность измерения отслеживалась тогда часами Пулковской обсерватории.
Крепость никогда не участвовала в боях. Так что, чтобы не простаивали эти пространства – в ней с XVIII века организовали политическую тюрьму, «русскую Бастилию».
Здесь размещались органы политического розыска: Тайная канцелярия, позднее – Тайная экспедиция. По традиции через эту тюрьму прошли интереснейшие люди страны. Царевич Алексей, автор путешествия из Петербурга в Москву Радищев, туча декабристов, Достоевский, Горький. Здесь томилась загадочная княжна Тараканова, знаменитая самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Григорьевича Разумовского. Городские легенды гласят, что княжну специально забыли в камере во время наводнения 1777 года, и она утонула. Вспомним сюжет драматичной картины Константина Флавицкого, за которую он получил звание профессора исторической живописи. Хотя историки считают, что на самом деле несчастная женщина скончалась от чахотки за два года до наводнения.
Каменный остров
• Почему дореволюционный дачник это – «раб, курицын сын и мочалка».
• Зачем бежали летом из города на дачи.
• Как Шерлок Холмс связан с дачами на Каменном острове.
Каменный остров с его старинными дачами, зелеными улочками, щипцовыми крышами – как будто вовсе и не в городе находится, а где-то в альпийской деревушке. Это место давно ассоциируется у местных с загородным отдыхом, летними развлечениями благородной публики. «Гости съезжались на дачу», – писал Пушкин в наброске к неоконченной повести. Вскоре дачный бум захватил умы и сердца петербуржцев всех сословий. Уехать на каникулы из Петербурга тогда, как и сейчас, было делом обязательным. В городе – шум, вечные стройки, пыль, аллергия, жара. Нет, гораздо приятнее, считали петербуржцы, проводить летнюю жизнь вне города, ходить на концерты, танцы.
Самые престижные дачи были здесь, на Каменном острове; немцы предпочитали Крестовский; дешевые дачи можно было найти у Новой и Старой Деревни. Были те, кто уезжал подальше, в основном это модные адвокаты, врачи и художественная интеллигенция. Они предпочитали ближнюю Финляндию: кажется, будто отдыхаешь в Европе, можно было по работе возвращаться в город, и такая дачная жизнь, в отличие от строительства своего жилья, не требовала катастрофических трат. Но, увы, для большинства петербуржцев и такой вариант был неподъемным. Для мелких чиновников или конторщиков, учителей был один выход – «интеллигентный пролетариат» снимал крестьянские избы с запахами навоза, сквозняками и пылью или сарайчики, строили которые только для сдачи в летний сезон около железнодорожных станций. На работу «дачные мужья» ездили в переполненных поездах, в духоте, потея.
«Выходишь из присутствия разбитый, измочаленный; тут бы обедать идти и спать завалиться, ан нет, помни, что ты дачник, то есть раб, дрянь, мочалка, сосулька, и изволь, как курицын сын, сейчас же бежать исполнять поручения. На наших дачах установился милый обычай: если дачник едет в город, то, не говоря уж о его супруге, всякая дачная мразь имеет власть и право навязать ему тьму поручений».
Из произведения А. П. Чехова «Трагик поневоле»
Но этим страдания не ограничивались: когда навьюченный «дачный муж» наконец вываливался из вагона и мечтал поскорее выпить, закусить и прилечь, выяснялось, что домочадцы намерены полным составом идти на танцы или в любительский театр. А ведь донимают еще и комары – «казнь египетская, инквизиция»! А утром снова на работу…
Но жить в городе летом тоже никто не хотел, и были на то причины.
Воздух был так задымлен, что, как писал Князев, один летчик, покруживший над городом, рассказывал: «Петрограда вы не видите. Там, где он должен быть, большое темно-серое, почти черное пятно». Шум и давка на улицах делались невыносимыми. По набережным было не пройти из-за причалов со снующими туда-сюда грузчиками.
Здесь, на Каменном острове, была своя, другая жизнь, далекая от суеты. Остров оброс своими легендами и волшебной романтикой. На старинных шведских и финских картах он обозначался под именем Кивисаари, что в переводе с финского и означает «Каменный». Существует предание, что около острова находился огромный валун, который был виден издалека в невских водах. Эта легенда вполне может быть правдой, в этом районе и на всей территории около Большой Невки оставалось множество камней, результат хода древнего ледника. В народе остров получил еще одно неофициальное название: «Каменный нос». Возможно, из-за восточного мыса, который напоминает нос по своей форме.
Впервые эти земли обжил в 1713 году канцлер при дворе Петра I – его звали Гавриил Головкин, и он себе выстроил на острове особняк. По легенде, помимо острова, царь пожаловал вельможе дуб, который высадил у его особняка собственными руками. Дуб простоял до наших дней, но постепенно превратился в гнилой пень, поэтому в дни 300-летия Петербурга вместо него высадили новый, как считается, с хорошей родословной. Преемник выращен из дуба из Екатерининского парка Царского Села, дошедшего с петровских времен.
Одна из важных построек острова – Каменноостровский дворец. Его скорее всего заказала у архитектора Фельдена для наследника Павла Петровича сама императрица Екатерина II. Но отношения между ними были напряженные, и Павел жить там не захотел, зато резиденция понравилась любимому внуку, будущему императору Александру I. Он любил прогуливаться в дворцовой оранжерее. По легенде, императора поразила красота лимонного дерева, на котором вот-вот должен был созреть плод. «Александр тут же поручил установить у дерева караульный пост, чтобы, когда лимон окончательно созреет, ему тут же доложили об этом. Бедные солдаты, борясь с неодолимым сном, днем и ночью вглядывались в лимон, боясь прозевать ответственнейший момент. Но однажды молоденький караульный солдат все-таки задремал и очнулся, услышав, как что-то упало на землю. Это был созревший лимон. Очумев одновременно и от страха, и от радости, караульный схватил лимон и бросился в покои императора с криком: «Созрел! Созрел!» – «Что, голубчик, с тобой? Пожар, что ли?» – остановил его царь, успевший уже забыть о своем распоряжении. «Лимон созрел, ваше величество!» Император все вспомнил, рассказывает легенда, поблагодарил солдата и присвоил ему чин «лимонного лейтенанта».
В XIX веке наступили лучшие времена в жизни острова – здесь проходили шикарнейшие вечеринки, построили Летний театр, в котором выступали артисты лучших трупп города. Сюда любил наведываться Николай I со своей свитой. Среди обитателей суперэлитного дачного поселка были важные бизнесмены – от купца Елисеева до ученого Бехтерева, основателя Харбина, инженера Свиягина. В этот момент строятся сказочные дачи – романтичные, нарядные, пряничные. Каждый архитектор показывает здесь свои стилевые пристрастия.
Один из ярчайших образцов дачной архитектуры – творение в стиле модерн архитектора Мельцера, дом на Полевой аллее, известный как «Дом-сказка». Архитектор его строил для самого себя, поэтому мог пуститься во все тяжкие и экспериментировать сколько душе угодно. Он вдохновлялся фольклором и народными мотивами. Броская деталь – языческий символ солнца над входом, ему вторят деревянный сруб и высокая черепичная крыша – получилась настоящая сказочная избушка. На углу – «светелка», а напротив загадочная гладь пруда. Мельцер экспериментировал с разными материалами, сочетая разнообразные породы камня и бревенчатую поверхность.
Следующий дом, о котором точно стоит рассказать, – дача с круглой башенкой, владела которой супружеская пара Гаусвальд, а хозяин был известным петербургским булочником. Вкусные завтраки в этом доме, видимо, были гарантированы. Такое же «вкусное» архитектурное решение со смелыми линиями и формами стиля модерн пара выбирает и для своего особняка. Напоминает он и английские коттеджи, и многие читатели наверняка вспомнят облик этой дачи по фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Здесь у прекрасной Ирэн Адлер должен был выкрасть фотографию Шерлок Холмс. Также дом снимался в фильмах «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь». В цокольном этаже особняка «визитная карточка» домов на Каменном острове – бутовая плита (такой камень получают из известняков и песчаников).
Среди особняков Каменного острова выделяется еще один – дом Фолленвейдера, известного портного. В народе за форму его крыши особняк прозвали «Сахарная голова». Сегодня мы не понимаем такой отсылки, потому что не покупаем, как делали это до революции, кусковой сахар конической формы. А в те времена он был почти в каждом доме. Сказочный замок построил архитектор, с творчеством которого мы уже знакомы по его личному особняку, – Мельцер.
В 1918 году, когда особняки на Каменном острове национализировали, в них поселились беспризорники из Детской колонии имени Луначарского. Несмотря на недолговременность этого заведения, в народе остров стали называть Детским.
«…Высота окна в столовой была в два этажа, внутренняя рама которого отделана разноцветными стеклышками, изображавшими цветы с зелеными листочками в свинцовой тонкой окантовке. Конечно, эти красивые стекла не давали покоя детским рукам. Они выковыривались из свинцовой окантовки. Свинец шел на грузила к удочкам, а красивые круглые, разного цвета толстые стеклышки находили применение в какой-нибудь игре или на что-то обменивались…»
Н. А. Бейнар
Но уже в 1920 году остров решили приспособить под дома отдыха для рабочих, военные санатории – эта местность стала снова престижной, и так началась новая веха в истории Каменного острова.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе