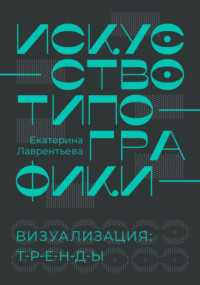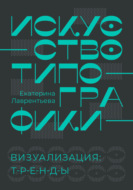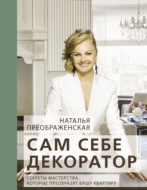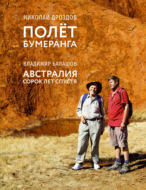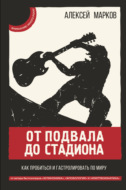Читать книгу: «Искусство типографики. Визуализация: тренды», страница 3
Графический фольклор и городской текст
В русской культуре живописная вывеска всегда была не только утилитарным объектом, но и предметом искусства. Натюрморты из фруктов и овощей, сельские сценки на птичьем дворе, «портреты» коров и быков с точной имитацией определенных пород, пирамиды из хлеба и сыра, готовые платья – благодаря достоверности и качеству прорисовки они могли бы стать энциклопедическими иллюстрациями. И точно так же авторы вывесок относились к шрифтовым надписям – названиям лавок и перечню товаров, которые можно было в них приобрести. В масляной технике выписывались любые, даже сложные, «объемные» гарнитуры, появившиеся в типографиях в середине XIX века. Тосканский, гротеск, английский – вот несколько наиболее часто встречающихся на вывесках шрифтов, названия которых упоминаются в книге образцов словолитни Ревильона в Петербурге (1841). Для вывесок как инструмента рекламы требовались броские, «яркие» шрифты с неожиданным, «богатым» рисунком, большинство из которых появилось в Англии и Америке в эпоху промышленного бума. В России подобные шрифты вначале использовались в оформлении книжных титулов – под влиянием эклектики. «Гармонически уравновешенная архитектоническая система построения книги, основы которой были сформированы еще в XVI веке, переживает кризис, распадается вместе с ордерной системой в архитектуре, с изменениями в прикладных искусствах, в организации жилища и быта»23. Художник, рисовавший вывеску, не придумывал заново облик шрифта, а копировал его с типографских образцов.

Городской фольклор. Москва. 2001–2006

Борис Трофимов
«40». Дизайн-акция, посвященная 40-летию Юрия Гулитова
Дома на улицах Москвы и Петербурга на фотографиях 1890–1900 годов напоминают гигантские картонные упаковки, почти полностью обклеенные этикетками. Архитектура отходила на второй план, владельцы магазина старались использовать для рекламы каждый сантиметр фасада. К рекламе относились по-разному: молодой журналист-англоман Корней Чуковский называл ее «живописью, которая обращается к миллионам»24. Противоположная точка зрения: архитекторы Е. Е. Баумгартен и Л. А. Ильин свое выступление на IV Съезде архитекторов озаглавили «Вандализм рекламы»25. Но, так или иначе, обилие «потребительской литературы» было отличительной чертой города, которую художники вводили в свои произведения уже как символ.
Сегодня объектом вдохновения для дизайнера чаще всего становится «народная», рукописная вывеска, возникающая стихийно и не имеющая ни литературных, ни шрифтовых ограничений. Юрий Гулитов в 1990-е годы собрал коллекцию настенных надписей в Севастополе и на их основе спроектировал несколько шрифтов, которые представил на дипломной работе в Харьковском художественно-промышленном институте. Один из шрифтов имитировал быстрое письмо: «Условия народной типографики задают скорость: нужно успеть быстро, чтобы никто не увидел». После окончания института у Гулитова появилась гарнитура «Уличная», собранная по буквам из реальных надписей. Буквы отбирались самые нестандартные: «Д без соединительного штриха внизу, Е с четырьмя горизонтальными элементами, О с внутренней точкой» – такими они и вошли в алфавит. Используя свой «уличный» набор шрифтов, Юрий Гулитов проектирует плакаты, логотипы, оформляет печатные издания. Его буквы органично вписываются в городскую среду – «они ее порождение»26. Городу, как стихийно складывающемуся организму, необходимы не только «правильная» графика, но и неформальные знаки, взятые из его же среды и поставленные на службу культуре.
Имя Гулитова стало синонимом самодеятельной графики, поэтому, когда возникла идея выпустить небольшой сборник с поздравлениями к его 40-летию, стиль плакатов-пожеланий можно было безошибочно определить еще до того, как она была собрана. Эта книжка «ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ»13 (курировал ее Сергей Серов) является, по сути, уже третьей версией, обработкой «народной» графики: первая – это собственно материал, вторая – работы Гулитова, а третья – сочинения на тему его шрифтов и логотипов, своеобразная ода художнику на его языке. Слово «ода» появилось неслучайно: Гулитов разрабатывал логотип для рекламного агентства с таким названием в стиле эскизной рукописной графики. Буква «О» представляла собой спутанный клубок, «Д» – более свободную версию этого знака из гарнитуры «Уличная», «А» – неровно, по-детски закрашенный треугольник.
Мотив клубка после логотипа «Ода» стал еще одной визитной карточкой Ю. Гулитова. В нем – спонтанность творчества, отсутствие правил и норм, по-детски трогательное ощущение мира. Только взрослый, рисуя круг, ограничится одной линией (свое кажется совершенством), ребенок же будет стараться найти правильную форму посредством наложения друг на друга множества неправильных. Несовершенство дает живой образ, а живое всегда провоцирует на творческий отклик. Клубком в этой книге поздравлений воспользовался и Борис Трофимов, классически тонкий дизайнер книги, сочетающий и традиционные правила красоты и гармонии, и новейшие эксперименты в области типографики. В его композиции, которую можно прочитать по желанию как цифру 40 или как букву «Ю», клубок заменяет ноль и круглый элемент буквы, а из черных наборных плашек и стрелки складываются зеркально перевернутая цифра 4 и начало буквы «Ю». В его поздравительном знаке есть и личная теория прекрасного, и дань уважения юбиляру. Личное проявилось за счет характерного сочетания фактур – наборной и свободной. Практически все книжные работы Трофимова – постепенное и очень аккуратное нарушение правил: в масштабе, повороте шрифта, расположения материала; и эта небольшая доля игры оттеняет классический фон, его академизм и чистоту, которые благодаря «живым», «неаккуратным» деталям органично вписываются в современный графический язык. Эта же идея созвучна стилю работы Ю. Гулитова как идея модификации живой среды, живой культуры – цитировать не объект, а его настроение, ощущение, качество.
Стиль уличной графики созвучен социальной теме. Рисованное изображение, рукописный текст утвердились в ней с начала XX века (плакат Л. Пастернака «На помощь жертвам войны», многочисленные плакаты Т. Стейнлена, созданные на основе его предельно жестких зарисовок). Набросок, возможно, в этом случае был синонимом документальности, своеобразного «журналистского» подхода к проблеме и одновременно отсылал к другому, уже утвердившемуся социальному жанру – карикатуре.
Большинство плакатов, участвовавших в московском фестивале социальной рекламы (2001), было выполнено «по следам» народного почерка и трафаретных надписей. Социальная реклама изначально создается для улицы – как напоминание, просьба, разъяснение. Она должна быть голосом города, и элементы стихийной народной культуры, возникающие в ней, являются способом вписать ее в городское окружение. Кроме стиля и фактуры надписи, она заимствует у уличной графики принцип построения фразы, такой же жесткий и отрывистый – «Детей не бросать!» – или народно-поэтический: «Берегите друг друга», «Миру мир». В этом жанре рекламы идея личного обращения оказывается наиболее действенной: плакат, запрещающий или призывающий все население в целом, обладает гораздо меньшей силой, чем тот же запрет, обращенный с использованием рукописного шрифта или местоимения к каждому в отдельности.
В РГХПУ им. С. Г. Строганова на занятиях по типографике, в эпоху рукописных городских объявлений, студентам предлагалось сымитировать стихийные тексты с помощью наборных шрифтов. Комбинируя разные гарнитуры, меняя наклон букв и расстояние между ними, студенты добивались ощущения «наивного» дизайна. Если бы то же задание выполнялось без подстрочника, результат был бы более наигранным. На облик таких надписей влияет ситуация (скорость, формат, материал – тушь, масляная краска, фломастер), и разыграть ее правдоподобно невозможно.
Художница из Санкт-Петербурга, участница и создатель многих митьковских мистификаций Ольга Флоренская считает, что во всем виноват «профессионализм художника»: «Дело в том, что скромный автор аутентичной бытовой надписи ощущает себя в лучшем случае охотником, поймавшим СЛОВО в ловушку, сооруженную из забора и мела, но ни в коем случае не художником. Самая малая творческая корысть тут же превращает девственный шрифт в лукавый, а ребенка – в ремесленника. Берусь утверждать, что профессиональный художник не может воспроизвести настоящий девственный шрифт»27.
Флоренская начала коллекционировать «бытовой шрифт – БШ» в конце 80-х – начале 90-х, «когда в группе Митьки началось повальное увлечение рукописным шрифтом»28. Она систематизировала свою коллекцию в книжечке «Психология бытового шрифта» и разделила БШ по начертанию на три вида: «девственный», «лукавый» и «трафаретный». «Девственный» состоит в основном из печатных букв, и, по мнению Флоренской, он самый трогательный и верный первым детским опытам чистописания: «Существует множество способов, как пройти невредимо сквозь густой лес, вырастающий из русского алфавита как из сказочного гребешка, брошенного за спину. <…> Чуть сомнение или задержка, и лукавая рука начинает торговаться с буквой, добавляет там и сям кудри и закорючки. Наиболее сложные в написании буквы подвергаются выборочной, часто неоправданной косметической операции»29. В «лукавом» шрифте перемешиваются прописные и печатные буквы. «Трафаретный» БШ представляется ей менее ценным, чем написанный от руки: во-первых, из-за тиража, и во-вторых, из-за труда, затрачиваемого автором на изготовление трафарета. Чем проще и спонтанней техника создания БШ, тем выше его ценность как объекта интуитивной графики. «Трафаретный» БШ также можно рассматривать с позиций «лукавого» и «девственного» стиля письма. К «девственным» трафаретам она относит прямые, вычерченные по линейке или выклеенные скотчем буквы. «Импровизации составляют основу лукавого раздела бытовых трафаретов. Его изучение сродни поиску примет породистых предков у дворняжки: внимательный зритель встретит здесь признаки самых разных шрифтов – от русской вязи до классических торгово-промышленных трафаретов конца XIX – начала XX века»30. Объединяет эти шрифты отказ от правил написания знака: в одном слове может быть несколько начертаний одной и той же буквы – от «каллиграфического» до печатного, в буквах могут возникать лишние элементы и т. д. Свободой, индивидуальностью, незавершенностью (буква противостоит идеалу знака, распадается на отдельные элементы, становится открытой для эксперимента) и синтетичностью творчества (заказчик, автор текста и каллиграф выступают в одном лице) привлекает БШ дизайнеров и художников.
Свой интернет-проект 2007 года по «коллекционированию слов» британский дизайнер-график Мэтью Найт назвал «словарем». На его сайт https://www.behance.net/mattknightdesign любой пользователь имел возможность загрузить фотографию слова – существительного, глагола, прилагательного, напечатанного на любой поверхности. Проект просуществовал до 2009 года. Найт предлагал использовать такой словарь в переписке по электронной почте или в качестве шрифта для набора текста.
Обычный текст приобретал схему пиктографического сообщения: кроме букв считывались среда, поверхность, ракурс и кадрировка слова. Такой фототекст можно назвать эмоциональным письмом: он необходим при обмене впечатлениями после путешествия, в рекламных кампаниях, где слоган тянет за собой ситуацию, связанную с объектом рекламы.
Замену текста фотографиями нередко применяют в своих проектах и студенты кафедры «Коммуникативный дизайн» РГХПУ им. С. Г. Строганова. В серии плакатов, посвященных творчеству Даниила Хармса, на белом фоне даны строчки из его произведений, и некоторые слова в них – это фотографии. «Задумчиво смотрю на часы, закуриваю трубку». Часы и трубка даны предметами, в других предложениях человек, сидящий на стуле, обозначает местоимение «я». Плакаты к Хармсу и «визуальный словарь» Мэтью Найта работают по тем же законам, что и вывеска. Они представляют, выводят на публику тему одновременно с помощью чтения и разглядывания. Неслучайно существует выражение «глазеть на вывески»; не читать, а именно собирать зрительные впечатления. И движение через фототекст Мэтью Найта сравнимо с движением пешехода по улице.
Масляная краска и кусочки бумаги – материал, изначально не предусмотренный для рукописного, каллиграфического письма. Дизайнер, художник, обыватель занят «возделыванием» и «приручением» этого материала. Шероховатость и незавершенность знаков – следствие этого процесса. «Приручают» непослушную краску с помощью трафарета, отдельных букв-штампов, плоской кисти.
Трафаретный шрифт говорит об особой стороне городской культуры – о почтовых пересылках, перевозке товаров и производственной таре, о коммунальных службах, о «тайных» сторонах жизни города. Он стал синонимом неофициальной культуры и социальной незащищенности. «То, что делалось когда-то не от хорошей жизни, теперь создает стильный внешний вид, подобно тому как вареные джинсы делают всех похожими на ковбоев, несколько месяцев скитавшихся в прерии»31. (Первый наборный трафаретный шрифт Stencil был выпущен в 1937 году Р. Хантером Миддлтоном. Его изюминкой являются белые, не забитые краской перемычки в буквах, благодаря которым буквы не распадаются на отдельные формы.) Некоторые дорожные знаки и надписи, как правило, временного характера (о ремонте, объезде, дорожных работах), пишутся с помощью трафарета. Обилие в Москве самых разных по стилю и анатомическому рисунку изображений копающего человека связано с наличием у каждого СМУ своего набора пиктограмм. «Текст» на них – стандартный, а исполнение варьируется от современных пластиковых панелей со светоотражающей поверхностью до вручную перерисованных с фабричного знака трафаретных человечков. И поскольку графический дизайн занимается коммуникационными системами, знаками и пиктограммами, метод изготовления дорожных знаков, их сюжеты и тексты, их фактура используются многими дизайнерами как синонимы профессиональной деятельности: Андрей Логвин поместил копающего человека на плакат к выставке «Лучшие знаки и логотипы России» (1998). Плакат к мультимедийной выставке «Вопросы+причины» Американского института графических искусств (AIGA14) сделан с помощью трафарета и аэрографа. Там, где трафарет был прижат плотно к бумаге, контур получился четкий, а где отставал от листа – буква расплылась. Символом проекта стала фигурка человека (пиктографическое изображение), совмещенная с восклицательным знаком. Фигурка обозначает креативность, умение мыслить, задавать вопросы и быть любознательным. Техника трафарета, кроме внешнего сходства, передает и природу знака: упрощенный силуэт, возможность тиражирования на любых поверхностях и идею сигнала, внимания, помощи в навигации по современной культуре. Фактура сбитого, дорожного шрифта определяет еще и область, и манеру проектирования. Опыт общения необходим на всех уровнях графического дизайна – от товарных чеков до плакатов для Большого театра, – и чем проще и одновременно точнее метафора, тем более открытым и тактичным выходит конечный продукт.

Андрей Логвин. Плакат. Знаки и логотипы. 1998
В графическом дизайне фактура трафарета и штампа представляет собой цитату и указывает на определенную область культуры, из которой заимствуется этот прием; по сути, именно первоисточник является настоящим героем плаката (рекламы, обложки книги, журнала и т. д.). В изобразительном искусстве слово, оказавшись на холсте, обретает масштабы памятника. Живописное полотно изначально предполагает музейную или коллекционную ценность – зрителя и место на стене. Вольная кистевая фактура, пользующаяся большим спросом как у простого населения, так и у творческих профессий, находится как бы между штампом и музеем. С живописью ее роднит техника (кисть и краска), а с искусством графики – умение эту технику тиражировать и пользоваться ее несовершенствами как свидетельствами определенного стиля. При создании рукописных авторских книг именно к этой технике обращаются художники. Она оставляет свежесть, спонтанность записи, наподобие «уличных текстов». Персонажи Андрея Бильжо и Александра Флоренского «разговаривают» таким незатейливым почерком. И здесь еще раз всплывает идея Кручёных о связи начертания слова и языка. В силу характера они вряд ли смогли бы излагать свои мысли при помощи антиквы или гарамона, их стиль речи задает прямоту и «лубочность» надписи. Сын с отцом, обсуждающие преимущества «Банка Москвы» (серия плакатов Андрея Бильжо) на бытовом семейном уровне, герои стихотворений Олега Григорьева у А. Флоренского – их всех объединяет понятие «народный герой». Безликий, знаковый образ, хотя и с именем (по прихоти сюжета), – разные его формы воплощают те или иные стороны характера, профессии, уровень благосостояния. И поэтому говорят они таким же народным языком, переведенным в графику в качестве примитивной скорописи: «На электростанции в будке живет монтер, ну вот как мы с тобой, но совсем один…»32
Суть живописной, трафаретной, фактуры – в ее нарочитой неаккуратности, а поэтому единичности. Набить так же краской форму, написать такую же букву, провести такую же линию на холсте – эти действия невозможно повторить в точности. Даже в прошедших через тираж вещах – книгах, плакатах, календарях – остается шероховатый, «живой» тон слова. Человеческий жест – это отголосок настроения, желаний, места. Это обращение к миру через творчество. Чем оно уникальнее, точнее, тем больше будет востребовано и как культурный, и как рабочий материал. И наша культура строится именно из таких обращений, отголосков личного, постоянный обмен которыми позволяет ей расти и развиваться.
«Живое» слово. Фактура как способ ассоциативной звукопередачи
Фактура зримой оболочки слов (будь то характерный след пишущего инструмента, фактура предмета, или материала, или графической технологии) – это один из способов обратить внимание на текст. В тот момент, когда благодаря необычности формы восприятие «зацепилось» за внешность послания, и начинается разгадывание «текста», соотнесение изображения и значения слова.
Фактура работает как дополнительное усиление значения. Можно даже сказать, что образно-символическое сообщение «прячется» в их сравнении: чем больше контраст и неожиданность сочетания, тем «объемнее» окажется послание. Возможно, настоящим текстом (если под ним понимать не столько письменность, сколько хранение, передачу и обработку, осмысление информации) является именно кажущееся несходство читаемого и зримого. Чем более неоднозначной будет связь, тем глубже, полнее окажется текст, спрятанный между словом и его оболочкой. Дизайнеры часто пользуются таким принципом «несоответствия» при создании плаката, соединяя «несоединимое» для получения некоего третьего, актуального именно в данном контексте образа.
Андре Бретон утверждал, что сюрреализм – это встреча на операционном столе зонтика и швейной машинки, подчеркивая тем самым возникновение в творческом сознании художника «небывальщины», основанной тем не менее на обыденной реальности. В случае со словом и его фактурой (образно-композиционным решением) возникает не новый предмет, но новое качество прежнего; фактура меняет оттенок значения. В сюрреализме не существует «между»: чем плавнее, изящнее переход одной «материи» в другую, тем убедительнее и сильнее образ, его воздействие на зрителя. Для текста же, для фактуры как метафоры к слову, важна именно обособленность двух тем, из которых одна – чаще всего слово – является ведущей. Фактура – это своего рода определение к слову (вещи, событию, имени); ее цель – расширить значение, провести неожиданные аналогии, сопоставления. Сопоставление рождается из целостности двух образов, которые обмениваются своими признаками так, что в каждом непременно узнаются черты «соседа». «Сопоставление двух моментов по принципу контраста видоизменяет и усиливает эффект каждого из них»33 – это положение Э. Рудера, высказанное им по поводу типографики (применения контрастных по начертанию или размеру шрифтов), оказывается верным и для «фактурных» надписей. Маленькая буква рядом с большой действительно будет маленькой; и, более того, антитеза сможет в точности показать, насколько они отличаются друг от друга. Соотношение фактуры и слова – это та же мера, мера отличия и сходства, – послание, вложенное между текстом и его визуальной формой.
Поль Валери противопоставлял любой визуально оформленный текст его содержанию и отмечал, что «созерцаемый и читаемый текст – явления различного порядка». Чтение доставляет духовное наслаждение, когда «ежесекундно разрушается облик письменных знаков, чтобы заменить их ассоциативными впечатлениями». Но при этом существует и образ страницы – «система из прямоугольников и полос, из черных и белых плоскостей». Визуальная форма «порождает восприятие содержания» как читателем, так и самим автором. Поль Валери ставит акцент именно на восприятии писателем собственного текста в печатном виде: типографика сообщает тексту «голос», «более ясный и мощный»34, чем голос автора. Его «тембр» зависит от характера типографики; т. е. вновь соотношение зримого и читаемого рождает не только смысл, но и атмосферу текста, в некотором роде культуру его потребления.
Литература как текст с каждым новым изданием меняет «одежду» – свою печатную форму. Но первой формой записи остается авторский экземпляр – рукопись, которая может быть написана от руки, отпечатана на пишущей машинке или принтере. Текст в данном случае является непосредственным отражением работы автора: его поправок, его почерка, «живого» авторского слова.
Сравнивая рукопись и разные печатные формы одного и того же текста, можно проследить, как меняется оттенок слов и возникает, на стыке значения и формы, в каждом конкретном случае свой настрой чтения. В беспредметной поэзии, где нет сюжета, цепляющего читателя за устойчивый образ, этот момент визуального управления текстом проявляется наиболее отчетливо. Манера письма в этом случае дает звуку зримую форму, и каждая новая форма заставляет одни и те же слова «звучать» в собственной тональности. Значение, «смысловая нагрузка» текста в беспредметной поэзии существует как симбиоз звука и изображения, оно не привязано к каждому конкретному слову. Поэтому меняя форму, можно управлять не только оттенками смысла, как в «классическом» языке, но и полностью «содержанием» – впечатлением, которое оставляет текст.
Варвара Степанова записывала свои беспредметные стихи аккуратным гимназическим почерком в тетрадь, помечая рядом название сборника, в котором они «публиковались». В тетради слова остаются внешне нейтральными, поэтому стихотворение воспринимается в первую очередь как «звуковой» документ. Каждая же из книг имеет свое, сопричастное тексту визуальное оформление, где к звуку добавляются рисунок букв, фактура письма, поверхность страниц.
Так сборник стихов Степановой «Тофт» получил три различных облика: запись пером в тетради, размашистые буквы, написанные карандашом, и машинопись. В малотиражном варианте слова «урдакс латан» выведены прыгающими, слегка корявыми буквами (хотя это, возможно, следствие техники печати: на форму – стекло – текст нужно было наносить в зеркальном отображении). Это игра в язык, его отрывистую, «неудобную» фонетику. Те же строчки, но уже в строгом машинописном варианте предугадывают эстетику конструктивизма: техническое исполнение работы заменяет «иррациональный» творческий импульс. Можно предположить, какая манера чтения будет соответствовать каждому из текстов: очевидно, в первом случае звук будет со «смаком» произноситься чтецом, акцент будет сделан именно на живом, не оформившемся в конкретные понятия языке. Очередность выстукивания букв в печатной машинке, их «универсальность», наоборот, дают повод представить некое чеканное, механическое произношение текста. Получается, что зримая фактура текста служит для ассоциативного отображения фактуры звукопередачи.

Михай Батори. Оформление серии дисков для Radio France
Возможно, на стыке визуального и фонетического чтения существует целый литературный жанр, пока опробованный только в графическом дизайне. Жанр визуальной поэзии предусматривает одновременность восприятия внешней оболочки текста и его звучания. «Одежда» слова задает тему, определяет его индивидуальность и эмоциональное наполнение.
Контраст оболочки и содержания или, наоборот, соответствие смысла и фактуры определяют специфику образа. Фактура призвана определять качественные характеристики предмета, сравнивая его с чем-то, не имеющим к нему прямого отношения. Современный французский дизайнер Михал Батори использовал подобный прием при оформлении серии музыкальных дисков для Radio France. Название диска – это каждый раз новый фотосюжет: буквы складываются из перьев, капель воска, битого стекла, обрезков проволоки. Серийность оформления держится за счет шрифтового блока с именем исполнителя: сохраняются одна гарнитура и местоположение в верхнем крае обложки. Один из альбомов называется Voices. Слово на обложке диска «написано» водой: капли имеют формы конкретных букв. Возможно, это означает совершенство, чистоту, бесплотность звука. По отношению к музыке практика применения фактурных надписей полностью оправданна, поскольку звук не предметен, не изобразителен, он ассоциативен.
Когда же визуальная форма повторяет содержание, словесно-образная конструкция строится по принципу азбуки, где буква часто принимает облик предмета, чье название с нее начинается.
Рисованная фактура (кисть, карандаш, трафарет и т. д.) как принадлежность письма, почерка является продолжением смысла, идеи «повествования», неким визуальным продолжением языка. Она задает манеру чтения и раскрывает облик «автора». Фактура в современном графическом дизайне дает осязаемость тексту и конкретную сюжетно-смысловую привязку, направляет поток ассоциаций в выбранном дизайнером-графиком направлении, позволяет минимальными средствами создать намек на подлинную ситуацию, которую «озвучивает» текст.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе