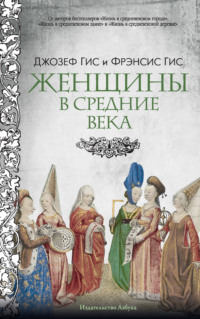Читать книгу: «Женщины в Средние века», страница 3
Глава III. Женщины и феодализм
Куда менее прогрессивные тенденции в положении женщин обозначились с началом феодализма – системы, которая возникла во Франции в IX веке и в последующие столетия распространилась по всему европейскому континенту (на Британские острова эти порядки пришли в результате нормандского завоевания). Суть феодализма в том, что сеньор (крупный землевладелец) жалует земельные наделы своим вассалам (низшим собственникам), а те взамен соглашаются оказывать определенные услуги, чаще всего – военные. Вполне естественно, что такая система порождает военизированную социальную организацию с культурой сугубо мужского типа. Собственно говоря, дофеодальное общество и без того уже подчинялось «мужскому» принципу верховенства силы и доминирования; феодализм же только усугубил бесправие женщин, сделав военную службу условием землевладения. Феодальные вотчины и связанные с ними военные повинности, как правило, переходили безраздельно к старшему наследнику мужского пола. Женщина могла претендовать на наследство только в случае отсутствия наследников-мужчин.
Вообще женщина в условиях феодализма почти всю жизнь находилась под опекой мужчины: сначала, пока не выйдет замуж, – отца (а если он умирал, то отцовского сеньора), затем, пока не овдовеет, – мужа. Подопечная не могла распоряжаться своим наследством: доходы от него шли в карман опекуну, и он же выбирал ей жениха. Девушка, вступавшая в брак самовольно, лишалась всех прав на соответствующее имущество. Такой правовой режим существовал повсеместно и во многом сохранялся даже в позднее Средневековье. В одном из английских кодексов, относящихся к годам правления Генриха II, читаем: «Даже если наследница достигла совершеннолетия, она должна оставаться под опекой сеньора, пока не выйдет замуж сообразно с его советом и волей. <…> Если же девица… выйдет замуж без согласия своего сеньора, то она, согласно закону и обычаю королевства, по справедливости лишается наследства…»44
Аналогичным образом французский король Филипп Август в своем обещании жителям нормандских городов Фалез и Кан делает следующую важную оговорку: «Мы не будем выдавать замуж девиц и вдов вопреки их воле, по крайней мере тех, кому мы не давали целиком или частично военного феода [fief de haubert]»45 (имеется в виду земельный надел, держатель которого обязан был нести рыцарскую службу – сражаться в кольчуге).
Иногда право сеньора выдавать замуж опекаемую им девушку превращалось в «товар». В таком случае феодал не настаивал на браке с конкретным женихом, но оговаривал денежный эквивалент, который должен быть уплачен будущим мужем за возможность распоряжаться владением наследницы. Помимо прочего, эта «брачная пошлина» компенсировала сеньору потерю дохода. Выражаясь современным языком, можно сказать, что опекунство рассматривалось как разновидность инвестиций и, подобно ценным бумагам, являлось предметом купли-продажи. Показателен пример Изабеллы Глостерской, первой жены английского короля Иоанна Безземельного. Их брак был аннулирован в 1200 году. Когда же четырнадцать лет спустя Изабелла вышла замуж вторично – за Джеффри де Мандевиля, 2-го графа Эссекса, – король продал этому вельможе руку своей бывшей супруги за гигантскую сумму в 20 000 марок. Граф погиб на турнире в 1216 году, не успев полностью расплатиться, так что с долгами пришлось разбираться его наследникам. Ту же модель, только в более скромных масштабах, можно наблюдать на других уровнях социальной иерархии. Согласно отчетам королевского казначейства за 1207 год, один вассал уплатил сбор в размере «100 марок и двух верховых лошадей» за право женитьбы на некой вдове, владеющей «наследством, приданым и вдовьей долей», а другой внес «1200 марок и две верховые лошади» за брак с какой-то богатой наследницей46.
Пока Великая хартия вольностей не ограничила возможность короля наживаться на праве распоряжаться повторным замужеством вдов, эта «торговля» оставалась для Иоанна весьма доходной статьей. Мзда взималась в самых разных случаях: если вдова хотела защититься от принуждения к повторному браку, получить позволение выйти замуж по собственному выбору или сохранить опеку над личностью и имуществом своих малолетних детей. В том же отчете 1207 года зафиксирован платеж в размере 20 марок, внесенный некой вдовой «за то, чтобы не приневоливаться к вторичному браку». Незамужние девушки точно так же несли денежную повинность за право самим выбирать себе женихов: «Квенильде, дочери Ричарда Фиц-Роджера, надлежит внести 60 марок и две верховые лошади за позволение вступить в брак с кем ей будет угодно, по совету друзей, при условии, что избранный ею в супруги не есть враг короля»47.
При всех явных и скрытых тяготах своего положения женщины все же не были совершенно лишены личных и имущественных прав и социального влияния. Ряд факторов противодействовал силам феодализма. Позитивную роль сыграло, в частности, стремительное развитие торговли и урбанизации в период Высокого Средневековья. Оживленные города вырастают вокруг старых крепостей, ярмарочных пунктов, на пересечении торговых путей; планомерно застраиваются и новые, еще не обжитые места. В результате возникает прослойка трудящихся горожанок, которые, как позднее будет показано на конкретном примере, добиваются новых важных прав и привилегий.
Более того, несмотря на очевидную суровость феодальных законов, даже в сельской местности женщина никогда не была полностью бесправна. Если она вступала в брак, имея собственное наследство (скажем, была дочерью зажиточного крестьянина или аристократкой, унаследовавшей отцовские земли ввиду отсутствия наследников-мужчин), то муж не мог продать это имущество без ее согласия. Если супруг неумело распоряжался угодьями жены, ничто не мешало ей обратиться в суд и защитить право собственности, отстояв свою законную возможность пользоваться всеми преимуществами землевладения. Вообще женщина – хоть состоящая в браке, хоть незамужняя – была наделена довольно широким комплексом прав: могла владеть землей, продавать ее и дарить, владеть движимым имуществом, составлять завещание, заключать договоры, выступать истицей и ответчицей в суде, причем все это касалось как континентальной Европы, так и Англии.
В теории базовый постулат феодализма гласил, что земля принадлежит только верховному сюзерену, а уже от него подвластные вассалы получают пожизненные наделы. Более крупный феодал жалует землю в лен более мелким, а те, в свою очередь, сдают ее в аренду. Предполагалось, что рядовые сеньоры, вассалы и арендаторы являются не собственниками, а скорее «держателями» земли. Однако под влиянием хозяйственной практики и житейской психологии эти нюансы стирались. Никто, конечно, не спорил с тем, что в случае смерти вассала его преемник обязан проделать ритуал оммажа, чтобы юридически подтвердить свою зависимость от сеньора и «переоформить» право на землю. И тем не менее в общественном сознании – сверху донизу социальной лестницы – господствовала идея о наследственном характере землевладения: представление о том, что земельный участок есть собственность конкретной семьи. А коли так, то сохранить землю внутри рода, возможно, даже важнее, чем передать ее просто мужчине. Едва ли требуется пояснять, какое значение этот вывод имел для экономической самостоятельности женщин.
При этом классик британской юриспруденции XVIII века Уильям Блэкстон, описывая положение женщин в системе английского общего права, в принципе отказывает им в субъектности:
По супружеству муж и жена считаются в законе за единую персону, так что даже и самое существование или законное бытие жены раздельное останавливается в продолжение супружества, а соединяется… во единое бытие мужа, под которого покровом она разумеется делающею всякую вещь… <…>…Муж не может назваться дарящим жену свою чем-либо и не может с нею входить ни в какие договоры и обязательства; в противном случае мужнино дарение предполагало бы самое бытие жены отделенным…
Поскольку жена абсолютно лишена дееспособности, – а значит, у нее нет ни прав, ни обязанностей, – то муж оплачивает ее долги и отвечает за ее дурные поступки. Отсюда же и его власть над женой в смысле телесных наказаний. Блэкстон всячески восхваляет такой социальный порядок: «Сии суть законные следствия… происходящие в продолжение их супружества, о которых… до́лжно примечать, что в законе нашем даже и самые воспящения и неспособности по большей части с намерением предписаны для пользы и покровительства жен. Толико благоприятствуют, – елейно заключает он, – у нас женскому полу законы!..»48
С точки зрения Блэкстона, «общее право» – нечто вроде универсального естественного закона. На самом же деле то было лишь нормандское феодальное законодательство, перенесенное на английскую почву Вильгельмом Завоевателем. Юридический статус женщин – как в Англии, так и на континенте – далеко не исчерпывался этими законодательными нормами, что бы ни говорил Блэкстон. Во-первых, упорно сохранялись дофеодальные пережитки. Во-вторых, в законе находились лазейки. Родители выделяли дочерям имущество, частным образом оформляя дарственные. Эта практика бытовала повсеместно, и прибегать к ней не возбранялось даже в нарушение норм общего права (за исключением случаев судебной тяжбы между сторонами). Кроме того, появлялись новые юридические доктрины. Как дополнение к системе общего права в Англии сложился набор иных правовых принципов, построенных не только на прецедентах, но и на идее справедливости, – так называемое «право справедливости». Происхождение его связано с тем, что в какой-то момент количество жалоб лорд-канцлеру от людей, недовольных решениями судов общего права, необычайно возросло, и тогда был создан особый судебный орган, призванный руководствоваться не писаными формальностями, а «совестью». Суд справедливости не зависел от системы общего права и работал под председательством лорд-канцлера, обладавшего широкими полномочиями по отправлению правосудия. Этот суд обеспечивал признание трастов и других юридических механизмов, предоставляющих замужней женщине права собственности, которых она была лишена по общему праву. Право справедливости позволяло мужу составить после бракосочетания акт, по которому в пользу жены учреждался траст, и за счет этого она могла гарантированно получить земельные владения или деньги, значительно превосходившие то, что полагалось бы ей по умолчанию.
Феномен теснейшей связи брака и землевладения – отнюдь не изобретение феодализма, и с разложением феодального строя, как хорошо известно читателям Джейн Остин, эта связь по-прежнему никуда не исчезла. В средневековую эпоху, как и столетия спустя, родители обычно сами устраивали брак своих детей: находили подходящую партию и согласовывали имущественные вопросы. Семья невесты выделяла ей приданое, состоявшее у знати и торгового сословия в основном из земельных владений или денег, а у крестьян – из предметов одежды, мебели и утвари. В случае расторжения брака или смерти мужа до рождения ребенка приданое чаще всего возвращалось жене. Супруг, со своей стороны, назначал жене вдовью часть, обыкновенно опять-таки в виде земельных угодий. По общему праву это могла быть треть или половина имущества, которым владел муж либо какой-то конкретный феод в составе его владений. Вдовья часть торжественно «вручалась» невесте у дверей церкви во время свадьбы, но по существу представляла собой не подарок, а скорее обеспечение на будущее: единственным распорядителем этого имущества в течение совместной жизни оставался муж; к жене оно переходило, только если она его переживет. Учитывая, что при разделе имения умершего супруга львиная доля доставалась наследнику мужского пола, вдовья часть может рассматриваться как своеобразная форма социальной защиты женщины. Если же вдова вступала во второй брак, то вдовья часть, как правило, возвращалась родне ее покойного мужа. Стоит еще сказать, что в большинстве случаев вдова допускалась лишь к пожизненному пользованию вдовьей частью: собственность оставалась за семьей мужа, и вдова не имела права отчуждать эти земли.
Важную роль в средневековых брачных обычаях играла помолвка, или обручение. Соответствующая церемония восходила, по-видимому, к древним языческим ритуалам и во многом напоминала обряд церковного венчания. Помолвка обладала почти такой же юридической силой, как сам брак. Нередко молодые начинали совместную жизнь сразу после помолвки. По нормам общего права дети, рожденные от такого сожительства, признавались незаконными (и даже последующий брак молодых родителей не мог изменить этого положения), но трезвая жизненная практика водворяла свои правила.
Важнейшая часть свадебного обряда происходила на паперти у церковных дверей. Объявив о составе вдовьей части, жених в знак неразрывного союза надевал невесте на палец кольцо и подносил ей подарок, состоящий из золотых или серебряных монет. Затем молодые давали взаимные обеты верности. Кольцо и денежный подарок выполняли функцию залога или поручительства (на древнеанглийском языке – wed; отсюда английское слово wedding, «свадьба»). После этого жених и невеста проходили в церковный предел, где совершалось собственно венчание. В конце венчальной церемонии новобрачные становились на колени, и на них сверху раскрывали полотняное покрывало (бывало, что под него залезали уже успевшие родиться дети, приобретавшие тем самым законный статус).
Разводов в современном понимании в Средние века не существовало, но пара могла, во-первых, разойтись (в таком случае повторный брак был исключен), а во-вторых, добиться признания брака недействительным (что открывало дорогу к новому супружеству). Аннулирование брака было процедурой хлопотной и затратной, поскольку требовало обращения в церковный суд. Главными основаниями для расторжения брака служили родство супругов, прелюбодеяние, половое бессилие мужа и постигшая одного из супругов проказа. В категорию «родства» включалось не только кровное родство, в том числе весьма отдаленное, но и свойство́ (иначе – родство через брак) и даже родство духовное (через крещение). Благодаря такому расширительному толкованию «родство» было удобным поводом для избавления от надоевших или невыгодных супружеских уз. Вообще, хотя формально браки между родственниками до определенного колена были запрещены, на практике это правило нередко нарушалось, и супружество продолжалось до тех пор, пока та или иная сторона не пожелает его прекратить. Происходить это могло, если в браке не родилось наследника мужского пола, а также из политических или экономических соображений – а то и просто, если неудержимо «потянуло на сторону».
Например, Иоанн Безземельный и его первая жена Изабелла Глостерская приходились друг другу троюродными братом и сестрой, что считалось недопустимо близкой степенью родства. Узнав о свадьбе, архиепископ Кентерберийский запретил им сожительство и вдобавок наложил на владения будущего короля интердикт, который, впрочем, был снят папским легатом: последний играл на опережение, рассчитывая, что Иоанн обратится за официальным разрешением в Ватикан. Тот, однако, с ходатайством не спешил. Когда же Изабелла оказалась бесплодной, Иоанн нашел полдюжины епископов, согласившихся объявить брак недействительным по причине кровного родства супругов. Изабелла не возражала и впоследствии успела побывать замужем еще дважды.
Сегодня для нас привычны романтические (и в перспективе, возможно, перетекающие в супружеские) отношения, основанные на свободном выборе и обоюдной симпатии. Средневековое общество было устроено иначе: ни социальных институтов, ни обычаев, способствующих «браку по любви», попросту не существовало. Случалось, конечно, что родители прислушивались к желанию детей, но в целом личная привязанность не была достаточной причиной для вступления в брак. Официальная церковь допускала брак лишь с двумя целями: для производства потомства и во избежание греха блудодеяния (читай: не освященных венчанием половых связей). Богослов XII века Петр Ломбардский помимо этого указывает еще три «уважительных» мотива: примирение враждующих семей, накопление богатства и, наконец, нечто близкое к любовным чувствам – очарование красотой.
Несмотря на все сказанное, многие средневековые браки складывались удачно, перерастая в прочные сердечные союзы. Проповедник XV века Бернардин Сиенский, увещевая братьев по вере, говорит, что «главное украшение дома» и «самое в нем полезное» – это «красивая, рослая супружница, которая разумна, добродетельна, умеренна и чадородна. <…> Женщина с готовностью принимается за все, в чем есть нужда. Будучи беременна, она несет все тяготы своего положения; она терпит жестокие муки во время родов; на ней лежат труды по воспитанию и обучению детей; печется она и о муже, если он захворал или имеет в чем нужду».
Неженатый мужчина, убежден Бернардин, обречен на полнейшую бытовую неустроенность. Некому заниматься его домом и следить за хозяйством. Воробьи и мыши пожрали его зерно. Сосуды с растительным маслом треснули и потекли; обручи винных бочек лопнули, а вино превратилось в уксус или заплесневело. Спит такой холостяк в «канаве» (углублении, проделанном в кровати его телом), поскольку постель никогда не встряхивают и не перестилают, а простыни не меняют, пока они не порвутся от старости. «То же и в комнате, где он ест. На полу валяются дынные корки, кости, объедки и всякий сор, который бросают со стола и никогда не выметают». Скатерть служит до тех пор, пока не истлеет. «Тарелки он почти не моет; их лижет и очищает своим языком собака. А кухонные горшки – вы только посмотрите, до чего они засалены! Как, спрашиваю я вас, живет этот человек? Как скотина!» (В этом месте проповеди Бернардин решил предостеречь своих слушательниц, чтобы они не впали в грех в гордыни, и потому строго добавил: «Женщины, склоните головы!»)49
Величайший средневековый теолог Фома Аквинский писал, что «плотское соитие даже у животных рождает нежную приязнь»50, а «главной причиной, по которой человек любит свою жену, является телесное соединение с нею»51. Залог «величайшей приязни»52 между мужем и женой – совместная забота о хозяйстве, добродетельность обоих супругов и удовольствие от полового общения53. Современник и друг Аквината святой Бонавентура замечает: «В браке… царит взаимная любовь, а значит, взаимная привязанность, а значит, нераздельность. <…> Ибо есть нечто чудесное в том, что одна женщина мужчине несравненно угоднее и милее всех прочих»54. Средневековый человек редко вступал в брак по любви, но нередко находил любовь в браке.
Глава IV. Ева и Дева Мария
Горы книг и статей написаны о специфической двойственности средневекового отношения к слабому полу. Женщину одновременно возводили на пьедестал и клеймили как средоточие всех пороков. Проповедники на все лады препарировали историю о соблазнительнице Еве и вместе с тем возвели в культ поклонения Деве Марии. Та же полярность была выражена в мирской культуре: с одной стороны – куртуазная лирика трубадуров, труверов и миннезингеров, с другой – скабрезные фаблио, где женщинам отводилась самая неблаговидная роль.
В кругах духовенства мизогиния существовала с самого зарождения церкви. В немалой степени эти воззрения явились реакцией на либертинизм и бездуховность верхушки римского общества. Наблюдая такое развращение нравов, правоверные христиане в ужасе отворачивались от всего, что связано с чувственностью, плотским наслаждением и женским полом, – и в этом пункте стоики и гностики были солидарны с представителями новой религии. Все они проповедовали строгий аскетизм, что было созвучно эсхатологическим настроениям раннего христианства, жившего ожиданием второго пришествия. «Время уже коротко», – напоминает единоверцам апостол Павел55. «Мы обременительны миру, – полтора века спустя пишет Тертуллиан, словно предвосхищая демографическую концепцию нулевого прироста населения, – нам едва хватает средств к существованию, и нужда стала сильнее… Действительно, зараза, голод, войны, гибель городов при землетрясениях должны считаться лекарством, словно подрезание разросшегося человеческого рода»56. К чему верующему обременять себя детьми? В Судный день они будут ему «в великую тягость». Мысль «жениться для потомства» и ради желания иметь детей, «желания иногда весьма горького», не приличествует христианину57.
Если апостол Павел лишь призывает к безбрачию («Желаю, чтобы все люди были, как и я»58, «Хорошо человеку не касаться женщины»59) и требует от женщин беспрекословной покорности («Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу»60), то Тертуллиан идет дальше и обрушивается на слабый пол с обличительными речами: «Всякая жена не может не сознать в лице своем первопреступной Евы… <…> Как же, несчастная жена! Ты была, так сказать, дверью для диавола, ты получила от него для нашей гибели запрещенный плод, ты первая возмутилась против Творца твоего, ты соблазнила того, на кого диавол не смел напасть, ты изгладила в человеке лучшие черты божества; наконец, исправление вины твоей стоило жизни Самому Сыну Божию…»61 Впрочем, эти гневные инвективы следует воспринимать с оговорками. Ведь сам Тертуллиан, как и многие другие деятели начального христианства, был человеком женатым, причем к супруге своей обращался нежно и уважительно: «Любезная подруга моя в служении Господу!»62
Женоненавистнические выпады можно отыскать не только в трудах выдающихся теологов, но и в сочинениях многих клириков той эпохи. Вот что пишет, например, Марбод, состоявший епископом Реннским на рубеже XI–XII веков: «Из бесчисленных силков, которые коварный враг [сатана] закидывает на землю… хуже всех… женщина, проклятое отродье, источник зла, сосуд всех пороков… отравленный мед»63. В «Хронике» Салимбене Пармского, составленной в XIII веке, мы находим целую подборку характерных высказываний, принадлежащих разным церковным авторам: «[Женщина]… это смрадная грязь, злоуханная роза, отрава сладкая»; «женщина – источник греха, орудие диавола, изгнание из рая, мать преступления…»64 и т. д.
Современные исследователи цитируют такого рода сентенции, желая показать предрассудки средневековой церкви. Но это дает искаженную картину. Скажем, приведенные выше строки Марбода Реннского взяты из его поэмы «Книга десяти глав» (Liber decem capitulorum), а именно из главы с говорящим названием «О блуднице» (De meretrice). Если же мы заглянем в главу «О честной жене» (De matrona), то увидим, что его тон меняется до неузнаваемости. «Из всего, что дано Господом на пользу человеку, нет ничего столь же прекрасного и благого, как добрая жена», – говорит Марбод. Он восхваляет женщину как утешительницу и мать, заботливую и умелую хозяйку, которая стряпает, прибирается в доме, прядет и ткет, ухаживает за больными, растит детей. Даже среди худших женщин не найти ни одной столь же преступной, как Иуда. И наоборот: разве есть мужчина, способный сравниться с Девой Марией? В подтверждение своих слов Марбод приводит имена прославленных ветхозаветных героинь и раннехристианских мучениц.
Что касается Салимбене, то он был францисканским монахом и, вероятно, писал в расчете на таких же братьев-миноритов, как он сам. Средневековая церковь – не хуже любой другой политической организации – умела сдвигать идеологические акценты в зависимости от аудитории, к которой адресовалась. Монахи давали обет целомудрия, обрекая себя на подвиги самоограничения, и церковники не жалели сил и красок, чтобы поддержать «воинов Христовых» в этой борьбе. При обращении к мирянам интонация оставалась суровой, но несколько смягчалась. К примеру, богатых женщин порицали за кокетство и непомерное увлечение дорогими нарядами, украшениями и косметикой. Так, парижский проповедник XIII века Жиль Орлеанский напоминает пастве, что парики – это волосы мертвых людей, чьи души, возможно, пребывают в аду или чистилище. Его возмущают модницы, щеголяющие в поясах из золота и серебра и шелковых кушаках, какие «Иисус Христос и его блаженная мать, хотя и были королевской крови, никогда и не помыслили бы надеть»65.
Если же аудитория состояла из одних женщин, риторика менялась еще более существенно. Среди сочинений генерального магистра ордена доминиканцев Гумберта Романского (XIII век) есть проповедь «Ко всем женщинам» (Ad omnes mulieres), служившая образцом жанра для многих его сподвижников и последователей. Вот показательная выдержка из этого текста:
«Заметим, что женский пол по воле Божией многим превосходит не только прочих живых тварей, но и самый пол мужской. Преимущества сии дарованы Господом: (1) в творении, (2) в благодати и (3) во славе небесной.
(1) Жена превосходит мужа веществом и местом творения. Ибо мужа Господь сотворил в простом поле, а жену в раю. Адам соделан из ила земного, Ева же из ребра мужнина. Не из ступни или другой нижней части тела образована она, но из ребра, то есть части срединной, а посему не служанкой назначена быть мужу, но спутницей. Оттого и сказано в Писании: „Сотворим человеку помощницу, соответственную ему“. <…>
(2) Получила она превосходство и во времена благодати [воплощения и смерти Сына Божия]… В Писании не сказано, чтобы какой-нибудь муж страстям Господним пытался воспрепятствовать, но сказано о жене – супруге Пилатовой, старавшейся удержать мужа от столь великого нечестия…66 Так и, воскресши, Господь явился сперва одной из жен, Марии Магдалине. <…>
(3) То же и во славе небесной, ибо владычествует в той стране не муж безгрешный, но жена безгрешная – Царица Небесная. Никакой праведный муж не превыше ангелов и всех горних воинств, но только жена праведная; и потому никакой праведный муж такой власти в небесных чертогах не имеет, как жена праведная – Дева Пречистая. Так превосходство женского пола явлено в лице Пресвятой Богородицы и по величию, и по достоинству, и по могуществу. Все сие должно побудить женский пол любить Бога… и устранять от себя всякое зло…»67
Даже Тертуллиан смягчает формулировки, когда апеллирует исключительно к женщинам. Осуждая женский пол за суетное пристрастие к румянам и белилам, он тем не менее называет своих читательниц «знаменитыми служительницами Бога живого, любезнейшими во Христе сестрами»68.
Два образа-символа – легкомысленная соблазнительница Ева и непорочная Дева Мария – были очень удобны для пропагандистских целей церкви, воплощая собой противоположные этические начала. В целом отношение к женщине со стороны духовенства мало чем отличалось от мирских воззрений. Необходимость подчинения мужской воле оправдывалась моральной и физической слабостью женщин, их умственным несовершенством. В то же время признавалось, что женщина обладает собственным «я», отдельным от личности мужа, наделена душой и является носительницей определенных прав и обязанностей. Как видим, тогдашние взгляды можно назвать относительно либеральными, особенно в сравнении с теми, что проводил в XVIII веке Блэкстон. Брак средневековые мыслители рассматривали как благо: он есть установленное Христом таинство, а женщина создана мужчине в помощницы как «часть природной интенции, направленной на порождение»69 (слова Фомы Аквинского), хотя «мужчина является началом и целью женщины подобно тому, как Бог является началом и целью всего сотворенного»70.
В светской лирике рыцарей-труверов возлюбленная описывается в приподнято-романтическом и одновременно чуть ироничном ключе. «Ей равной в целом свете нет»71, она несказанно хороша собой и добродетельна. «Приятна речь ее и нежен взор, / И легок шаг, и обхожденье мило, / Во мне она зажгла страстей костер, / И сердце мне навеки опалила»72. О своем чувстве к недосягаемой даме один такой поэт говорит: «Но право, как смешны мои мечты! / Капризное дитя, – ни дать ни взять, – / Что тщится с недоступной высоты / Звезду красы невиданной достать»73. Преданный почитатель своей «госпожи», лирический герой готов «служить ей безупречно и вечно обожать»74. Наряду с воспеванием возвышенной любви встречаются в такой литературе и наставления практического свойства, касающиеся галантных манер. «Не до́лжно рыцарю ругаться / И словом грязным забавляться. / С почтеньем к дамам относись / И помогать им не ленись», – читаем в знаменитой поэме XIII века «Роман о Розе»75.
Совсем иной жанр – грубоватые фаблио, являющиеся достоянием уже не элитарной, а массовой городской культуры. Многие из них посвящены адюльтерным сюжетам, причем жены вилланов и ремесленников изображаются коварными, похотливыми изменницами, которые напропалую обманывают своих мужей с клириками, вагантами, подмастерьями… – и почти всегда благополучно выпутываются.
К той же сатирической традиции примыкает анонимное произведение «Пятнадцать радостей брака» (Les Quinze Joies du Mariage), в заглавии которого не слишком благочестиво обыгрывается название молитвы «Пятнадцать радостей Богоматери». Сквозной мотив книги – война полов, а главный герой – почтенный бюргер, страдающий от прихотей вздорной и лукавой жены, которая транжирит его деньги, уклоняется от супружеских обязанностей и всячески помыкает своим благоверным, превращая его жизнь в сущий кошмар. Забеременев («Да еще не от мужа, – и такое частенько случается»), она принимается привередничать и требовать самых причудливых и невиданных яств. Несчастному приходится, сбиваясь с ног, разыскивать то, что ей по вкусу. После появления на свет ребенка жена заставляет отвезти ее в паломническую поездку, которая обходится мужу в целое состояние. Вдобавок она постоянно жалуется, как тяжко ей пришлось во время родов, хотя «для женщины они такой же труд, как для курицы или гусыни, что извергают яйцо с кулак величиною оттуда, куда, кажется, и мизинца не засунешь. Так уж природа устроила – что для женщины, что для курицы, а поглядите-ка на эту последнюю: она знай себе только жиреет, неся яйца каждый Божий день; это ведь глупому петуху забота – с утра до ночи искать для курицы корм да совать ей в клюв, а той и делать больше нечего, кроме как есть, да кудахтать, да довольною быть». Вконец задавленный заботами, муж хиреет и впадает в дряхлость, «чего не скажешь о его половине: она-то еще и теперь в самом соку». Супружеская жизнь становится все скуднее, и жена приходит к мысли, «что муж ее самый слабый да немощный из всех мужчин». А бывает, что какая-нибудь из женщин «решается испробовать, так же ли слабы чужие мужчины, как ее собственный супруг».
Именно это и происходит далее по сюжету: неудовлетворенная дама начинает искать забав на стороне. Когда же муж однажды застает ее в объятиях «милого дружка», то на защиту изменницы встают подученные ею мать, товарки и даже исповедник. Совместными усилиями они убеждают легковерного супруга, что все это ему померещилось. Во всех прочих стычках с женой муж точно так же остается в дураках. Временами он пробует поднять на нее руку, но последнее слово всегда остается за ней. Описание каждой «радости» завершается однотипным рефреном: злополучному бедняге суждено до самой смерти маяться в брачных сетях, «в таковых напастях пребудет он вечно и в горестях окончит свои дни»76.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе