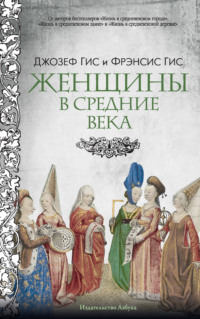Читать книгу: «Женщины в Средние века», страница 4
Противоречие между двумя литературными традициями, как и в случае с проповедями, – только кажущееся. И трубадуры, и авторы фаблио обращаются к теме прелюбодеяния, просто у одних портреты героев даются в идеализированном, а у других в сатирическом преломлении. В куртуазной поэзии прекрасная дама часто оказывается чужой женой, ее муж – «жестокосердым ревнивцем»77, а любовь носит неприкрыто чувственный характер. Поэтесса XII века графиня де Диа, одна из двух десятков известных женщин-трубадуров, тоскуя о своем рыцаре, пишет:
Напомнить бы ему сполна
Прикосновением нагим,
Как ласково играла с ним
Груди пуховая волна!
О нем нежней могу мечтать я,
Чем встарь о Бланкафлоре Флор3, —
Ведь помнят сердце, тело, взор
О нем все время, без изъятья.
Вернитесь, мой прекрасный друг!
Мне тяжко ночь за ночью ждать,
Чтобы в лобзанье передать
Вам всю тоску любовных мук,
Чтоб истинным, любимым мужем
На ложе вы взошли со мной, —
Пошлет нам радость мрак ночной,
Коль мы свои желанья сдружим!78
Различаются, по сути, лишь сословная принадлежность и понятия о морали. Подобное расхождение трактовок – свойственная элите поэтизация внебрачной любви и острая критика таких отношений в простонародных кругах – не новость в мировой литературе.
Куртуазная этика «недозволенной страсти» в систематическом виде изложена в трактате XII века «О любви» (De amore), написанном Андреем Капелланом в подражание Овидию. По мысли автора, «меж состоящими в супружестве» любви не существует по определению. Подлинное чувство возможно лишь «вне брачных уз»79.
Ученые до сих спор спорят, был ли трактат Капеллана рассчитан на буквальное прочтение или задумывался как сатира. Так или иначе, выраженные в нем идеалы – как и вообще куртуазная концепция любви – явно противоречат нормам тогдашней житейской морали. Не секрет, что в вопросах прелюбодеяния средневековое общество упорно держалось унаследованных от античности двойных стандартов. Короли, бароны, рыцари и бюргеры открыто заводили интрижки на стороне и плодили незаконнорожденных отпрысков, тогда как оступившихся жен клеймили позором и изгоняли из лона семьи, а их любовников подвергали кастрации или лишали жизни. Вина прелюбодейки состояла не в попрании нравственности как таковой, а в оскорблении чести супруга. В Испании XIII века был, например, закон, по которому муж или жених, умертвивший «свою» женщину и ее любовника, освобождался от всякой ответственности: «не платил штрафа за человекоубийство и не приговаривался к смерти»80. В XIV веке в некоторых частях Италии обличенную в прелюбодеянии женщину публично пороли, проводили по улицам и изгоняли из города.
Трубадуры могли сколько угодно воспевать рыцарское отношение к прекрасному полу («С почтеньем к дамам относись» и т. д.) – это никак не отменяло того факта, что женщины повсеместно страдали от домашнего насилия. «Хоть взбалмошна жена, хоть благонравна, но палку заслужила равно!» – гласила флорентийская поговорка81. В сборнике обычаев французского права XIII века «Кутюмы Бовези» сказано: «В некоторых случаях мужчина может употреблять к жене истязание, и вмешательство правосудия тут излишне. Если последствием не является смерть или увечье, то наказывать жену за дурное поведение есть законное право мужа»82. Согласно английскому кодексу, составленному столетием позже, мужу дозволялось «давать жене законное и умеренное исправление»83. В сиенской книге наставлений XV века «Правила супружеской жизни» находим такие рекомендации мужьям:
«Коли видишь, что жена твоя учинила проступок, не спеши ее бранить, колотить да побоями наказывать; сперва мягко, ласково и снисходительно укажи ей на провинность, дабы она больше так не делала… <…> Но если жена твоя бестолкова, груба и невежественна, так что учтивыми словами ее не исправить, тогда отругай ее крепко, подвергни упрекам и устраши всякого рода угрозами. Если же и этого окажется мало… проучи ее хорошенько палкой… <…>…Бить жену надо не в гневе, но с ревностью о благе и радением о ее душе…»84
Автор одного английского руководства того же времени, напротив, не советует молодым людям обижать своих супруг, ссылаясь на следующее обстоятельство:
Пускай жена – служанка нам почти,
Но ведь она и друг, как ни крути85.
Что касается куртуазной литературы, то в плане содержания она, конечно, не вполне точно рисует жизнь тогдашних знатных дам, и все-таки сам факт ее появления кое-что говорит о социальной роли женщины в эпоху Высокого Средневековья. Зародившись на волне растущего благосостояния служилого рыцарства, эти лирические жанры явились выражением утонченных вкусов и запросов нового «праздного класса», и основную массу читателей этих модных сочинений составляли именно женщины. Несмотря на присущее феодализму доминирование мужского начала, в куртуазной традиции уже различимы черты будущей придворной и салонной культуры. Как рассказывает биограф короля Людовика IX Святого Жан Жуанвиль, во время битвы при Эль-Мансуре один из крестоносцев крикнул ему: «Клянусь Господом, нам еще приведется рассказывать об этом деньке в дамских покоях!»86 Надо полагать, рыцарь ярко представил себе, как обсуждают и восхваляют его подвиги на светском собрании в доме какой-нибудь госпожи. Примерно то же самое будет потом происходить в парижских салонах XVIII века или, скажем, в вашингтонских гостиных века двадцатого.
Совсем в ином ракурсе место и роль женщины предстают в зеркале средневековой науки, бившейся над разгадкой механизма человеческого воспроизводства. Если необходимость мужского семени для зачатия была очевидна и известна из практических наблюдений, то участие материнского организма в этом физиологическом процессе было по-прежнему покрыто тайной. Пройдет еще много столетий, прежде чем изобретут микроскоп, и только после этого будет открыта яйцеклетка млекопитающих – и человека в том числе.
За неимением микроскопа средневековым мыслителям не оставалось ничего лучшего, как полагаться на умозрения античных авторов, пытавшихся в меру сил объяснить тот наглядный факт, что потомство – как у животных, так и у человека – наследует черты обоих родителей. Уже Аристотель, чей авторитет был непререкаем во всех сферах знания, предполагал, что некоторое отношение к феномену воспроизводства имеют месячные выделения самок. Но в чем конкретно состоит репродуктивная функция женского организма? На этот вопрос не мог внятно ответить даже Аристотель, отчего и отводил женщинам второстепенную роль. Вывод философа состоит в том, что именно самец есть активное «действующее» начало, важнейшая порождающая сила в акте зачатия. Мужской пол является «движущим и действующим», тогда как женщина привносит во время полового сношения лишь некую «материю».
Вот как рассуждает Аристотель:
Если, по мнению некоторых, самка привносит во время полового сношения семя, так как иногда женщины испытывают то же удовольствие, что и мужчины, и вместе с тем у них появляется жидкое отделение, то ведь эта жидкость не семенная… <…> Женский пол характеризуется известного рода слабосилием, именно неспособностью варить семя… <…> Так как самец доставляет форму и начало движения, а самка… материю, то как при свертывании молока телом является молоко, а сок, или сычужина, – тем, что содержит в себе свертывающее начало, также действует начало, исходящее из самца в самку… <…>…Из них может возникнуть единое только таким образом, как из плотника и дерева – ложе, или как из воска и формы – шар87.
Кроме того, женщины, уверен Аристотель, «слабее и холоднее по природе, и женственность следует рассматривать как некий природный недостаток»88. Отталкиваясь от идей великого грека, Фома Аквинский считает само собой разумеющимся, что «женщина несовершенна и неудачна». Активная сила мужского семени направлена на воспроизводство «совершенного подобия», то есть зачатие ребенка мужского пола; если же рождается девочка, это связано с «каким-то изъяном в активной силе»89.
Немецкий ученый Альберт Великий, бывший наставником Фомы Аквинского в Парижском университете, по-своему интерпретирует и перерабатывает аристотелевские аргументы. Рассматривая природу женской сексуальности, он выдвигает по этому предмету собственную концепцию – надо сказать, весьма нестандартную по меркам тогдашней научной мысли. Путем «безупречных» логических выкладок схоласт приходит к выводу, что женщины испытывают большее половое влечение, чем мужчины, и получают более сильное наслаждение от любовного акта. В отличие от Аристотеля, Альберт убежден, что при оргазме женщины, подобно мужчинам, выделяют семенную жидкость, а раз они ее одновременно и выбрасывают и принимают, значит и удовольствие получают двойное. Менструальная кровь – это женское семя, которое накапливается в утробе в промежутках между месячными очищениями и разжигает плотское желание. Разрядка напряжения происходит с наступлением очередных месячных. Отсюда Альберт заключает, что по сравнению с мужчинами, испытывающими лишь краткий всплеск удовольствия, приятные ощущения у женщин значительно растянуты во времени. Пиком женского вожделения философ считает период беременности, когда менструации прекращаются, поскольку материя требуется для формирования и питания развивающегося эмбриона. Зададимся, однако, вопросом: на чем в конечном счете строятся эти «строгие» тезисы о повышенном женском либидо? Нетрудно заметить, что в основе лежит старое как мир представление о превосходстве сильного пола: женщина, существо по природе своей слабое и ущербное, жаждет соединения с мужчиной как существом полноценным, ибо все несовершенное в мире стремится к совершенному. Вполне понятно, что при такой логике именно женщине приписывается большее удовольствие от соития и заинтересованность в нем.
Выражаясь научным языком, Альберт считал половую активность благотворной и даже необходимой для женского организма. Объяснял он это «недугом», который происходит «от избытка испорченной и ядовитой менструальной крови». «А посему таким женщинам хорошо… часто вступать в половое общение с мужчинами, чтобы освободиться от этого вещества. Особенно полезно сие женщинам молодым, так как тела их полны влаги. <…> И действительно, молодые женщины, ввиду обилия в них этого вещества, большую тягу к соитию имеют…»
«Следовательно, – заключает ученый муж, – грешно и природе противно удерживать [женщину] от этого и воспрещать совокупляться с тем, кто ей мил, хотя такое поведение и предосудительно с точки зрения нравственности. Но здесь речь не об этом»90.
Куда более достоверная физиологическая теория, чем все описанные, принадлежит выдающемуся продолжателю Аристотеля – великому врачу и мыслителю II века н. э. Галену. Другое дело, что широкая европейская общественность познакомилась с его медицинскими трактатами лишь в XIV столетии – главным образом благодаря переводам с арабского91. Именно Гален предвосхитил догадку знаменитого английского анатома XVII века Уильяма Гарвея о существовании яйцеклетки92, высказав мысль, что у женщин имеются внутренние «яички», расположенные по обеим сторонам матки «и доходящие до ее рогов». По мнению классика античной медицины, эти анатомические структуры меньше мужских яичек, но, «точно как у мужчин», предназначены для выработки семени93.
Впоследствии влияние взглядов Галена на Западе было необычайным, но многие ученые опасались, как бы слабый пол не приобщился к этим знаниям и не возомнил себя равным сильному. «Женщина – самое спесивое и в высшей степени непокорное животное, – писал в XVI веке один итальянский медик. – Даже страшно подумать, во что бы она превратилась, если б узнала, что не уступает телесным совершенством мужчине и не хуже его пригодна для ношения штанов. <…> Природа, дабы обуздать постоянную охоту женщины верховодить, предусмотрительно устроила так, что при всякой мысли о своей мнимой94 неполноценности женщина становится покорной, кроткой и стыдливой…»95 Автору вторит его испанский коллега и современник, по словам которого идеи Галена необходимо держать в тайне от слабого пола, иначе женщины «еще пуще возгордятся от сознания того, что они… не только терпят тяготы, вынашивая существо в утробе своей… но и сами принимают участие в [его] зарождении»96.
Оставаясь в неведении относительно «опасного» галеновского открытия, лучшие европейские умы Средневековья уверенно отводили женскому организму пассивную, второстепенную роль в процессе зачатия. Правда, это ничуть не мешало им настаивать на исключительной порочности слабого пола. Альберт Великий тут был не одинок. Взять, к примеру, знатоков канонического (то есть церковного) права, которые с принципиальным недоверием относились к женщине, подозревая в любой похотливую кокетку. Авторитетный итальянский канонист XIII века Генрих Сузанский (Энрико ди Суза), кардинал-епископ Остии, приводит историю о священнике, который путешествовал в сопровождении двух девушек. Одна ехала на лошади впереди него, вторая сзади. Когда в конце паломничества его спросили о целомудренности его спутниц, он мог поклясться лишь относительно первой97.
«Муж, оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу», – учит апостол Павел98. Средневековые теологи однозначно трактовали это предписание в том смысле, что соитие является обязательным, если того желает один из супругов. Женщина, утверждает Остиец, непомерно сластолюбива, а долг мужа (моральный и юридический) – удовлетворять ее аппетиты. В противном случае слабое безвольное создание легко может впасть в прелюбодеяние, причем некоторые женщины до того невежественны, что даже не видят в такой распущенности никакого греха.
Жизнелюбивая Батская ткачиха из «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера тоже ссылается на Священное Писание:
Иначе в книгах почему б стояло:
«Муж да воздаст свой долг жене». Но чем?
Итак, те части создал Бог зачем?
Не ясно ль, что для мочеотделенья
Ничуть не боле, чем для размноженья99.
К понятию супружеского долга церковь относилась предельно серьезно. Яркой тому иллюстрацией служит высказывание монаха-хрониста Гвиберта Ножанского, являвшегося в XII веке настоятелем аббатства Девы Марии в Ножан-су-Куси. Рассказывая об одной знатной даме, известной множеством любовных похождений, – жене графа Намюра Сибилле де Порсьен, – благочестивый автор задается вопросом: «Смогла бы она блюсти себя, если бы он [граф] выполнял свой супружеский долг так часто, как она того хотела?»100
Гвиберт прекрасно знал, что далеко не все женщины распутны и бесчестны. У него перед глазами был пример собственной матери – женщины красивой, знатной, умной и ревностной в вере. «Едва достигнув брачного возраста», она была выдана замуж за дворянина, но до консумации союза прошло еще несколько лет: на почве обостренного благочестия юной жены, панически боявшейся греха, у мужа развилось половое бессилие. В семье поговаривали, что все дело в происках мачехи, которая навела на него порчу. Родственники молодого человека сначала пытались добиться расторжения брака, потом уговаривали его постричься в монахи (но «не для пользы его души, а с целью завладения его собственностью»). Видя тщету своих усилий, они переключились на девушку и принялись ее травить, чтобы она сама сбежала от мужа. Кроме того, богатые соседи стали осаждать ее в надежде соблазнить. «Колдовские чары» мачехи удалось преодолеть лишь после того, как по чьему-то «подлому совету» муж вступил в связь с другой женщиной и та прижила от него ребенка. С той поры препятствия для законной близости супругов были сняты, и мать Гвиберта «исполняла обязанности жены столь же покорно, как и [до того] хранила свою девственность»101.
Официальная позиция церкви заключалась в том, что сексуальные отношения в браке дозволительны лишь с целью продолжения рода. Что же до соития ради «утех» и потакания позывам плоти, то таковое признавалось грехом, хотя и не самым страшным (при условии, что пара не прибегала к противозачаточным средствам). Блаженный Августин, например, отмечает, что проступок этот весьма распространен и искупить его можно обычными богоугодными делами вроде раздачи милостыни. «Припомните доверительную беседу с теми, кто состоит или ранее состоял в браке, – говорит он. – Разве станет кто из них утверждать, что всегда вступает в плотское общение с женой исключительно из желания зачать потомство?»102 Смертный грех, по мнению Августина, не в этом, а в «неумеренной похоти»103.
Правовед начала XIII века Угуций Пизанский указывал, что половое сношение, с какой бы целью оно ни осуществлялось, неизбежно сопровождается «известным зудом и известным удовольствием… известным возбуждением», а значит, оно по определению есть грех, хотя «грех малый и простительный»104. Другие теологи выделяли в любовном акте отдельные стадии, допуская, что вступить в соитие с женой человек может ради благой цели (к «благим», помимо репродуктивных целей, относились избежание прелюбодеяния и исполнение супружеского долга). Однако нельзя поручиться, что в какой-то момент, чрезмерно распалившись, супруг не «уступит плотскому наслаждению»105 и тем самым не впадет в грех, пусть и простительный. Находились и такие схоласты, которые проводили еще более тонкую границу, различая «удовольствие, которому предаются», и «удовольствие, которое терпят»106.
Подобно позднейшим учреждениям, призванным заботиться о половой морали граждан, средневековая церковь считала своим долгом раздавать предписания относительно правильной позы в сексе. Здесь рекомендации богословов вполне совпадали с представлениями, которые бытовали тогда (да и много позже) среди широких масс: единственно приемлемой признавалась поза, которую мы сейчас называем миссионерской. Этот «канонический» вид полового акта рассматривался как естественный и подобающий, поскольку, во-первых, отражал главенствующую роль мужчины по отношению к женщине, а во-вторых, как считалось, повышал шансы на зачатие, то есть исполнение основной цели брака. Любое отклонение от «нормы» есть грех, причем смертный. На нерадивых прихожан, позволивших себе прибегнуть в спальне к «недозволенному» варианту, исповедник налагал епитимью. В период раннего Средневековья существовала целая система таких наказаний с разбивкой по категориям нарушений – будь то поза «женщина сверху», оральный секс, сношения через задний проход, прерванный половой акт или употребление противозачаточных снадобий. В зависимости от тяжести содеянного полагалось провести столько-то дней на хлебе и воде.
В более поздних пособиях для исповедников грехи, связанные с половой сферой, уже прямо не называются – чтобы священник ненароком не навел прихожан на непотребные мысли. Согласно одному из таких пенитенциалиев (покаянных книг), датируемых второй половиной XII века, для начала следовало обратиться к кающемуся со словами: «Любезный сын (дочь), тебе, быть может, трудно сразу припомнить всё тобою совершенное, а потому я задам тебе несколько вопросов». Затем надлежало расспросить человека по схеме семи смертных грехов, не задавая, однако, конкретных вопросов о его сексуальном поведении, ибо «нам доводилось слышать о мужчинах и женщинах, чрез одно только называние неведомых им преступлений впадавших в грехи, коих прежде они не знали»107. Ученый XIII века советует священникам во время исповеди использовать предельно обтекаемую формулировку: «Ты согрешил против природы, если познал женщину иначе, чем требует природа». Не нужно, подчеркивает автор, говорить открытым текстом, что́ имеется в виду, следует лишь намекнуть: «Ты прекрасно знаешь, какой способ естественен», – и допытываться дальше в том же духе, исподволь и деликатно108.
Многих мужей по понятным причинам возмущало, что исповедники расспрашивают их жен о столь интимных материях. Уже знакомый нам проповедник XV века Бернардин Сиенский рассказывает: «Бывает, глупая женщина, желая показаться порядочной, поведает мужу: „Священник спросил у меня об этом постыдном деле и захотел знать, чем я с тобой занимаюсь“, – а глупый муж приходит в негодование». Исповедники, которые на себе познали, что такое гнев взбешенных мужей, становились осторожней и сдержанней в расспросах. Бернардин этого не одобрял, призывая коллег не давать слабину и исправно исполнять свой профессиональный долг109.
Что касается различных средств контрацепции, то церковь их сурово осуждала, иногда приравнивая к убийству, иногда – рассматривая как презрение к воле Божией или отрицание истинной цели брачного союза. Французский теолог начала XV века Жан Жерсон в одной из своих проповедей обрушивается на супружеские «беззакония и грешные измышления» с такими речами: «Мыслимо ли, чтобы человек, вступая в брачное сожитие, препятствовал плодам своего брака? Говорю вам: часто сие есть грех, вечного огня достойный. Коротко сказать, любой способ, употребляемый против порождения потомства от союза мужа и жены, нечестив и предосудителен»110. Бернардин Сиенский выражается еще более резко: «Внемлите! Всякий раз, когда вы сходитесь с женой так, что не можете породить, всякий раз это смертный грех. <…> Я веду речь о способе. Всякий способ сношения, от которого не могут быть зачаты и рождены дети, есть грех. Велик ли сей грех? О, велик необычайно! Сие есть грех весьма тяжкий и ужасный!»111
Насколько соблюдались предписания относительно репродуктивного назначения брака – можно только гадать. Люди подлинно благочестивые, по всей видимости, старались им следовать. Например, жена французского короля Людовика IX Святого Маргарита Прованская поведала своему духовнику Гийому де Сен-Патю, что в периоды воздержания супруг из целомудрия избегает на нее смотреть, ибо «человеку не пристало смотреть на то, чем он не может овладеть». Исповедник королевы оставил нам агиографию Людовика Святого, из которой можно почерпнуть и другие подробности. Желая впечатлить читателя нравственной чистотой христианнейшего государя, Гийом сообщает, что Людовик первые три ночи после свадьбы провел в молитвах, не дотронувшись до новобрачной. Воздерживался король и в другое время: в период Адвента и Великого поста, а также в определенные дни каждой недели (по четвергам и субботам), накануне больших праздников и в сами праздничные дни и, наконец, в течение нескольких дней до и после причастия112.
О Ядвиге, супруге князя Силезии Генриха I Бородатого, известно, что, «будучи в тягости», она «уклонялась от супружеской близости и твердо отказывалась от соития до разрешения от бремени». Набожная княгиня неукоснительно соблюдала это правило во время вынашивания всех своих детей – трех сыновей и трех дочерей, а затем (очевидно, с согласия мужа) и вовсе «избрала целомудренную жизнь». Впоследствии Ядвига была канонизирована113.
Обычные люди такой строгостью нравов не отличались и, надо полагать, регулярно совершали сексуальные действия, расцениваемые как грех – смертный или простительный («отпустимый»). Провинности, за которые назначалось покаяние в виде поста и молитв, конечно, были далеко не редкостью – в противном случае их не стали бы заносить в пособия для исповедников. Каждая эпоха вырабатывает собственное отношение к человеческой сексуальности и стремится как-то ее регулировать. Средневековье здесь не изобрело почти ничего нового и во многом опиралось на опыт предшествующих эпох.
Проституция процветала в Европе с незапамятных времен, и государство с большим или меньшим успехом всегда пыталось ее контролировать. В период Высокого Средневековья этот вид деятельности в значительной степени подчинялся регламентации со стороны закона. Особенно это касалось больших городов, рынков и ярмарок – всех тех мест, где служанки, торговки и крестьянские дочки могли подзаработать древнейшим женским ремеслом. Бывало, что власти вводили для профессионалок своеобразный дресс-код: скажем, предписывали ходить в одежде с капюшоном или отличительным знаком на рукаве либо запрещали носить определенные аксессуары и украшения. В некоторых крупных поселениях, например Бристоле, проституток наряду с прокаженными выдворяли за пределы городских стен. Впрочем, продажные женщины чаще имели право жить в черте города, но только в определенных районах (так было заведено, например, в Лондоне). В Париже, как предполагают, существовала самая настоящая гильдия жриц любви, избравшая себе в покровительницы святую Марию Магдалину. Рекордное количество «лавочек» этих девиц находилось в Латинском квартале. Бордели вплотную соседствовали с хаотично разбросанными университетскими аудиториями и общежитиями, и, случалось, жаркие ученые диспуты на верхнем этаже перекрывались звуками перебранки снизу, где шлюхи ссорились между собою, с сутенерами или клиентами. Знаменитый французский проповедник Жак де Витри с негодованием описывает, как парижские блудницы приставали на улицах к клирикам, завлекая их «почти силою в свои дома разврата», а если те отказывались, насмешливо кричали им вслед, «называя содомитянами»114.
Церковь, как и вообще все политические и идеологические структуры, в теории осуждала торговлю телом, однако на практике не только ее терпела, но даже защищала право проституток получать плату за свои услуги. Считалось, что на панель женщин толкает слабоволие, присущее самой их природе, а потому для них предусматривались менее суровые наказания, чем для их клиентов, сутенеров и содержателей публичных домов. Отражением общественного презрения к проституткам было их ничтожное правовое положение, восходившее еще к римской эпохе: они не могли наследовать имущество, не могли самостоятельно выступать истицами и ответчицами в суде, но при этом никто не мешал им заниматься своим промыслом.
И все-таки Средневековью принадлежит одно замечательное начинание в сфере борьбы с этим социальным злом. В XI веке византийский император Михаил IV соорудил в Константинополе, который тогда был наводнен множеством публичных женщин, «монастырь величины несказанной и красоты неописуемой». Об этом сообщает современник тех событий, хронист Михаил Пселл. Своим указом самодержец объявил «всем женщинам, торгующим своими прелестями», что если они пожелают оставить свое ремесло, то могут облачиться в монашеское платье и жить в новом прибежище, не страшась нужды. Огромная толпа падших женщин стеклась туда, они «сменили одежду и нрав и стали юным воинством Божьим на службе добродетели»115. Начиная с XII века подобные инициативы стали возникать и на Западе. В 1227 году папа римский Григорий IX официально утвердил орден святой Марии Магдалины, помогавший кающимся грешницам начать новую жизнь. Сестринские обители возникли в десятках городов Европы. Монахини этого ордена носили строгие белые одеяния, отчего заслужили прозвище «белые дамы». По тому же пути социальных преобразований пошел Людовик IX Святой: убедившись в тщете своих усилий по искоренению проституции, он выделил средства на учреждение такого рода монастырей и приютов.
Другим возможным вариантом для женщин, желавших порвать с порочным прошлым, был брак. Правда, в эпоху начального христианства церковь такие союзы не одобряла, но со временем взгляды смягчились. Монах-правовед XII века Грациан в своем авторитетнейшем «Декрете» формулирует следующее правило: жениться на блуднице, не оставившей своего занятия, христианин не может, но если он берет ее в жены с намерением вывести из греха, такой брак допустим и даже похвален.
Повсеместная мужская мизогиния вызывала протест у многих средневековых женщин, независимо от сословия. Яркий пример – уже знакомая нам Батская ткачиха из «Кентерберийских рассказов» Чосера, женщина бойкая и непокорная. Пятый муж этой дамы по вечерам развлекался тем, что читал ей толстенную книгу, обличавшую «развратниц, женщин злых»:
Сперва про Еву, как с ее душой
Чуть не погиб навеки род людской.
(Чтоб искупить греховную любовь,
Потом свою пролил Спаситель кровь.)116
Вслед за тем муж прочел ей о коварной Далиле, погубившей силача Самсона; о Деянире, из-за которой Геркулес «на костер полез» и умер в страшных мучениях; о сварливых женах Сократа:
Муж злой жены – сколь жребий сей жесток!
Ведь вот Ксантиппа свой ночной горшок
Ему на голову перевернула,
И спину лишь покорнее согнул он,
Обтерся и промолвил, идиот:
«Чуть отгремело, и уж дождь идет».
Потом читал про Пасифаю, «королеву Крита, которая распутством знаменита»; про «сущего демона», мужеубийцу Клитемнестру; про Эрифилу, выдавшую врагам Амфиарая; про Люцию и Ливию, отравивших своих мужей…
Насобирал он в книгу этих тварей
Со всех народов и со всех времен.
Читал еще он про каких-то жен,
Которые, мужей убив в постели,
С любовниками до утра храпели,
Меж тем как труп у ног их холодел.
<…>
И столько в этой книге было зла…
Ткачиха долго крепилась, но в итоге не выдержала и дала мужу затрещину:
И в этот раз поняв, что нет конца
Проклятой книге и что до рассвета
Он собирается читать мне это, —
Рванула я из книги три страницы
И, прежде чем успел он защититься,
Пощечину отвесила я так,
Что навзничь повалился он в очаг.
Муж не растерялся и ответил увесистым ударом «в ухо», после чего супруги долго дулись друг на друга, но в конечном счете «был восстановлен мир». Договорились, что отныне всем будет заправлять жена: муж передал в ее руки власть над «землей и домом», позволив распоряжаться своей «жизнью и кровом», а проклятую книгу бросили в огонь. «Мы с той поры не ссорились ни разу», – торжествующе заключает жена117.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе