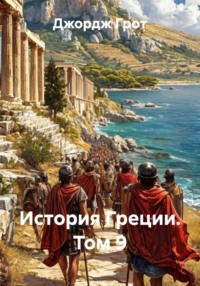Читать книгу: «История Греции. Том 9», страница 3
Солдаты согласились с этим предложением, так как отступление явно было непростой задачей. Делегация отправилась к Киру с вопросом; тот ответил, что его истинная цель – атаковать врага Аброкома, находящегося на Евфрате в двенадцати днях пути. Если Аброком будет там, он получит заслуженное наказание. Если же бежит – они смогут снова обсудить дальнейшие действия.
Услышав это, солдаты заподозрили обман, но, не зная иного выхода, согласились. Они потребовали лишь повышения жалования. Ни слова не было сказано о Великом царе или походе против него. Кир увеличил плату на 50%: вместо одного дарика в месяц каждый солдат стал получать полтора [53].
Эта примечательная сцена в Тарсе иллюстрирует характер греческих граждан-солдат. Главное – обращение к их разуму и суждению, привычка, распространенная среди многих греков и достигшая максимума в Афинах: выслушать обе стороны перед решением. Солдаты справедливо возмущены обманом, но вместо того, чтобы поддаться эмоциям, они анализируют текущую ситуацию и планируют будущее. Вернуться против воли [стр. 26] Кира было столь рискованно, что их решение оказалось наиболее разумным. Продолжение пути было менее опасно и сулило невиданные награды.
По примеру Клеарха и его отряда вся армия двинулась из Тарса и за пять дней достигла Исса – крайнего города Киликии, перейдя реки Сарос [54] и Пирам. В Иссе, процветающем порту на заливе, к Киру присоединился флот из 50 триер (35 лакедемонских и 25 персидских), доставивший 700 гоплитов под командованием спартанца Хейрисофа, отправленного эфорами [55]. Также прибыли 400 греческих солдат, доведя общее число греков до 14 000, за вычетом 100 погибших из отряда Менона в Киликии [стр. 27].
Прибытие этих 400 солдат имело значение: ранее они служили Аброкому (персидскому полководцу с армией в 300 000 человек в Финикии и Сирии), но перешли к Киру. Это дезертирство показало их нежелание сражаться против соотечественников и деморализацию в войсках царя. Аброком бежал с сирийского побережья, оставив три ключевые позиции: 1. Киликийско-сирийские ворота. 2. Перевал Бейлан через Аманус. 3. Переправу через Евфрат. Его испугало легкое продвижение Кира из Каппадокии в Киликию и, вероятно, тайный сговор с Синнесисом [56].
Кир ожидал, что ворота Киликии и Сирии будут сильно укреплены, и предусмотрел эту возможность, приведя свой флот в Исс, чтобы иметь возможность перебросить часть войск морем в тыл защитников. Перевал находился в одном дневном переходе от Исса. Это была узкая дорога протяженностью около полумили между морем с одной стороны и крутыми скалами, окаймляющими гору Аманус, с другой. Оба входа – со стороны Киликии и Сирии – были закрыты стенами и воротами; посередине между ними река Керсус вытекала из гор и впадала в море. Никакая армия не смогла бы прорвать этот перевал против защитников; но владение флотом, несомненно, позволяло атакующему обойти его. Кир был вне себя от радости, обнаружив перевал незащищенным. [57] Здесь мы не можем не отметить превосходные способности и предусмотрительность Кира по сравнению с другими персами, противостоявшими ему. Он заранее изучил эту и другие трудности своего похода и подготовил средства для их преодоления; тогда как со стороны царя все многочисленные средства и возможности обороны последовательно [p. 28] отвергаются; персы не полагаются ни на что, кроме огромной численности, – или, когда численность не помогает, на предательство.
Пройдя пять парасангов, или один дневной переход от этого перевала, Кир достиг финикийского приморского города Мириандра, крупного торгового центра с гаванью, полной купеческих судов. За семь дней отдыха здесь два его генерала, Ксения и Пасион, дезертировали, тайно наняв торговое судно для бегства со своим имуществом. Они не смогли смириться с несправедливостью, которую Кир допустил, разрешив Клеарху сохранить под своим командованием солдат, дезертировавших от них в Тарсе во время его коварного маневра. Возможно, эти солдаты не желали возвращаться к своим прежним командирам после столь оскорбительного поступка. Это частично объясняет политику Кира, одобрившего то, что Ксения и Пасион восприняли как великую несправедливость, с которой симпатизировала большая часть армии. Среди солдат ходили слухи, что Кир немедленно отправит триремы, чтобы догнать беглецов. Однако вместо этого он собрал оставшихся генералов и, сообщив о бегстве Ксении и Пасиона, добавил: «У меня достаточно трирем, чтобы догнать их судно и вернуть, если я захочу. Но я не стану этого делать. Никто не скажет, что я использую человека, пока он со мной, а потом хватаю, граблю или обижаю его, когда он уходит. Их жены и дети остаются заложниками в Траллах; [58] но даже их я отпущу в знак признания их хорошей службы до сегодняшнего дня. Пусть уходят, если хотят, зная, что они поступают со мной хуже, чем я с ними». Этот мудрый и примирительный поступок вызвал всеобщее восхищение и поднял дух армии, укрепив доверие к Киру, что помогло преодолеть [p. 29] царившее уныние перед неизвестным походом. [59]
В Мириандре Кир окончательно покинул море, отправив флот обратно, [60] и двинулся с сухопутными силами на восток, вглубь страны. Для этого предстояло пересечь гору Аманус через перевал Бейлан – крайне трудный путь, который, к счастью, оказался свободным, хотя Аброком мог легко его защитить. [61] Четыре дня марша привели армию к Халусу (возможно, реке Алеппо), богатому рыбой, почитаемой местными жителями; еще пять дней – к истокам реки Дарадакс с дворцом и парком сирийского сатрапа Белесиса; через три дня достигли Фапсака на Евфрате. Это был крупный процветающий торговый город, обогащенный важной переправой через Евфрат, расположенной около 35° 40′ с.ш. [62] На момент прибытия кирян река [p. 30] была шириной в четыре стадия (чуть менее полумили).
Кир пробыл в Фапсаке пять дней. Теперь ему пришлось открыто объявить солдатам истинную цель похода, до сих пор скрываемую. Он собрал греческих генералов и велел им публично сообщить, что движется на Вавилон против брата – что самим генералам, вероятно, уже было известно. Однако среди солдат это известие вызвало ропот и обвинения генералов в предательстве. Но это была иная реакция, чем яростное сопротивление в Тарсе. Видимо, они догадывались о правде, и их недовольство вскоре сменилось требованием выплаты каждому по достижении Вавилона – подобно той, что Кир ранее выдал греческому отряду. Кир охотно пообещал по пять мин на человека (около £19 5s.), что превышало годовое жалованье по недавно установленной ставке в полтора дарика в месяц. Он также обязался выплачивать полное жалованье до возвращения на Ионийское побережье. Эти щедрые обеды удовлетворили греков, ослабив страх перед неизведанными землями.
Но прежде чем основная часть солдат дала согласие, Менон со своим отрядом уже начал переправу. Менон убедил своих людей действовать самостоятельно, опередив остальных: «Так вы окажете Киру особую услугу и получите награду. Если другие последуют вашему примеру, он сочтет это своей заслугой. Если же они откажутся, нам придется отступить, но он запомнит вашу преданность». Этот эгоистичный шаг, подрывающий единство, соответствовал коварному характеру Менона. Однако он добился цели: Кир, узнав о переправе, через переводчика Глуса выразил благодарность, пообещав не забыть услугу, и тайно одарил Менона. [63] Вся армия вскоре пересекла реку вброд – вода не поднималась выше груди.
Что же случилось с Аброкомом и его армией? Ранее он сжег все суда в Фапсаке, считая, что переправа вброд невозможна. Жители утверждали, что Евфрат никогда не был столь мелким, и низкий уровень воды восприняли как божественное знамение в пользу Кира. [64] [p. 32]
Переправившись, Кир девять дней [65] шел на юг вдоль левого берега Евфрата до впадения реки Аракс (Хабор), разделявшей Сирию и Аравию. В богатых деревнях он запаслись провизией перед пустынным маршем через Аравию. Здесь началась «пустыня» – бескрайние холмы, «подобные морю», без растительности, кроме полыни и кустарников. [66] Греки впервые увидели диких ослов, антилоп, страусов, дроф, на которых охотились всадники. Пять дней привели их в Корсоту, покинутый жителями город, [67] где армия пополнила запасы. Затем последовали тринадцать дней и девяносто парасангов вдоль Евфрата без провизии и пастбищ. Солдаты ели мясо, гибли вьючные животные. Тяжелая местность с холмами и оврагами требовала усилий всех, включая персидских вельмож, трудившихся в грязи в роскошных одеждах. [68] После этого армия достигла Пилы, у границ Вавилонии, где отдыхала пять дней. [69] На противоположном берегу находился город Харманда, куда солдаты переправились на бурдюках, добыв финиковое вино и просо. [70]
Во время этой остановки напротив Харманды среди самих греков возник спор, угрожавший безопасности всех. Я уже упоминал, что Клеарх, Менон, Проксен и каждый из греческих военачальников имели отдельное командование над своим отрядом, подчиняясь лишь верховной власти самого Кира. Когда некоторые солдаты Менона вступили в столкновение с людьми Клеарха, последний рассмотрел дело, признал одного из солдат Менона виновным в проступке и приказал высечь его. Товарищи наказанного возмутились этим до такой степени, что, когда Клеарх, покинув берег реки, ехал через лагерь Менона к своей палатке в сопровождении лишь нескольких спутников, один из солдат, рубивший дрова, швырнул в него топор, а другие начали осыпать его камнями и насмешками. Клеарх, избежав ранений и добравшись до своего отряда, немедленно приказал солдатам взяться за оружие и построиться в боевой порядок. Он сам возглавил фракийских пельтастов и сорок всадников, двинувшись враждебно на отряд Менона; те, в свою очередь, схватились за оружие под предводительством самого Менона и приготовились к обороне. Малейший инцидент мог привести к непоправимому кровопролитию, если бы Проксен, появившийся в тот момент со своими гоплитами, не встал в боевом строю между враждующими сторонами [p. 36] и не умолял Клеарха прекратить нападение. Тот сначала отказался. Возмущенный тем, что его недавнее оскорбление и едва избегнутая гибель воспринимались так легкомысленно, он потребовал, чтобы Проксен отступил. Его гнев не утих до тех пор, пока сам Кир, узнав о серьезности угрозы, не прискакал со свитой, держа в руках два дротика.
– Клеарх, Проксен и все вы, эллины, – сказал он, – вы не понимаете, что творите. Уверяю вас: если сейчас начнется схватка, это станет часом моей гибели – а вскоре и вашей. Ибо если ваша сила будет сломлена, все эти туземцы вокруг станут врагами для нас куда страшнее, чем те, кто ныне служит царю.
Услышав это (пишет Ксенофонт), Клеарх образумился, и войска разошлись без столкновения [71].
После прохода Пилы началась территория, называемая Вавилонией. Холмы, окаймлявшие Евфрат, по которым армия шла до сих пор, вскоре закончились, уступив место низменным аллювиальным равнинам [72]. Теперь стали заметны первые за весь долгий поход следы вражеских сил, опустошавших страну и выжигавших траву. Именно здесь Кир раскрыл предательство персидского вельможи по имени Оронт, которого допрашивал в своем шатре в присутствии доверенных персов, а также Клеарха с отрядом из трех [p. 37] тысяч гоплитов. Оронт был признан виновным и тайно казнен [73].
После трехдневного марша, оцененного Ксенофонтом в двенадцать парасангов, Кир, судя по имевшимся данным или донесениям перебежчиков, убедился, что вражеская армия близко и битва неизбежна. Посреди ночи он собрал все войско, эллинов и варваров, но противник, вопреки ожиданиям, не появился. Здесь же была проведена перепись: у эллинов оказалось десять тысяч четыреста гоплитов и две тысячи пятьсот пельтастов; в азиатском войске Кира – сто тысяч человек и двадцать серпоносных колесниц. Число греков сократилось за время похода из-за болезней, дезертирства и прочих причин. Перебежчики сообщали, что армия Артаксеркса насчитывает миллион двести тысяч человек, не считая шести тысяч всадников гвардии под командованием Артагерса и двухсот серпоносных колесниц Аброкома, Тиссаферна и других. Позже выяснилось, однако, что силы Аброкома еще не присоединились, а численность врага была преувеличена на четверть.
Ожидая сражения, Кир собрал греческих стратегов и лохагов (капитанов), чтобы обсудить порядок действий и укрепить их преданность. Немногие моменты в этом повествовании столь же поразительны, как речи персидского принца к эллинам:
– Не от недостатка собственных сил, мужи Эллады, я привел вас сюда, но потому, что считаю вас лучше и храбрее любого числа туземцев. Докажите же ныне, что достойны свободы, которой владеете – свободы, которой я завидую и которую предпочел бы всем своим сокровищам, умноженным в тысячу раз. Узнайте от меня, знающего это хорошо, что вам предстоит встретить – толпы и шум; но если презреете их, мне стыдно говорить, сколь ничтожны эти люди. Сражайтесь достойно – как доблестные мужи, и верьте: я верну вас домой так, чтобы друзья вам завидовали. Впрочем, надеюсь, многие из вас предпочтут мою службу родным очагам.
– Некоторые из нас замечают, Кир, – сказал изгнанник-самиец Галитей, – что вы щедры на обещания в час опасности, но забудете их или не сможете выполнить, когда опасность минует…
– Что до возможностей, – ответил Кир, – владения моего отца простираются на север до нестерпимого холода, на юг – до нестерпимого зноя. Все между ними ныне разделено на сатрапии между друзьями брата; но если мы победим, все достанется моим друзьям. Я боюсь не того, что мне нечего будет дарить, а того, что не хватит друзей, чтобы одарить. Каждому из вас, эллинов, я подарю золотой венок.
Подобные заявления, повторенные Киром многим греческим солдатам, наполнили всех уверенностью и рвением. Воодушевленные этим, Клеарх спросил:
– Неужели ты думаешь, Кир, что брат сразится с тобой?..
– Клянусь Зевсом, – ответил тот, – если он сын Дария и Парисатиды, мой брат, то без боя я не получу царства.
Все эллины умоляли его не рисковать жизнью и оставаться позади их строя [74]. Вскоре мы увидим, как он последовал этому совету.
Эти речи, как и слова, произнесенные во время спора Клеарха с солдатами Менона у Харманды, будучи подлинными (а не драматическими вымыслами, как у Эсхила в «Персах», или риторическими украшениями, как речи Ксеркса у Геродота), – бесценное свидетельство об эллинском характере. Кир подчеркивает не только превосходство греков в храбрости и дисциплине над трусостью азиатов, но и их верность, противопоставляя ее предательству последних [75], связывая эти добродетели с их свободой. Для эллинских воинов не было лести выше, чем слышать, как юный принц восхищается их свободой и предпочитает ее собственному величию.
Естественное персидское мнение выражено в беседе Ксеркса с Демаратом у Геродота. Для Ксеркса идея свободного гражданства – с ее дисциплиной, патриотизмом и равенством – была не просто чужда, но непонятна. Он видел лишь господина, повелевающего подданными, и воинов, движимых кнутом. Кир же, его потомок, научился ценить достоинство эллинов, основанное на самоуправлении и законе как единственном господине [77]. Он знал, как затронуть эллинскую честь – ту, что позже угасла под македонским игом, сменившись умственной живостью и моральным упадком, отмеченными Цицероном [p. 40].
Согласовав боевой порядок, Кир на следующий день двинулся осторожным строем, ожидая появления царских сил. Но их не было видно, хотя следы отступления были очевидны. Пройдя три парасанга без боя, Кир подарил амбракийскому пророку Силану три тысячи дариков (десять аттических талантов). Силан предсказал за десять дней до этого, что битвы не будет в течение десяти дней; тогда Кир пообещал награду, если пророчество сбудется [78].
Теперь Кир начал верить, что враг избегает сражения, особенно после того, как армия беспрепятственно преодолела ров шириной 30 футов и глубиной 18 футов, оставшийся без защиты. Этот ров, выкопанный по приказу Артаксеркса на протяжении 12 парасангов (около 42 миль) до Мидийских стен [79], должен был стать преградой для вторжения. Однако отсутствие защитников позволило войску Кира пройти через узкий 20-футовый проход. Это первое оборонительное сооружение, встреченное за весь поход, было брошено по необъяснимой причине.
Через два дня после преодоления рва, у Кунаксы [81], когда армия готовилась к полуденному отдыху, внезапно пришло известие о приближении царского войска. Кир спешно вооружился, а греки построились в боевой порядок. Они заняли правый фланг у Евфрата; Арией с азиатскими силами – левый; сам Кир с 600 всадниками – в центре. Среди греков Клеарх командовал правым крылом гоплитов, Проксен – центром, Менон – левым. Персидская конница Кира была облачена в панцири и шлемы, с дротиками в руках; кони защищены нагрудниками. Кир выделялся высокой тиарой вместо шлема.
Враги появились ближе к вечеру: сначала как белое облако пыли, затем – темные массы с блестящими доспехами. Тиссаферн на левом фланге вел персидскую конницу в белых панцирях; справа от него – лучники с плетеными щитами; далее – египетская пехота с длинными щитами. Впереди выстроились серпоносные колесницы, готовые атаковать греческую фалангу [83].
Когда греки завершали построение, Кир подъехал вперед и приказал Клеарху атаковать с греками центр вражеского войска, где, по его словам, должен находиться сам царь. Одолеть центр, считал он, – значит обеспечить победу. Однако численное превосходство Артаксеркса было таково, что его центр простирался дальше левого фланга Кира. Клеарх, опасаясь оставить правый фланг неприкрытым у реки и быть атакованным с тыла и с фланга, решил сохранить позицию на правом крыле, лишь ответив Киру, что всё устроится к лучшему. Ранее уже отмечалось [84], как часто страх перед атакой с незащищенного фланга или тыла заставлял греческих воинов совершать маневры, противоречащие военной целесообразности. Как станет ясно далее, Клеарх, слепо следуя этому привычному правилу предосторожности, допустил роковую ошибку, оставаясь на правом фланге вопреки более разумному указанию Кира [85]. Некоторое время Кир медленно ехал вдоль строя, оглядывая оба войска, когда Ксенофонт, один из немногих греческих всадников, прикомандированный к отряду Проксена, выехал из строя, чтобы спросить его указаний. Кир велел объявить всем, что жертвы благоприятны. Услышав ропот в греческих рядах, он спросил Ксенофонта о причине, и тот ответил, что пароль передают во второй раз. Удивленный Кир поинтересовался, кто дал пароль и каков он. «Зевс Спаситель и Победа», – ответил Ксенофонт. «Принимаю, – сказал Кир, – пусть так и будет». Сразу после этого он направился в центр, к своим азиатским войскам. [с. 45]
Огромное войско Артаксеркса, продвигавшееся в полной тишине, уже находилось менее чем в полумиле от киреев, когда греки запели пеан – боевой гимн – и двинулись вперед. По мере приближения их крики усиливались, шаг ускорялся, и в итоге весь строй перешел на бег [86]. Это могло обернуться катастрофой, если бы противник не был персидским. Но персы не выдержали атаки. Они обратились в бегство, едва греки оказались на расстоянии выстрела. Паника была столь велика, что даже возницы серпоносных колесниц, бросив упряжки, бежали вместе с остальными. Лошади, оставшиеся без управления, метались в разные стороны: одни поворачивали за беглецами, другие неслись на греков, которые расступались, пропуская их. Левый фланг царя был разгромлен без единого удара, и, казалось, без потерь с обеих сторон – лишь один грек был ранен стрелой, а другой пострадал, не успев увернуться от колесницы [87]. Исключением стал Тиссаферн, находившийся на крайнем левом фланге персов у реки с отрядом всадников. Он прорвался сквозь греческих пельтастов, стоявших между гоплитами и рекой под командованием Эписфена Амфипольского. Пельтасты расступились, пропуская всадников, и поражали их дротиками, не потеряв ни одного человека. Тиссаферн вышел в тыл грекам, которые тем временем преследовали бегущих персов [88].
На других участках события развивались иначе. Артаксеркс, находясь в центре своего войска, благодаря численному превосходству обходил фланг Ариэя, командовавшего левым крылом киреев [89]. Не встретив сопротивления, он начал охватывать правым крылом противника, не замечая бегства своего левого фланга. Кир же, увидев легкую победу греков, ликовал. Окружающие приветствовали его как царя. Однако он сдержал порыв броситься вперед, словно победа уже одержана [90], и оставался на месте с шестисотенным отрядом всадников, наблюдая за маневрами Артаксеркса. Заметив, что тот ведет правое крыло в обход тыла киреев, Кир стремительно атаковал центр, где находился сам царь в окружении шеститысячной конной гвардии Артагерса. Атака была столь яростной, что шестьсот всадников Кира смяли гвардию, а сам он убил Артагерса. Его отряд увлекся преследованием, оставив Кира почти в одиночестве с несколькими «сотрапезниками». Именно тогда он впервые увидел брата, чья фигура обнажилась после бегства гвардейцев. Вид Артаксеркса вызвал у Кира приступ ярости и честолюбия [91]. «Вот он!» – воскликнул он и, забыв о безопасности, с горсткой спутников бросился на брата, несмотря на окружавшую того толпу. Кир метнул дротик, который пробил панцирь и ранил Артаксеркса в грудь. Рана (позже вылеченная греческим врачом Ктесием) оказалась не смертельной: царь остался на поле и вступил в схватку с нападавшими. Неравный бой длился недолго. Карский воин метнул дротик, ранив Кира под глазом. Тот упал с коня и был убит. Верные спутники погибли, защищая его [с. 47]. Артасир, самый преданный из них, увидев смертельно раненого Кира, бросился на тело, обнял его и либо закололся, либо был убит по приказу царя [92].
Голову и правую руку Кира по приказу Артаксеркса отрубили и выставили на обозрение, что стало сигналом конца битвы. Ариэй с азиатскими войсками Кира бежал в лагерь. Не оказав сопротивления при преследовании, они отступили к стоянке предыдущей ночи. Воины Артаксеркса разграбили лагерь, захватив даже гарем Кира. Там оказались две гречанки знатного происхождения – Мильто из Фокеи и младшая из Милета, насильно доставленные к нему в Сарды. Мильто, славившаяся красотой и умом, попала в гарем Артаксеркса. Вторая, лишившись верхней одежды, спаслась среди греков, охранявших обоз. Те отбили атаку, сохранив имущество и укрывшихся [с. 48]. Однако азиатский лагерь киреев был разграблен полностью, включая запасные повозки с провизией, заготовленные Киром для греков [94].
Пока Артаксеркс грабил лагерь, к нему присоединился Тиссаферн с конницей, прорвавшейся между греками и рекой. Клеарх же, преследуя бегущих, оторвался на тридцать стадий (около 3,5 миль). Узнав о победе царя в центре и захвате лагеря (но не о смерти Кира), он повернул обратно. Опасаясь окружения, Клеарх прижался к реке. Артаксеркс выстроил войска для атаки, но греки опередили его, вновь обратив персов в бегство. Клеарх, не встречая сопротивления, ожидал вестей о Кире, затем вернулся в разграбленный лагерь. Греки остались без ужина, а многие – и без обеда, так как битва началась рано [95]. Лишь на следующее утро через Прокла (потка спартанского царя Демарата, спутника Ксеркса) они узнали о гибели Кира, что омрачило их победу [96].
Так завершилась битва при Кунаксе, похоронив амбиции юного принца. Его характер и действия заслуживают внимания. В этой экспедиции и в управлении Малой Азией он проявил качества, не свойственные ни Киру Великому, ни другим персидским правителям. Его отличали дальновидность, умение предвидеть трудности, гибкость в управлении разнородными силами, сочетание щедрости с честностью. Как отмечает Ксенофонт, к Киру перебегали многие, тогда как от него – лишь Оронт [97]. Даже в битве его решение атаковать центр было вернее осторожности Клеарха. Победа была близка, но ярость при виде брата погубила его. Ненасытное честолюбие, ранее толкавшее его убивать родственников за малейшее неуважение [98], вновь лишило рассудка. Фратрицидная вражда, обычная в царских семьях, стоила Киру жизни. [с. 50—51]
Однако можно отметить, что Эллада в целом не имела причин сожалеть о поражении Кира при Кунаксе. Если бы он сверг своего брата и стал царем, Персидская империя обрела бы под его властью такую мощь, которая, вероятно, позволила бы ему предвосхитить дело, впоследствии осуществленное македонскими царями, и подчинить себе греков как в Европе, так и в Азии. Он использовал бы греческую военную организацию против греческой независимости, как позже поступали Филипп и Александр. Его богатства позволили бы ему нанять подавляющее число греческих командиров и солдат, которые, по выражению Проксена, зафиксированному Ксенофонтом [99], считали бы его лучшим другом, чем их собственное отечество. Это также позволило бы ему воспользоваться раздорами и продажностью внутри каждого греческого города, ослабляя их оборонительные возможности и усиливая свои наступательные. Подобная политика была не по силам ни одному из персидских царей – от Дария, сына Гистаспа, до Дария Кодомана; никто из них не понимал истинной ценности греческих инструментов или того, как эффективно их использовать. Все действия Кира в ходе этого знаменательного похода демонстрируют выдающийся ум, способный использовать ресурсы, которые оказались бы в его руках в случае победы, – и амбиции, направленные на то, чтобы обратить эти ресурсы против греков, отомстив за унижения при Марафоне, Саламине и за условия Каллиева мира. [p. 52]
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе