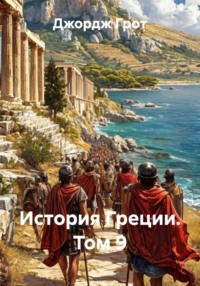Читать книгу: «История Греции. Том 9», страница 2
События в Азии – усилия Спарты оторвать Великого царя от Афин. – Спартанец Анталкид отправлен послом к Тирибазу. Конон и другие послы также направлены от Афин и антиспартанских союзников. – Анталкид предлагает сдать греков Малой Азии и требует автономии для всех греческих полисов – антиспартанские союзники отказываются принять эти условия. – Враждебность Спарты ко всем частичным союзам Греции, впервые провозглашенная под лозунгом всеобщей автономии. – Анталкид завоевывает расположение Тирибаза, который тайно поддерживает Спарту, хотя мирные предложения проваливаются. Тирибаз арестовывает Конона – карьера Конона завершается либо смертью, либо заключением. – Тирибаз не может убедить персидский двор, который продолжает враждебно относиться к Спарте. Струф послан действовать против лакедемонян в Ионии. – Победа Струфа над Фиброном и лакедемонским войском. Фиброн убит. – Дифрида сменяет Фиброна. – Лакедемонский флот на Родосе – внутренние раздоры на острове. – Афиняне посылают помощь Эвагору на Кипр. Верность, с которой они поддерживают его, хотя союз с ним стал неудобен. – Фрасибул отправлен с флотом из Афин к берегам Малой Азии – его успехи в Геллеспонте и Боспоре. – Победа Фрасибула на Лесбосе – он собирает дань вдоль малоазийского побережья – убит близ Аспенда. – Характер Фрасибула. – Агиррий сменяет Фрасибула – Родос продолжает сопротивляться лакедемонянам. – Анаксибий назначен командующим в Геллеспонте вместо Деркиллида – его энергичные действия – он лишает Афины доходов от пролива. – Афиняне отправляют Ификрата с пельтастами и флотом в Геллеспонт. Его хитрость для внезапного нападения на Анаксибия. – Поражение и гибель Анаксибия. – Афины вновь становятся хозяевами Геллеспонта и сборов с пролива.
Остров Эгина – его прошлое. – Эгинеты вынуждены Спартой вступить в войну с Афинами. Лакедемонский адмирал Телевтий на Эгине. Его сменяет Иеракс. Его необычайная популярность среди моряков. – Иеракс отправляется на Родос, оставив Горгопа на Эгине. Переход лакедемонянина Анталкида в Азию. – Горгоп застигнут врасплох на Эгине, разбит и убит афинским полководцем Хабрием; который затем отправляется помогать Эвагору на Кипр. – Лакедемонские моряки на Эгине не получают жалованья и недовольны. Телевтий послан, чтобы успокоить их. – Внезапная и успешная атака Телевтия на Пирей. – Неподготовленность и отсутствие охраны в Пирее – Телевтий захватывает богатую добычу и уходит безнаказанно. – Он получает возможность выплатить жалованье морякам – активность флота – большой ущерб афинской торговле. – Финансовое положение Афин. Теорикон. – Прямые налоги на имущество.
Анталкид едет с Тирибазом в Сузы – его успех при персидском дворе – он привозит условия мира, запрошенные Спартой, утвержденные Великим царем, чтобы Спарта могла навязать их от его имени. – Анталкид командует лакедемонским и сиракузским флотами в Геллеспонте при персидской поддержке. Его успехи против афинян. – Отчаяние и упадок духа в Афинах – стремление антиспартанских союзников к миру. – Тирибаз созывает их всех в Сарды, чтобы огласить условия, присланные Великим царем. – Условия соглашения, названного Анталкидовым миром. – Конгресс в Спарте для принятия или отклонения. Все стороны принимают. Фиванцы сначала принимают с оговоркой о беотийских городах. – Агесилай отказывается признать фиванскую оговорку и требует безусловного принятия. Его стремление, из ненависти к Фивам, втянуть Спарту в войну с ними один на один. Фиванцы вынуждены принять условия безоговорочно. – Агесилай заставляет коринфян изгнать своих аргосских союзников. Филоаргейские коринфяне уходят в изгнание; филолаконские коринфяне возвращаются к власти.
[стр. 1]
Глава LXIX. КИР МЛАДШИЙ И ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ГРЕКОВ.
В моем предыдущем томе я довел историю греческих дел до завершения Пелопоннесской войны, включая описание утраты Афинами имперской власти, временного угнетения, освобождения и возрождения демократии, которые определили судьбу побежденного города. Поражение некогда могущественных Афин, достигнутое спартанским союзом при значительной финансовой поддержке молодого персидского принца Кира, сатрапа большей части ионийского побережья, сделало Спарту на время владычицей греческого мира. Лисандр, ее победоносный флотоводец, использовал свою временную власть для установления в большинстве городов декархий – правящих советов из десяти своих сторонников, – подкрепленных спартанскими гармостами и гарнизонами, обеспечивавшими олигархическое правление.
Однако прежде чем перейти к описанию неожиданных бедствий, обрушившихся на греческий мир, и их последствий, стоит изложить историю похода десяти тысяч греков в сердце Персидской империи и их еще более знаменитого отступления. Этот эпизод, выходящий за рамки основной линии греческой истории, строго говоря, относится скорее к персидской, чем к греческой хронике. Однако его влияние на греческое сознание и дальнейший ход событий было значительным [p. 2]; а как пример противостояния эллинского духа и умений с качествами современных им азиатов он остается выдающимся и поучительным.
Поход от Сард до окрестностей Вавилона, возглавляемый Киром Младшим и предпринятый с целью свержения его старшего брата Артаксеркса Мнемона, начался в марте или апреле 401 г. до н. э. Примерно через шесть месяцев, в сентябре или октябре того же года, состоялась битва при Кунаксе, в которой греки одержали победу, но сам Кир погиб. После этого им пришлось начать отступление, занявшее около года и завершившееся прибытием к Боспору Фракийскому и Византию в октябре или ноябре 400 г. до н.э.
Смерть царя Дария Нота, отца Артаксеркса и Кира, произошла в начале 404 г. до н.э., вскоре после разгрома афинских сил при Эгоспотамах. Его девятнадцатилетнее правление, как и почти сорокалетнее правление его отца Артаксеркса Долгорукого, заполняют промежуток от смерти Ксеркса в 465 г. до н. э. Закат царствований как Ксеркса, так и его сына Артаксеркса сопровождался заговорами, убийствами, братоубийствами и семейными трагедиями, типичными для передачи власти на Востоке. Ксеркс был убит дворцовым сановником Артабаном, получившим от него на пиру приказ казнить старшего сына Дария, но не выполнившим его. Артабан переложил вину за убийство на Дария, убедив Артаксеркса отомстить, убив брата, а затем попытался устранить самого Артаксеркса, но был убит после нескольких месяцев правления. Артаксеркс Долгорукий, правивший около сорока лет, передал трон сыну Ксерксу II, который через несколько месяцев был убит братом Согдианом; тот же, в свою очередь, через семь месяцев пал от руки третьего брата – упомянутого Дария Нота [1] [p. 3].
Войны между Персидской империей и Афинами во главе с Делосским союзом (477–449 гг. до н.э.) уже были описаны в одном из предыдущих томов. Однако внутренняя история Персии в этот период почти неизвестна, за исключением мятежа сатрапа Мегабиза, упомянутого в сохранившихся фрагментах Ктесия [2]. Около 414 г. до н.э. восстали египтяне. Их правитель Амиртей сохранял независимость – вероятно, лишь на части территории [3], – а затем его сменила местная династия, правившая около шестидесяти лет. Мятеж мидян в 408 г. до н.э. был подавлен Дарием, как и позже восстание кадусиев [4]. Мир 449 г. до н.э. между Афинами и Персией соблюдался до катастрофы афинян под Сиракузами в 413 г. до н. э. Однако в ранние годы войны Спарта неоднократно обращалась к персидскому двору за поддержкой; эти попытки были столь противоречивы, что Артаксеркс в письме 425 г. до н.э. (доставленном послом Артаферном, захваченным афинянами) жаловался на невозможность понять спартанцев, так как их рассказы не совпадали [5].
Известно, что сатрап Сард Писсуфн восстал против царя вскоре после этого, и Тиссаферн, посланный на подавление мятежа, добился успеха, подкупив греческого командира наемников сатрапа, после чего получил его сатрапию [6]. К 413 г. до н. э. Тиссаферн, уже как сатрап, совместно со спартанцами начал отвоевывать азиатских союзников у Афин после их поражения в Сицилии, успешно используя спартанцев против Аморга, мятежного сына Писсуфна, занявшего приморский город Иас [7].
Усиление персидского давления на Афины после прибытия Кира Младшего к ионийскому побережью в 407 г. до н.э., а также полный крах афинской власти в последующие три года описаны в предыдущем томе. Живя в Сардах и взаимодействуя с греками, амбициозный и энергичный принц проникся их военным и политическим превосходством над азиатами. Восхищаясь способностями Лисандра, спартанского флотоводца, Кир даже доверил ему управление своей казной для финансирования войны перед отъездом ко двору в 405 г. до н.э. во время болезни отца [8], что способствовало окончательной победе.
Кир, родившийся после восшествия Дария на престол, был не старше восемнадцати лет, когда в 407 г. до н.э. стал сатрапом Лидии, Фригии и Каппадокии, а также командующим персидскими войсками, собиравшимися на Кастольской равнине (в его юрисдикцию не входили ионийские греки, подчинявшиеся Тиссаферну [9]). Описанное Ксенофонтом воспитание Кира – строгость, скромность, чередование повиновения и командования – кажется больше греческим идеалом (как в «Киропедии»), чем персидской реальностью [10]. Однако в персидских доблестях – верховой езде, владении луком и копьем, храбрости в бою, охотничьей выносливости и умении пить, не пьянея, – Кир превосходил многих, особенно своего брата Артаксеркса, не отличавшегося воинственностью [11].
Хотя эллинское умение командовать и подчиняться не было свойственно Киру, греческие идеи рано повлияли на него. Став сатрапом, он активно поддерживал пелопоннесцев, способствуя краху Афин [12].
Энергичный и честолюбивый юноша, подобный Киру, однажды познавший на личном опыте ценность греков, быстро осознал, насколько такие союзники могут стать инструментом власти для него самого. Чтобы эффективно участвовать в войне, ему необходимо было в определённой степени действовать в соответствии с греческими представлениями и завоевать расположение ионийских греков; таким образом, он сочетал властный и беспощадный деспотизм персидского принца с элементами системности и порядка, присущими греческому управлению. Хотя он был младше Артаксеркса, Кир, похоже, с самого начала рассчитывал унаследовать персидский престол после смерти отца. Закон о престолонаследии в персидской царской семье был настолько неопределённым, а споры и братоубийства при каждой смене правителя – настолько частыми, что подобные амбициозные планы казались осуществимыми даже для юноши куда менее пылкого, чем Кир. Более того, он был любимым сыном царицы Парисатиды [13], которая явно предпочитала его своему старшему сыну Артаксерксу. Кир родился уже после восшествия Дария на престол, тогда как Артаксеркс появился на свет до этого события; и, подобно тому, как семьдесят лет назад царица Атосса [14] использовала этот же аргумент, чтобы убедить своего мужа Дария, сына Гистаспа, объявить ещё при жизни её сына Ксеркса наследником, обойдя старшего сына от другой жены, родившегося до его правления, – так и Кир, вероятно, рассчитывал на аналогичное предпочтение благодаря просьбам Парисатиды. Возможно, его надежды подогревал и тот факт, что он носил имя великого основателя монархии, чью память чтил каждый перс. То, насколько уверенно он считал себя будущим царём, демонстрирует жестокий поступок, совершённый им в начале 405 г. до н. э. Согласно персидскому этикету, каждый, кто представал перед царём, должен был прятать руки в специальных карманах или широких рукавах, что делало их временно непригодными для действий; однако такое почтение оказывалось только царю. Двоюродные братья Кира – сыновья Гиерамена (по-видимому, одного из сатрапов или высокопоставленных персов в Малой Азии) от сестры Дария – предстали перед ним, не скрыв рук [15]; за это Кир приказал казнить их обоих. Их отец и мать подали Дарию горькие жалобы на эту жестокость, и царь вызвал Кира в Мидию, ссылаясь на своё стремительно ухудшавшееся здоровье – причина, не лишённая оснований.
Если Кир рассчитывал унаследовать корону, ему важно было находиться рядом, когда отец умрёт. Поэтому он отправился из Сард в Мидию в сопровождении своей греческой гвардии из трёхсот человек под командованием аркадянина Ксения; за этот долгий переход грекам заплатили так щедро, что размер жалованья долго оставался легендарным [16]. С ним также поехал Тиссаферн в качестве мнимого друга, хотя между ними, казалось, царила настоящая вражда. Вскоре после прибытия Дарий умер, так и не выполнив просьбу Парисатиды объявить Кира наследником. В результате Артаксеркс, провозглашённый царём, отправился в Пасаргады, религиозную столицу персов, для проведения традиционных церемоний. Разочарованный Кир был затем обвинён Тиссаферном в заговоре с целью убийства брата; Артаксеркс приказал схватить его и уже готов был казнить, но всемогущее заступничество Парисатиды спасло ему жизнь [17]. Его отправили обратно в сатрапию в Сарды, куда он вернулся с невыносимым чувством гнева и уязвлённой гордости, полный решимости сделать всё возможное для свержения брата. Этот рассказ, переданный Ксенофонтом, без сомнения, отражает версию Кира и его сторонников, распространённую среди его армии. Однако, если взглянуть на вероятности, можно предположить, что обвинение Тиссаферна могло быть правдой, а заговор разочарованного Кира против брата – реальностью, а не вымыслом [18].
Момент возвращения Кира в Сарды оказался крайне благоприятным для его планов. Долгая война только что завершилась захватом Афин и уничтожением их могущества. Многие греки, привыкшие к военному делу, остались без работы; другие были изгнаны из-за установления лисандровых декархий в городах. Таким образом, компетентных наёмников для хорошо оплачиваемой службы у Кира стало необычайно много. Уже имея некоторое количество греческих наёмников в гарнизонах своей сатрапии, он приказал командирам усилить их дополнительными пелопоннесскими солдатами. Предлогом были: во-первых, защита от Тиссаферна, с которым Кир теперь находился в открытой войне, – во-вторых, охрана ионийских городов на побережье, которые ранее подчинялись Тиссаферну, но теперь добровольно перешли к Киру после объявления вражды между ними. Лишь Милет не смог присоединиться к этому решению: Тиссаферн укрепил там гарнизон и жестоко подавил сопротивление, казнив или изгнав нескольких лидеров [стр. 8]. Кир, демонстративно сочувствуя изгнанным милетцам, немедленно собрал армию и флот под командованием египтянина Тама [19], чтобы осадить Милет с суши и моря. Одновременно он отправил ко двору обычную дань с приморских городов и через влияние матери пытался добиться их передачи от Тиссаферна к себе. Таким образом, Великий царь был введён в заблуждение, полагая, что новые войска Кира предназначены лишь для междоусобной войны между сатрапами – явления нередкого. Более того, двор даже был рад, что подозрительный принц занят делами вдали от столицы [20].
Помимо армии у Милета, Кир держал другие войска на расстоянии, оставаясь незамеченным. Спартанский военачальник Клеарх, обладавший значительными способностями и опытом, прибыл в Сарды как изгнанник. Он был изгнан (судя по противоречивым сообщениям) за злоупотребление властью и тиранию в качестве спартанского гармоста в Византии, а также за попытку удержать пост после отзыва эфорами [21]. Кир, оценив эффективность и воинственный нрав Клеарха, выдал ему 10 000 дариков (около £7600), на которые тот нанял греческих наёмников для защиты херсонесских городов от фракийцев, сохраняя войско до востребования Киром. Аристипп и Менон – фессалийцы из знатного рода Алевадов в Лариссе, поддерживавшие связи с персидским двором со времён Ксеркса, – получили от Кира средства для содержания 2000 наёмников в Фессалии, готовых по его призыву [22]. Другие греки, связанные с Киром службой в прошлой войне – беотиец Проксен, аркадцы Агий и Софенет, ахеец Сократ и др. – также набирали войска. Официальными целями были осада Милета и экспедиция против писидийцев – воинственных горцев, совершавших набеги с юго-востока Малой Азии.
Помимо тайных греческих формирований, Кир отправил послов в Спарту с просьбой о помощи в благодарность за поддержку против Афин и получил согласие. Он также собрал значительное персидское войско, стараясь завоевать доверие. «Он был прямодушен и справедлив, как претендент на власть» – по выражению Геродота о мидийце Дейоке [23]; он поддерживал порядок в сатрапии, сурово карая преступников, о чём свидетельствовали изувеченные тела на дорогах [24]. Однако он щедро вознаграждал верную службу. Он лично участвовал в походах против мисийцев и писидийцев, награждая отличившихся. Его располагающая манера и щедрые дары привлекали людей. Как и принято на Востоке, каждый, приближавшийся к Киру, приносил подарок [25], которые он затем раздавал другим как знаки отличия. Это обеспечило ему преданность не только подчинённых, но даже персидских шпионов, посланных Артаксерксом. Некоторые из них, как перс Оронт, правитель Сард, открыто выступили против Кира, но он дважды победил его и дважды простил после клятв верности [26]. Кир строго соблюдал договоры, и его слову доверяли все.
Обладая такими добродетелями (редкими для восточного правителя, будь то древнего или [p. 11] современного) – и тайно подготовившись, – Кир решил пожинать плоды своих трудов в начале 401 г. до н. э. Его военачальник Ксениад, оставшийся на родине, собрал все гарнизоны, оставив лишь минимальные силы для защиты городов. Клеарх, Менон и другие греческие стратеги были отозваны, а осада Милета прекращена; таким образом, в Сардах сосредоточилось войско из 7700 греческих гоплитов и 500 легковооруженных воинов [27]. Позже к походу присоединились другие отряды, а кроме того, имелось около 100 000 человек местного войска. С этими силами Кир выступил из Сард (март или апрель 401 г. до н.э.). Его истинная цель хранилась в тайне; официально же, как объявлялось и как понимали все, кроме него самого и Клеарха, поход был направлен против писидийских горцев, которых предстояло покорить и изгнать. Одновременно объединенный спартано-персидский флот под командованием спартанского адмирала Самия двинулся вдоль южного побережья Малой Азии, чтобы поддержать операцию с моря [28]. Эта спартанская помощь формально считалась частным наймом, организованным Киром, поскольку эфоры не желали открыто объявлять вражду Великому царю [29].
Греческий отряд, вошедший в историю как «Десять тысяч» и готовившийся погрузиться в череду неожиданных опасностей, – хотя и нанятый иностранным правителем, – состоял отнюдь не из изгоев или крайне бедных людей. Большинство из них занимали прочное положение в обществе, а некоторые даже были состоятельны. Половину составляли аркадцы и ахейцы.
Репутация Кира как честного и щедрого правителя была столь высока, что многие молодые люди из знатных семей бежали от родителей; зрелые мужчины оставляли жен и детей; а некоторые даже вкладывали собственные средства, снаряжая менее обеспеченных воинов [30]. Все рассчитывали на годичный [p. 12] поход в Писидию, который, хотя и трудный, сулил богатую добычу и возвращение с полными кошельками. Греческие командиры в Сардах уверяли их в этом, восхваляя – с красноречием, подобающим вербовщикам – щедрость Кира [31] и перспективы для предприимчивых.
Среди прочих, беотиец Проксен написал своему другу Ксенофонту в Афины, настоятельно приглашая его в Сарды и предлагая представить Киру, которого он (Проксен) «считал лучшим другом, чем собственное отечество» [32]. Это яркий пример того, как иностранная наемная служба затмевала греческий патриотизм, что станет очевиднее по мере нашего повествования. Ксенофонт – афинянин, заслуживший уважение не отчизны, но армии Кира и интеллектуального мира, – принадлежал к сословию всадников и, как говорят, участвовал в битве при Делии [33]. О его ранней жизни известно мало, кроме того, что он был преданным учеником Сократа, чьи беседы сохранились благодаря его записям, как и описание похода Кира. В предыдущей главе о Сократе я широко использовал «Воспоминания» Ксенофонта, а теперь обращаюсь к его «Анабасису» (образцу ясного и увлекательного повествования) для описания приключений кировой армии, известных нам из столь достоверного источника [p. 13].
Получив приглашение Проксена, Ксенофонт склонялся к согласию. Для члена сословия всадников, которое тремя годами ранее поддерживало злодеяния Тридцати (был ли он лично замешан – неизвестно), пребывание в Афинах в те времена, вероятно, не было приятным. Он спросил совета у Сократа, который, опасаясь, что служба Киру – заклятому врагу Афин – навлечет на него граждан, посоветовал обратиться к Дельфийскому оракулу. Туда Ксенофонт отправился, но решение уже принял. Вместо вопроса «стоит ли ему ехать» он спросил: «Каким богам принести жертвы, дабы обрести безопасность и успех в задуманном путешествии?» Оракул указал на Зевса-Царя. Сократ, хотя и недовольный уловкой, велел исполнить волю богов. Ксенофонт принес жертвы и отправился сначала в Эфес, затем в Сарды, где застал армию перед выступлением. Проксен представил его Киру, который упрашивал его остаться, обещая отпустить после похода на писидийцев [34]. Ксенофонт согласился, но лишь как доброволец, без официального чина. Нет свидетельств, что служба у Кира сделала его непопулярным в Афинах. Изгнание постигло его позже, в 394 г. до н.э., после битвы при Коронее, где он сражался против афинян и фиванцев под началом Агесилая.
Хотя Артаксеркс, подозревая брата в честолюбивых замыслах, посылал соглядатаев, Кир сумел их нейтрализовать и скрыть приготовления. Лишь когда поход начался, Тиссаферн, увидев снятие осады Милета и сбор войск в Сардах, догадался об истинной цели и предупредил царя [35]. Для армии же, включая Проксена, цель оставалась тайной, когда Кир, оставив сатрапию на попечение родственников и адмирала египтянина Тама, двинулся на юго-восток через Лидию и Фригию [36]. За три перехода (22 парасанга) он достиг Меандра [p. 15], затем за день (8 парасангов) – Колосс, фригийского города, где Менон присоединился с подкреплением: 1000 гоплитов и 500 пельтастов – долопов, энианцев и олинфян. Далее за три дня – до Келен, сильной крепости, где Кир задержался на 30 дней, ожидая Клеарха с 1000 гоплитов, 800 фракийских пельтастов и 200 критских лучников, а также Софенета с 1000 гоплитов и Сосия с 300. В Келенах греческие силы объединились: 11 000 гоплитов и 2000 пельтастов [p. 17].
До Келен маршрут вел к Писидии, поддерживая легенду о походе против горцев. Оттуда Кир повернул на север: за два дня (10 парасангов) до Пелт, затем за два (12 парасангов) до Керамон-Агоры, крайнего города у границ Мисии. В Пелтах, сделав трехдневную остановку, аркадский стратег Ксениад отпраздновал Ликеи с играми в присутствии Кира. От Керамон-Агоры за три дня (30 парасангов) войско достигло Каистропедиона, где задержалось на пять дней [p. 18]. Здесь греки, три месяца не получавшие жалования, взбунтовались. Кир, исчерпавший средства, был спасен Эпиаксой, женой киликийского князя Свеннесиса, привезшей крупную сумму. Грекам выплатили четыре месяца жалования, азиаты же довольствовались провиантом.
За два дня (5 парасангов в день) через Фригию армия достигла Тимбриума, еще за два – Тириэя. Здесь Кир устроил трехдневный смотр, чтобы впечатлить Эпиаксу. Азиатские войска прошли перед ним строем; затем он на колеснице, а царица в гаманаксе (крытом паланкине) объехали греческую линию. Гоплиты, выстроенные в четыре ряда, блистали медью, пурпуром и начищенными щитами. Клеарх командовал левым флангом, Менон – правым. По сигналу греки двинулись в атаку, ускоряя шаг, и обратили азиатов в бегство, включая испуганную Эпиаксу. Киру это стало добрым предзнаменованием [p. 19].
[стр. 20]
Три дня дальнейшего марша (всего двадцать парасангов) привели армию к Иконию (ныне Конья), последнему городу Фригии, где Кир остановился на три дня. Затем он двинулся на пять дней (тридцать парасангов) через Ликаонию – регион, находившийся за пределами его сатрапии и даже враждебный, что позволило грекам разграбить его. Ликаония, граничившая с Писидией, вероятно, считалась частью последней из-за схожего разбойничьего нрава её жителей: [43] таким образом, Кир частично реализовывал заявленные цели своего похода. Приблизившись к горе Тавр, отделявшей его от Киликии, он отправил киликийскую принцессу Эпиаксу вместе с Меноном и его отрядом через горный перевал – более короткий и прямой, но редко используемый и сложный для всей армии. Это позволило им выйти в тыл Сиеннесиса, занявшего основной перевал севернее. [44] Намереваясь пройти с главными силами через последний, Кир сначала проследовал через Каппадокию (четыре дня марша, двадцать пять парасангов) к Дане или Тиане, процветающему городу Каппадокии. Там он задержался на три дня и казнил двух персидских офицеров по обвинению в заговоре против него. [45]
Основной перевал через Тавр – знаменитые Таврические Врата или Киликийские Ворота – удерживал Сиеннесис. Несмотря на пригодность для повозок, он находился на высоте 3600 футов над уровнем моря, был узок, крут, окружён возвышенностями и перекрыт стеной с воротами, что делало его неприступным даже при слабой обороне. [46] Однако киликийский правитель, [стр. 21] узнав, что Менон уже перешёл горы через менее известный перевал в его тылу, а флот Кира движется вдоль побережья, оставил свою позицию и отступил в Тарс. Оттуда он бежал с большинством жителей в неприступную горную крепость. Кир, беспрепятственно заняв оставленный перевал, через четыре дня достиг Тарса, где воссоединился с Меноном и Эпиаксой. Два отряда из войска Менона, рассредоточившиеся для грабежа, были уничтожены местными жителями. В отместку основные силы греков разграбили город и дворец Сиеннесиса. Тот, хоть и получил приглашение Кира вернуться в Тарс, сначала отказался, но поддавшись уговорам жены, согласился под гарантии безопасности. Он заключил союз с Киром, обменялся дарами, выделил крупную сумму на экспедицию и предоставил войска. Взамен было согласовано прекращение грабежей в Киликии и возврат захваченных рабов. [47]
Хотя Ксенофонт прямо не утверждает это, очевидно, что сопротивление Сиеннесиса (это имя было титулом наследственных правителей Киликии под властью Персии) было лишь видимостью. Визит Эпиаксы с деньгами к Киру и пропуск Менона через Тавр – скорее всего, согласованные манёвры. Сиеннесис, рассчитывая на успех Кира, поддерживал его, но сохранял видимость поражения на случай победы Артаксеркса. [48] [стр. 22]
Однако сначала казалось, что поход Кира завершится в Тарсе, где он задержался на двадцать дней. Армия миновала Писидию – официальную цель экспедиции, ради которой нанимали греков. Никто из них, от солдата до командира, не подозревал обмана, кроме посвящённого Клеарха. Теперь же все поняли, что их ведут против персидского царя. Возмущённые обманом и опасаясь трёхмесячного марша вглубь от побережья с невозможностью отступления (как некогда спартанский царь Клеомен [49]), большинство воинов – люди почтенных семейств – отказались идти дальше, ссылаясь на нарушение условий найма. [50]
Греческие командиры (Клеарх, Проксен, Менон, Ксениад и др.) управляли своими отрядами самостоятельно, подчиняясь только Киру. Каждый, вероятно, разделял гнев солдат. Но Клеарх, изгнанник и наёмник, предвидел мятеж и уверял Кира, что его подавят. Тот факт, что солдаты терпели его жестокую дисциплину, демонстрирует их восприимчивость к военному порядку. Храбрый, находчивый, заботящийся о снабжении, Клеарх был груб, беспощаден в наказаниях и не стремился расположить к себе войско, которое оставалось с ним лишь по необходимости, предпочитая других командиров. [51]
При попытке заставить армию двигаться Клеарх столкнулся с всеобщим сопротивлением: в него и вьючных животных полетели камни, едва не лишив его жизни. Вынужденный созвать собрание, он долго молчал, плача – жест, поразивший солдат. Затем заявил: «Не удивляйтесь моей скорби. Кир был моим благодетелем: приютил изгнанника, дал 10 000 дариков, которые я потратил на защиту греков Херсонеса от фракийцев. Теперь, раз вы отказываетесь идти, я должен выбрать между вами и им. Но я останусь с вами. Вы – моя родина и союзники. Куда вы – туда и я». [52]
Эта речь и четкое заявление Клеарха о том, что он не пойдет против царя, были выслушаны солдатами с большим восторгом; солдаты других греческих дивизий сочувствовали им, тем более что никто из других греческих командиров еще не объявлял о подобном решении. Это чувство было настолько сильным среди солдат Ксении и Пасиона, что две [p. 24] тысячи из них покинули своих командиров и с оружием и багажом немедленно отправились в лагерь Клеарха.
Тем временем сам Кир, обеспокоенный оказанным сопротивлением, послал желать встречи с Клеархом. Но тот, прекрасно понимая, какую игру затеял, отказался подчиниться вызову. Однако в то же время он отправил тайное послание, чтобы ободрить Кира заверениями, что все наконец-то наладится, и пожелать, чтобы впредь посылались новые приглашения, дабы он (Клеарх) мог ответить на них новыми отказами. Затем он снова собрал своих солдат и тех, кто недавно покинул Ксению, чтобы присоединиться к нему. «Солдаты, – сказал он, – мы должны помнить, что теперь мы порвали с Киром. Мы больше не его солдаты, и он не наш начальник; более того, я знаю, что он считает нас обиженными, так что я боюсь и стыжусь приближаться к нему. Он хороший друг, но грозный враг; у него есть своя мощная сила, которую все вы видите совсем рядом. Сейчас не время дремать. Мы должны тщательно обдумать, оставаться ли нам или уходить; и если уходить, то как уйти в безопасности, а также добыть провизию. Я буду рад выслушать любые предложения».
Вместо привычного властного тона Клеарха войска теперь впервые оказались не только освобождены от его командования, но и лишены его советов. Некоторые солдаты выступили перед собранием, предлагая различные меры, подходящие для чрезвычайной ситуации; но их предложения были оспорены другими ораторами, которые, тайно подстрекаемые самим Клеархом, указывали на трудности как пребывания на месте, так и отступления. Один из этих скрытых сторонников командира даже притворился, что занимает противоположную позицию, и требовал немедленного выдвижения. «Если Клеарх не желает вести нас обратно (заявил этот оратор), давайте немедленно изберем других генералов, закупим провизию, подготовимся к отходу и затем отправимся к Киру с просьбой о торговых судах – или хотя бы о проводниках для возвращения по суше. Если он откажет в обоих, нам придется построиться для боевого отступления, немедленно выслав отряд для захвата перевалов». Здесь вмешался Клеарх, заявив, что для него невозможно оставаться командиром, но он будет верно подчиняться любому другому избранному командиру [стр. 25]. Его поддержал другой оратор, указавший на абсурдность просьбы к Киру о проводниках или кораблях в момент, когда они саботируют его планы. Как можно ожидать, что он поможет им уйти? Кто доверится его кораблям или проводникам? С другой стороны, уйти без его ведома или согласия невозможно. Правильным шагом будет отправить к нему делегацию, включая Клеарха, чтобы спросить, чего он действительно хочет – ведь этого пока никто не знает. Ответ Кира должен быть передан собранию для принятия решения.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе