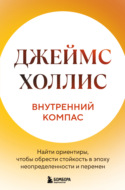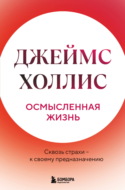Читать книгу: «Осмысленная жизнь. Сквозь страхи – к своему предназначению», страница 2
Может ли кто-нибудь поспорить с тем, что, несмотря на ужасные удары судьбы и влияние других людей на нашу жизнь, мы тем не менее являемся центральным персонажем в нашей жизненной драме и что мы делаем выбор каждый день, сознательно или нет? Может ли кто-нибудь из нас всерьез утверждать, что мы не сыграли никакой существенной роли в своем путешествии? Можем ли мы продолжать утверждать, что наша жизнь – это лихо закрученный роман, написанный кем-то далеко отсюда, смысл которого откроется нам только на последней странице или в какой-то туманной загробной жизни? Разве на этой последней странице мы не умираем? Разве мы не сочиняем сюжет в интерактивном режиме на протяжении всего романа, страница за страницей? В конце концов, разве мы не вынуждены признать, что выбор за нами и жизнь ждет, когда мы выйдем и предъявим права на то, что хочет быть выраженным через нас?
Глава 2
Пора повзрослеть
Что значит «повзрослеть»? Разве мы не стали взрослыми, когда наступил период полового созревания, когда мы обзавелись большими телами и большими планами на будущее? Разве мы не выросли, когда покинули родительский дом, вышли в мир и сказали: «Возьмите меня – я справлюсь с этой работой», «Выходи за меня замуж – я выполню свои обязательства», «Доверься мне – я смогу нести за это ответственность»? Разве мы не стали взрослыми, в течение многих лет ответственно выполняя родительские, профессиональные и социальные функции? И все же, когда я спрашивал людей на семинарах – разумных, состоявшихся, ответственных людей – «В чем вам нужно повзрослеть?», почему-то никто до сих пор не попросил меня пояснить этот вопрос, почему-то никто не оспорил резонность его постановки и все начинали сразу что-то писать. Итак, как же получается, что мы играем все эти роли, но в глубине души знаем, что нам еще предстоит повзрослеть?
В традиционных обществах, с трудом удерживавшихся на этой неспокойной планете, выживавших под натиском стихий, в суровых условиях и в окружении всевозможных врагов, взросление было вопросом выживания. Племя не могло позволить, чтобы дети бездельничали. Таким образом, прекрасно обходясь без центрального комитета, рассылающего печатные инструкции, каждая цивилизация разработала обряды посвящения, призванные обеспечить переход от детской наивности и зависимости к ментальности взрослого человека, который жертвует комфортом и преодолевает лень ради общих интересов. В конце концов, социальные условия и структуры меняются, технологии развиваются, но та же человеческая психика, та же психодинамика, которая проявлялась в наших предках, наблюдается и в нашей нынешней жизни. На протяжении всей истории человечества людям приходилось сталкиваться с необходимостью повзрослеть. Разница в том, что наши предки были проницательными наблюдателями, которые понимали, что люди никогда по доброй воле не пожертвуют комфортом и зависимостью. И вот самостоятельно, без подсказок свыше, они придумали кое-что полезное: обряды посвящения.
Все эти обряды представляют собой переход от того, что отыграло свою роль, умерло или перестало быть продуктивным, на новый этап. Именно к этому во многих случаях стремится психотерапия. Поскольку мало кто добровольно покинул бы безопасный дом ради опасного статуса взрослого существа, юношей никто не спрашивал. Их изымали из семьи, иногда насильственно. Этапы перехода различались по форме, интенсивности, продолжительности и культурным особенностям, но по сути они были во всем мире сопоставимы. Во-первых, предполагался уход из родного дома не по приглашению, не по вежливой просьбе, а внезапно и решительно. Во-вторых, практиковалась ритуальная смерть, варьировавшаяся от погребения в земле до погружения в воду и отказа от своего известного всем облика. В-третьих, была церемония возрождения, потому что теперь рождалось новое существо с иной психологией. В-четвертых, юному человеку преподавались науки в трех категориях: архетипические истории о сотворении мира, о богах, об истории племени; общественные роли и устройство взрослой жизни в этой культуре; специфические методы охоты, рыболовства, взращивания потомства и сельского хозяйства, характерные только для этого племени. В-пятых, его ждало своего рода испытание, часто связанное с изоляцией, чтобы человек научился справляться со страхом и находить внутренние ресурсы. И в‑шестых, после длительной разлуки юноша возвращался в общество в качестве самостоятельного взрослого. Только таким образом молодые люди могли перейти от наивности, зависимости и робости детства к ожиданиям взрослой жизни.
Когда мы изучаем современную культуру, мы обнаруживаем, что эти обряды посвящения в ней отсутствуют. Вместо инструментов для укрепления личности и выживания мы обучаем навыкам работы с компьютером. Мы позволяем детям жить в оберегающем их лоне, и, соответственно, у нас очень мало посвященных, обособленных, независимых людей со взрослыми чувствами. Само по себе старение так не работает; исполнение важных ролей в жизни тоже не действует. Что же это такое, что меняет психологию человека нуждающегося, обвиняющего, зависимого, делая его психически и духовно независимым? Наша культура больше характеризуется плаксивым стремлением к мгновенному удовлетворению, бегством от ответственности и неспособностью мириться с противоречиями, нежели умением жить с неопределенностью в долгосрочной перспективе и преодолевать стремление к быстрому разрешению жизненных проблем.
Две самые большие угрозы в жизни, которые мы носим в себе, – это страх и апатия. Каждое утро, просыпаясь, мы обнаруживаем двух вредных бесенят у себя в ногах. Тот, кого зовут Страх, говорит: «Мир слишком велик для тебя, ты мелковат для него. Ты не справишься. Найди способ ускользнуть – сбеги сегодня снова». И тот, кого зовут Апатия, говорит: «Эй, расслабься. У тебя был тяжелый день. Включи телевизор, посиди в интернете, съешь шоколадку. Завтра будет новый день». Эта парочка грызет наши души ежедневно. Что бы мы ни делали сегодня, завтра они снова заявятся. Со временем они отнимают у нас все больше дней. Каждый раз на преодоление страха с помощью неосознанного подчинения или избегания тратится больше энергии, чем на любую другую полезную деятельность. Хотя это естественно – тратить энергию на борьбу со своими страхами, масштабы ежедневных усилий трудно переоценить.
С другой стороны, апатия принимает множество соблазнительных форм. Мы можем просто избегать выполнения задач, держаться подальше от того, что для нас сложно, находить способы скрасить наши дни с помощью тысяч снотворных и анальгетиков, которые предлагает мир, или, что, возможно, хуже всего, впасть в фундаменталистские формы мышления, которые изощряются в лукавстве, сочетают несочетаемое, ищут упрощенные решения сложных проблем и смягчают наши душевные страдания не исцеляющим, но заглушающим боль, паллиативным бальзамом уверенности. Действительно, у нас есть обширная сетевая культура, которая помогает нам в решении этой задачи, круглосуточное отвлечение внимания, чей гул одновременно успокаивает тревогу и приглушает жалобные крики нашего духа, требующего служения. Если мы будем вязнуть в отвлекающих факторах, искать простые решения и бездумно внимать тому, чем нас убаюкивают авторитеты свыше, мы можем проспать всю свою жизнь и никогда не пробудиться на зов души, который звучит внутри каждого из нас.
В книге «Грезы об Эдеме: В поисках доброго волшебника», посвященной психодинамике отношений, я отметил, что все отношения характеризуются двумя динамиками – проекцией и переносом. Проекция – это механизм, посредством которого содержание нашего внутреннего мира распространяется на объект – человека, организацию, роль, – за который можно зацепиться. Поскольку это происходит неосознанно, мы реагируем на другого так, как будто знаем его, а не как на преломленное искажение. Аналогичным образом мы приписываем этому другому – человеку, организации, роли – нашу личную историю, связанную с такого рода опытом. Таким образом, мы инфантилизируем наши отношения с близким человеком, церковью, правительством, организацией или любой другой стороной, которая предполагает наличие авторитета. Вспоминая свой прежний опыт, мы невольно умаляем свои взрослые способности и нынешние интересы, подходя к новой ситуации с избегающим, контролирующим или уступчивым поведением из нашего прошлого.
Учитывая мощь, универсальность и деликатность проецируемого, этих перенесенных исторических стратегий, мы ожидаем, что другие позаботятся о нас, в то время как мы выискиваем недостатки в нашем существовании и удивляемся, почему наши роли сами по себе не свидетельствуют о зрелости и не приносят постоянного удовлетворения. Из-за этого разрыва между ожиданиями, связанными с нашими проекциями, и переносами, мы можем время от времени осознавать, что сами несем ответственность за то, как развиваются события. Когда приходит это осознание, человек героически вопрошает: что я спрашиваю с других, но не спрашиваю с самого себя? Я подозреваю, что каждый из нас втайне догадывается, что мы просто откладываем этот вопрос, избегаем ответственности и делаем это уже долгое время.
Я называю этот вопрос героическим, потому что он воплощает в себе смещение нашего центра тяжести с того, что «снаружи», на то, что «внутри». Другими словами, что-то в каждом из нас всегда знает, когда мы уклоняемся, избегаем, откладываем на потом, рационализируем. Иногда нам приходится сталкиваться с этими неприятными фактами, когда рушатся наши планы, отношения, ожидания от других людей, и мы остаемся один на один с последствиями. Иногда другие люди требуют, чтобы мы разобрались с тем, чего мы избегаем. Порой у нас появляются тревожные симптомы, будоражащие сны, ночные встречи с самими собой, и тогда нам приходится признать, что мы сами устраиваем себе жизнь вечного беглеца. Что-то внутри нас всегда знает и ясно выражает свое мнение. Естественно, мы будем избегать этого вызова на суд души как можно дольше, пока она не постучится так сильно, что нам придется открыть дверь. В тот момент, когда мы говорим: «Я несу ответственность, я человек обязательный, я должен с этим справиться», – мы становимся взрослее, по крайней мере до следующего раза, следующего регресса, следующего уклонения.
Когда те, кто посещает мои семинары, с такой готовностью начинают писать о том, в какой сфере жизни им нужно повзрослеть, это не значит, что они не задумывались об этом раньше. На самом деле проблемы лежат на поверхности. С тем, чего им ранее удавалось избежать, – с отсроченной конфронтацией, признанием таланта, поиском путей примирения или чем-то еще, – они сталкивались уже много раз. К сожалению, то, что становится осознанным, не разрешается само собой. Если бы! Мотивы избегания проистекают из нашей экзистенциальной склонности к страху и апатии, и оба этих врага выигрывают больше сражений, чем проигрывают. Все это время душа бушует внутри, посылая протесты, сигналы бедствия, сообщения SOS, обвинительные акты и так далее. Как быстро мы ни убегаем и сколько ни уклоняемся от расплаты, эти счета однажды все же будут нам предъявлены. Каждый из нас знает это, и именно потому так просто понять, в чем нам нужно повзрослеть.
Архетип героя – это та энергия, которую мы восхваляли на протяжении тысячелетий: человек, который решает какую-то проблему, преодолевает страх, действует там, где это необходимо, и служит примером для других. Но осознаём ли мы присутствие архетипа героя внутри нас? Называть это архетипом – значит признавать его универсальное присутствие, присущее всем народам во все эпохи. Задача внутреннего героя – победить силы тьмы, а именно страх и апатию. Все эти истории о победе над драконом – мифопоэтические версии свержения власти того, что могло бы поглотить нас, как это происходит ежедневно со страхом и апатией. Рано или поздно каждый из нас будет призван встретиться лицом к лицу с тем, чего мы боимся, откликнуться на призыв проявить себя и преодолеть огромную внутреннюю летаргию. Это то, что от нас требуется: показать себя такими, какие мы есть на самом деле, насколько это в наших силах, в обстоятельствах, которые мы, возможно, не в состоянии контролировать. Такое максимально возможное проявление себя и есть взросление. Это все, чего на самом деле требует от нас жизнь, – проявить себя как можно лучше.
Меня всегда трогал пример Марка Аврелия. Хотя он был императором и мог наслаждаться любой синекурой в Риме, он предпочел отправиться на поле боя, чтобы встретиться лицом к лицу с гуннами, жаждавшими его смерти. Отличался ли он от нас? Нет, у него были те же страхи и апатия. Каждый день для него, как и для нас, был битвой. Он, как и мы, легко впадал в удобное отчаяние, когда приходится справляться с бо́льшим количеством проблем, чем кому-либо другому, или когда другие лучше подготовлены к жизненному пути, чем мы. У всех нас одни и те же страхи, одна и та же соблазнительная апатия и одинаковая способность избегать взросления. Чтобы компенсировать свой страх и склонность к усыпляющему избеганию, я часто перечитываю слова Марка Аврелия о том, как он вставал по утрам, полный сомнений, терзаемый страхами и вооруженный полным набором рациональных оправданий, позволяющих уклониться от того, что ему предстояло.
С первыми лучами солнца, несмотря на нежелание вставать с постели, имей наготове мысль о том, что ты встаешь исполнить свое человеческое предназначение. Должен ли я роптать оттого, что приступаю к тому, для чего я был рожден и в чем состоит моя задача в этом мире? Неужели цель моего появления на свет – лежать здесь и греться под одеялом? «Ах, но это гораздо приятнее!» Так значит, для удовольствия ты был рожден, а не для дела?
Марк Аврелий.Наедине с собой
Когда я перечитываю эти слова, мне кажется, что я вижу его плечом к плечу с боевыми товарищами, дрожащего от холода на ледяном Дунае, готового сразиться со своими заклятыми врагами. И почему я снова и снова возвращаюсь к этим строкам? Потому что они напоминают мне о том, что нужно перестать жалеть себя, свою привилегированную жизнь и исключительные возможности, перестать жаловаться и искать легких путей. Я напоминаю себе, что должен проявить себя наилучшим образом, побеждая в одних внутренних битвах со страхом и апатией, проигрывая в других, но с искренней надеждой на взросление. Это то, чего требует жизнь от каждого из нас: повзрослеть, стать ответственным, быть настоящим. Этого требуют от нас наши партнеры, наши дети и наш мир. Когда мы проявляем себя наилучшим образом, то мы чувствуем себя взрослыми и помогаем нести бремя этого мира, а не добавляем к нему еще больше тяжести.
Задайте себе простые вопросы. В чем мне нужно повзрослеть, сделать шаг вперед в своей жизни? С каким страхом мне придется столкнуться при этом? Этот страх реалистичен или возник на более раннем этапе моего развития? И, учитывая, сколько времени я уже ощущаю эту тяжесть на душе, какую цену мне придется заплатить за то, что я не повзрослел?
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе