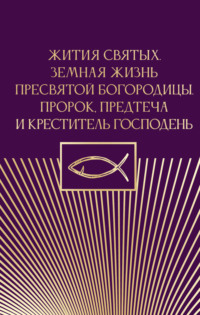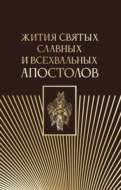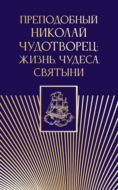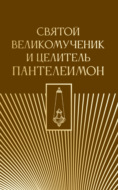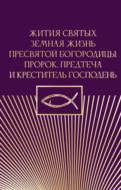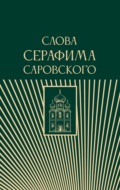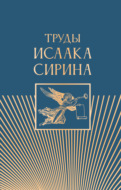Читать книгу: «Жития святых. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Пророк, Предтеча и Креститель Господень», страница 5
Через несколько дней пред Пречистой Девой показался в отдалении город Иута, раскинувшийся на нижнем скате Иудейских гор и тонувший в зелени роскошных садов; далее, у склона горы, заблистал источник, и на берегу его открылись стены ограды, окружающей дома чередовых священников, а далее, выше источника, стал обрисовываться дом Захарии и Елисаветы, пред входом которого высился огромный платан, приветно раскинув свои тенистые ветви.
Пресвятая Дева приблизилась к цели Своего путешествия. И чуть только Она вступила в ограду родственного Ей дома и произнесла несколько слов, как вдруг исполнилась благодатью Святого Духа встретившая Ее Елисавета. Сила этой благодати прежде всего подействовала на младенца Елисаветы, которому, по предречению, надлежало исполниться Духа Святого еще во чреве матери, и он, не видя еще чувственным взором ни одного предмета, познал и ощутил приближение Пречистой Девы, носящей Господа, и радостным взыгранием своим вразумил мать свою о высоком достоинстве благодатной посетительницы. И вот благодать Духа Божьего озарила и Елисавету. Услышав голос Марии, Елисавета с видимым благоговением отозвалась на приветствие Ее, не только как любимой и добросердечной родственницы своей, но как благодатной Матери Господа, милостиво почтившей ее Своим посещением, и, в порыве восторженного чувства, произнесла не просто радушные слова родного приветствия, но торжественно вдохновенную речь, полную глубокого смысла. Она воскликнула: «благословенна Ты в жена́х, и благословен плод чрева Твоего! И откуда мне сие, да приидет Мати Господа моего ко мне? Блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголанным Ей от Господа!» Эти слова могли изумить Благодатную, сокрывшую в Себе тайну Благовещения, и заставили Ее недоумевать о причине и значении их. Вместо простых задушевных слов и бесед, столь привычных нраву Елисаветы – такая благоговейная встреча, такие пророческие и видимо по вдохновению свыше исходящие слова!
«Только лишь коснулся слуха моего голос Твоего приветствия – (как бы так говорила Елисавета Пресвятой Деве) – я почувствовала, что радостно взыграл во мне младенец; вразумленная этим ощущением и в то же время озаренная свыше, я увидела Твое достоинство и свое ничтожество пред Тобою, возвеличенной до блаженства носить предвечное Слово Отца Небесного! Не находя в себе ничего, чем могла бы заслужить честь Твоего посещения, я благоговейно чту величие и смирение Твое: потому что Ты, Богоизбранная, приходишь к земной рабе, которой первой нужно было бы воздать Тебе достойное поклонение! «И откуда мне сие, да приидет Мати Господа моего ко мне?» Могла ли я ожидать, когда-либо такого счастья? Могла ли надеяться, что ко мне придет Та, Которая носит Носящего всяческая и что я первая из людей буду приветствовать Матерь Божью? «Благословенна Ты в жена́х, и благословен плод чрева Твоего!» Много жен во Израиле, почтенных чадородием, известных добродетелями, «чающих Утехи Израилевой» (т. е. пришествия обетованного Мессии); но Ты безмерно превзошла всех: потому что именно чрез Тебя является в мир давно ожидаемый Спаситель. «Блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа». Воистину блаженна вера Твоя: потому что все совершится так, как возвещено Тебе».
Слыша в приветствии Елисаветы повторение слов благовествовавшего Ей Архангела, Пресвятая Дева убедилась, что все это происходило по внушению Духа Святого и клонится к успокоению и прославлению Ее. При этом чистое сердце Ее прониклось той всеоживляющей небесной силой, которая дает возможность в одно мгновение обнять взором все прошедшее и будущее и, уразуметь причины тайн минувших и грядущих, определить всю великость значения настоящего. Все пророчества, изреченные в разные времена и разными лицами, теперь сделались для Нее совершенно ясными, и все далекое будущее изобразилось, во всех его подробностях, как-бы совершающимся в очах Ее. Чувства – одно другого глубочайше, ощущения – одно другого отраднейшее, возникали в уме и сердце Ее и, преисполнив их, заставили нарушить любимое Ею безмолвие. Необъятная слава Матери Божьей, при смиренном Ее понятии о Себе; радость и умиление, при мысли об избавлении Израиля и открытии на земле духовного царства Божия; убеждение, что святая тайна воплощения в Ней Сына Божьего возвещена Елисавете Самим Духом Святым, преисполнили Благодатную таким неизъяснимым восторгом, что из уст Ее излились чудные слова вдохновенного пророчества.
Воссылая слова Свои, как фимиам благоуханного кадила, к Господу, Пресвятая Дева возгласила: «величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем: яко призре на смирение рабы Своея; се бо отныне ублажат Мя вси роди!» Этими словами все величие, в которое облекла Ее святая Елисавета, назвав благословенной в жена́х и Матерью Господа, Она относит к Нему единому, великому и благодеющему Ей; сознавая себя лишь орудием для явления славы Его, Она духовную радость Свою всецело погружает в благодатном источнике радости и спасения – в «Боге Спасителе Своем». Отвергая мысль о всех достоинствах Своих, Она исповедует, что Всевышний «призрел лишь на смирение рабы Своей», т. е. как на скромную долю Ее, так и на отсутствие всякого самовозношения.
Исповедав силу Божью, несказанно возвысившую Ее смирение, Пречистая Дева пророческим оком прозирает все времена до конца мира и в них видит Себя предметом благоговейного почитания верующих: «отныне ублажат Мя вси роди!» Признавая в истине воплощения всемогущество Божье, Она с тем же смирением добавляет: «яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его!»
Но так как совершающееся с Пресвятой Девой касается не только Ее, но и всего Израиля, потому что в воплощении Спасителя осуществляются заветные ожидания всех праведных мужей народа Божия: то и речь Преблагословенной обобщается, и взор Ее простирается на весь народ. Она признает, что милость Божья изливается на всех боящихся Бога, людей благочестивых, имеющих в сердце страх Божий: «и милость Его в роды родов боящимся Его». Эта милость ниспосылается теперь не только Ей, но чрез Нее – всем достойным соотечественникам.
Открывающаяся в явлении на земле Спасителя милость Божья приводит Пресятой Деве на память весь ряд протекших веков Ветхого Завета; и Она, вдохновленная знанием древнего Писания, в быстрой речи объясняет всю историю избранного народа Божьего: «сотвори державу мышцею Своею; расточи гордыя мыслию сердца их; низложи сильные со престол и вознесе смиренные; алчущия исполни благ и богатящиеся отпусти тщи». Так крепкая мышца Господня является разрушительницей адских замыслов у врагов народа Божьего, обращая собственное оружие их на них же самих и соделывая из козней их средства для премудрых и спасительных целей Своих. При исходе Израильтян из Египта и при водворении их в земле обетованной, не низложил ли Господь фараона и царей Ханаанских и не возвел ли уничиженных рабством потомков Авраамовых, по обетованию, «в царское священие и язык святых»? Равно также и алкавший в пустыне народ Свой не исполнил ли Он всех земных благ? И потом не унизил ли возгордившегося Саула, отдав венец его смиренному Давиду? Не оставил ли с двумя коленами Ровоама, превозносившегося пред отцом своим? Не заставил ли Амана преклониться пред презираемым им Мардохеем и испытать то, что было им приготовлено для Мардохея? Не отдал ли Он в посмеяние осажденной Ветулии обезглавленный труп Олоферна, безжалостно издевавшегося над несчастиями этого города? Могущественные державы мира – Вавилон, Персия, Греция, Рим – гордые мудростью своей, надменные силой своей, повержены долу; а смиренные верующие вознесены на высоту славы чад Божьих и преисполнены всяких духовных благ. Когда же народ Божий, оказавшись неблагодарным и недостойным дарованного ему счастья, был наказан тяжким пленом, и, переходя из-под власти одного завоевателя к другому, уже отчаялся в помощи Божьей; когда можно было думать, что Господь уже оставил людей Своих: не оказалось ли вдруг, что Он, положив предел гневу, вновь воспринял Израиля в лоно отеческой любви Своей и исполнил тем обетования, данные Аврааму и другим святым праотцам? – и воспринял этот народ так, как никогда еще не воспринимал, даже в счастливейшее время его, а именно – вошел в теснейшее общение с ним чрез восприятие плоти и крови от семени Авраамова! Такое снисхождение Божье к Израилю, который за грехи свои не только не отвержен от Бога, но преимущественно пред другими народами удостоен видеть среди себя Мессию, Пресвятая Дева приписывает единственно милосердию Господа, воспомянувшего то, что было обетовано святым праотцам: Аврааму, Исааку, Иакову и их потомству: «восприят Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глагола ко отцам нашим – Аврааму и семени его даже до века». Вот какими необыкновенными и глубоко-знаменательными словами отвечала благодатная Мария на приветствие Елисаветы [Песнь Богоматери есть первая Боговдохновеннная песнь христианского времени и вошла в состав Богослужения с первых веков христианства. В начале VI века встречаем архипастырское подтверждение – петь «Величит душа моя» на утрени каждого воскресного дня и во все праздники. Песнь Богоматери начинает собою 9‐ю песнь всякого канона; составители канонов, по благоговению к Богоматери, не дозволяли себе смешивать песнь Ее со своими словами или мыслями; святой Козьма Маиумский прибавил только в похвалу Богоматери песнь Честнейшую херувим].
После этого можно представить себе, в каких святых, поучительных и благоговейных беседах проводили время эти две Богоизбранные жены, какими неземными предметами были заняты их мысли, как были пламенны и чисты общие их молитвы и размышления! Горняя мудрствуя и с искренней доверенностью сообщая друг другу явленные над ними опыты силы Божьей, превышающие их ожидания, они радостно прославляли имя Господа, так много их возвеличившего. Проникнутые святой уверенностью в великое будущее, они назидали друг друга и, рассуждая о благодеяниях Божиих, совершившихся над ними, приходили постоянно к одному концу прославлению Господа. Так Пречистая Дева, передав Елисавете о событии Благовещения могла узнать и от нее о случившемся в храме с Захарией и предвидеть в том, что было еще неразгаданной тайной для всех, по причине онемения священника, ближайшее отношение к Себе самой.
Безусловно покорившись великому служению своему и пророческим взором проникая грядущее, святые жены с восторгом видели исполнение тайны спасения мира, посредством благословенных плодов чревоношения своего. «Что отроча сие будет» думали они обе, – то отроча, которое, исполнившись Святого Духа уже во чреве матери, приветствует Мессию игранием, не имея возможности приветствовать Его словами. Это видимо доказывает, что «рука Господня с ним», но что же будет он впоследствии? Рука Господня видимо с этим младенцем, великим еще в утробе матери, но что же будет Сам Христос, Сын Божий?
И какие чудесные совпадения обстоятельств, такая изумительная торжественность и вместе какие особенности в благодатной непраздности обеих святых жен! Приходит Архангел Гавриил – но не к Елисавете, а к Захарии, потому что Захария будет виновником рождения сына. Тот же Гавриил приходит и к Марии, но не к Иосифу, т. е. приходит к Той, от Которой Слово безмужно восприимет плоть. В благовестии своем Архангел говорит Захарии: «не бойся, Захарие, зане услышана бысть молитва твоя»; он же говорит и Марии: «не бойся, Мариам; обрела бо еси благодать у Бога». Архангел обещает сына Захарии, обещает сына и Марии: Захария не верил обетованию, а Пресвятая Дева, как давшая Богу обет девства, лишь вопрошала, по-человечески, о способе зачатия, отнюдь не сомневаясь во всемогуществе Божьем.
Дни за днями текли быстро; и когда минуло три месяца родственного и благодатного свидания, Пресвятая Дева Мария собралась в путь в родной город Назарет. Но когда оставила Пресвятая Дева Мария родственницу Свою Елисавету – до или после рождения последнего Предтечи Господня? Надобно полагать, что Благодатная простилась с Елисаветой прежде, нежели «исполнися время родити» последней. У Елисаветы было много соседей и родственников, которые, без сомнения, готовы были оказать ей возможную помощь. Наконец, и для того, чтобы уклониться от глаз любопытных, которыми вскоре должен был наполниться дом Захарии, Пресвятая Дева оставила Елисавету до рождения Иоанна Предтечи.
Дорога в горний град Иудов из Иерусалима идет по каменистым холмам, между Вифлеемской и Яффской дорогами, мимо верхнего Гигонского водоема. Чрез три четверти часа пути начинается подъем на первый хребет Иудейских гор, покрытый маслинами и виноградниками; влево, в обработанной лощине, видно селение Мальха, и почти тотчас после того открывается плодоносная долина горнего города Иудина, где теперь селение святого Иоанна. Город Иута расположен в обширной горной лощине, на нижнем скате гор, посреди обильных садов и обработанных полян. В селении воздвигнут роскошный храм, во вкусе европейском, на месте рождения Предтечи Господня. Живопись всех образов очень хорошая; мрамор расточен в изобилии на стенах и на помосте. Эта церковь выстроена в 1621 г. дарами латинян. Она разделена на три части: средний алтарь осенен куполом; по сторонам два придела. Левый придел основан на месте рождения того человека, выше которого никто из рожденных женами не восставал. Место рождения Предтечи Господня так же скромно, как и место рождения Спасителя: это вертеп, но не подземный; он был наравне с другими домами, если бы его не накрывал помост храма. Туда сходят за позолоченную решетку, по 7 или 8 мраморным ступеням. Под сводом пещеры, одетой мрамором и богатыми тканями, устроен великолепный престол, раскрытый снизу. Там, на помосте, виден мраморный круг, украшенный резьбой, с латинской надписью: Hic Praecursor Domini natus est (здесь родился Предтеча Господень). Отличные барельефы белого мрамора, изображающие всю жизнь Иоанна Крестителя, украшают стены алтаря. Вокруг храма расположен латинский монастырь, обнесенный оградой, в которой два двора. В нем находятся около двадцати братий, а селение состоит из арабов-мусульман, которых более 500, недружелюбно расположенных к христианам и негостеприимных.
При выезде из селения виден, под тенью смоковничных деревьев, водоем; он называется источником Пресвятой Девы Марии. Говорят, что Пресвятая Богородица, во время трехмесячного пребывания у родственницы Святой Елисаветы, ходила сюда почерпать воду. Дом Захарии и Елисаветы находился на скате горы, прилежащей к этому источнику. Поднявшись туда, вы скоро достигнете живописных развалин этой священной обители. Она находится на крутом скате. Войдя в ворота, вы увидите двор, посреди которого растет древний развесистый платан; корни его и дуплистое основание обнесены кругом двумя каменными уступами. Насупротив, на каменной платформе со сводами, возвышаются значительные развалины. Остатки двух огив (оконных дуг со сжатым основанием) показывают готическое зодчество. Стены нижнего здания сложены из огромных камней; это нижнее здание принадлежит, как говорят, дому Захарии. Под сводом устроен престол, куда приходят братия монастыря святого Иоанна, один раз в год, служить литургию. Предание повествует, что возле этого свода и каменного крыльца ведущего к верхнему зданию, происходила трогательная встреча Елисаветы с Пресвятой Богородицей, здесь излился из уст Елисаветы и Матери Божьей торжественный Боговдохновенный разговор, переданный нам Евангелистом Лукой.
По возвращению Пресвятой Девы в Назарет следы святого чревоношения сделались заметными для праведного обручника Ее Иосифа [Предание говорит, что Иосиф возвратился от плотничных работ своих чрез шесть месяцев после Благовещения]. По мысли святых Отцов Иосиф сначала не знал совершающейся пред ним тайны воплощения Спасителя мира «Он не знал – говорит святой Прокл – тайны происходящей в Деве; не знал т. е., какого чуда будет служителем; не знал, что от обрученной ему Жены родится Христос, предреченный пророками». Можно представить, что должно было происходить в чистой душе святого старца при убеждении в непразднстве Марии! Святая Церковь, выражая душевное состояние его, говорит, что в нем возрастала «буря помышлений сомнительных». Он всматривался в Пресвятую Деву и не верил глазам своим, начинал думать, и отгонял мысль, принимал все это за сновидение, но и во сне не ожидал увидеть этого. Ничего не зная о Благовещении он обращался к земле и небу за разрешением сомнения и нигде не находил его. В страшном волнении духа он переходил от одной мысли к другой – и вдруг с ужасом остановился на возможности низкого обольщения «бракоокрадованную помышляя» – как замечает Святая Церковь. «Увидел Иосиф Марию – говорит тот же святой Отец – и уязвилось сердце его; увидел имущую во чреве, и впал в величайшее смущение, предполагая Ее обольщенной».
Ничто не могло быть мучительнее этого предположения для целомудренного и любвеобильного сердца Иосифа. «Каким лицом теперь буду взирать я на Господа моего? – воскликнул он в рыданиях – как буду молиться об этой Отроковице? я принял Ее из храма Господня девой и не соблюл! Кто уловил меня коварством? Кто сделал это зло в дому моем и опорочил деву? «Но кто же мог ожидать, продолжил он – по изъяснению святого Димитрия Ростовского – чтобы та самая Отроковица, которая воспитывалась в храме с таким попечением, которая отличалась таким глубоким смирением, благочестием и преданностью воле Божьей, которая дала обет всегдашнего девства, несмотря на увещевания священников вступить в брак, вдруг искусилась обольщением? И та, которую все считали за образец жизни в страхе Божьем, незаконно сделалась непраздной! Что мне делать? Куда обратиться, от кого узнать? Спросить ли у Нее Самой и потребовать объяснений? Но о чем же спрашивать? Грех очевиден. Да и для чего вопросами Ее смущать и терзать Ее, когда и без этого Она уже должна страдать от Своего положения? Но не ошибаюсь ли я – вновь спрашивал себя старец – не напрасно ли я грешу против Ее целомудрия»? Но сколько ни поверял он свои наблюдения, желая удостовериться в их обмане, они все-таки убеждали его в одной и той же грустной, по его мнению, действительности. Тогда мрачные и тяжелые думы овладели им; и печаль, равносильная отчаянию, залегла глубоко в его чистое сердце. «Мария – так выражает чувства праведного Иосифа Святая Церковь – что это значит, что с Тобой сделалось? Гляжу и недоумеваю, дивлюсь и ужасаюсь! Какую перемену вижу я в Тебе? Мария! Ты вместо чести принесла мне позор, вместо радости – печаль, вместо похвалы – укоризну! Как стерпеть мне упреки людей? Я принял Тебя непорочной из храма от рук священников, и что же я вижу теперь»?
В то же время и Пресвятая Мария не могла не наблюдать за святым Иосифом, и чем чаще, чем внимательнее Она смотрела на него, тем яснее открывалось Ей внутреннее состояние его. Ей известна была доброта святого старца; но Она не решалась объяснить ему тайны Благовещения без особой на это воли Божьей. Как стыдилась этих подозрений непорочная голубица: как краснело невинное лицо Ее; как сжималось непорочное сердце! И все же Она не дерзала нарушить тайны Божьей! «Дева молчала (говорит Златоуст), ибо думала, что не уверит обручника, сказавши о необыкновенном деле, а скорее огорчит его подав мысль, что Она прикрывает сделанное преступление. Ежели сама Она, слыша о даруемой Ей толикой благодати, судила по-человечески и говорила: «как будет это, когда я мужа не знаю?», то гораздо более усомнился бы Иосиф, услышав об этом от подозреваемой. Посему Дева вовсе не говорила Иосифу». «Если Мария говорила о Своей тайне с Елисаветой, то потому, что Елисавете уже открыта была сия тайна Духом Святым, и Он Сам говорил устами обеих; а если бы Она стала говорить о сем с Иосифом, то ли по человеческой доверенности, или по человеческому страху, и следственно не по Божественному побуждению говорила бы о тайне Божественной. Теперь Она таится от того, которому, вероятно, более всех на земли открыто было сердце Ее, поскольку Она избрала его стражем Своего девства, таится с явной для Себя опасностью не только обличения, но и суда, и смерти» – И так как Ей теперь не к кому было обратиться за советом или успокоением, кроме Бога, за дело Которого и Она и Иосиф страдали; то, возложив всю надежду свою на Господа, Она была в твердой уверенности, что Он, в неистощимой бездне премудрости Своей, найдет лучший способ вывести Ее из такого трудного положения. Молчание – по мере молчания о Ней Самого Господа – представлялось Ей необходимостью, и Она молчала.
Так провела святая чета несколько времени под гнетом тяжкого искушения, и как бы приобщаясь грядущим страданиям Искупителя мира. И в то время, когда Он возрастал в утробе Матери плотью, Пресвятая Дева возрастала духом, уравновешивая внутреннее величие души с неизреченной высотой Матери Господа. И в святом Иосифе тяжелое положение его послужило лишь поводом к тому, чтобы выказалось, вместе с безукоризненной честностью, необыкновенное добросердечие его. Он долго боролся с собой, долго соображал, как поступить с Марией. Он имел, во‐первых, право всенародно обличить непраздную Деву, предав Ее строгости закона Моисеева, установленного на подобные случаи; но такая жестокость была совершенно противна его кроткому нраву и тому уважению, которое, при всех его подозрениях, он продолжал питать к Пресвятой Деве. Во-вторых, он мог оставить все дело это без внимания и последствий и продолжать носить имя супруга Той, Которая, по его мнению, была бракоокрадованной; но последний образ действий был противен совести его, решительно отвращавшейся от всякого потворства нечистоте и от всякого соучастия в неправде; и потому оставить по-прежнему Марию при себе, и тем отвратить от Нее бесславие, Иосиф признавал несообразным с законом Божиим и противным своей совести. После долгих соображений и колебаний, он – столько же добрый и милостивый, сколько правдивый и чистый – решился отпустить Пресвятую Деву, но тайно вручив Ей разводное письмо, в котором не прописывать причин развода, на что закон давал ему полное право. «Иосиф выказал в этом случае – замечает святой Иоанн Златоуст – удивительную мудрость: не обвинял и не укорял Деву, но думал только отпустить Ее».
Так праведный Иосиф, не ведая тайны воплощения Господа, смущается, сетует и придумывает наиболее приличное средство выйти из затруднения: желает сохранить честь Девы и избавить Ее от преследований закона и, вместе с тем, удовлетворить голосу своей совести, столь нежной и чувствительной. «Но это неведение тайны Божьей – говорит святой Прокл – нельзя ставить в вину праведному мужу: он невинен, что по незнанию заподозрил Божественное зачатие. Если Бог свидетельствует о праведности кого, можно ли обвинить того в неблагоразумии»?
Когда святой старец решается уже привести в исполнение, со скорбью принятое, свое намерение, – тогда и ему дано было откровение о великой тайне. Вот что произошло во сне, по сказанию Евангелиста «сия же ему (Иосифу) помыслившу, се Ангел Господень во сне явился ему», т. е. тотчас, как только мысль о тайном удалении от себя святой Обручницы утвердилась в душе старца. Ангел явился во сне и успокоил его. Значит Божественное Провидение хотя и скрывало от Иосифа великую тайну, но в то же время следило за всеми движениями правдивой души его; и как только появилась в ней мысль, несогласная с премудрыми целями Божьими, то Оно в ту же минуту просветило ум избранника Своего. Благопокорная душа Иосифа – по замечанию святого Иоанна Златоуста – не имела нужды в более чудном явлении Ангела наяву, потому что разительная точность сновидения с обстоятельствами самого дела и ангельское откровение о таких вещах, которые не могли быть известны никому из смертных, т. е. о тайных помыслах души Иосифа, достаточно могли удостоверить его, что слышанное им есть глас Божий и повеление небесное. «Он никому не говорил и только размышлял в душе своей – замечает святой Отец – и вот когда услышал, что Ангел говорит об этом же, – такое обстоятельство послужило для него несомненным знаком, что Ангел пришел сказать все это по повелению Божьему: потому что одному Богу известны тайны сердца».
Ангел говорил: «Иосифе, сыне Давидов! не убойся прияти Мариам, жены твоея, рождшееся в Ней от Духа есть Свята». Здесь самое название Иосифа «сыном Давидовым» употреблено Ангелом не без видимой цели: Иосиф, бедный древодел и дальний потомок Давида, именуется сыном, т. е. как-бы ближайшим наследником всего величия его, и таким образом мгновенно поставляется на высоту своего настоящего положения, с которой он, было, ниспал по поводу мрачного подозрения, в отношении к Пресвятой Деве. Этими словами Ангел как бы вещал ему: «потомок Давида! зачем ты так малодушествуешь? Зачем не приведешь себе на память древней и неотъемлемой славы дома твоего и смущаешься тем, что должно только радовать тебя? Хотя род царственного праотца твоего унижен и усечен до корня, но не из него ли должен произойти Царь славы, Спаситель мира? И не от Девы ли должен родиться Он? Не бойся принять Марии, жены твоей». Здесь Ангел прямо называет Пречистую Деву «женой Иосифа», для того, чтобы уничтожить подозрение о падении Ее и подтвердить ему, что Она жена его, а не другого мужа, что Она невинна и не принадлежала никогда другому. «Что значит принять? – спрашивает святой Иоанн Златоуст; – значит удержать в дому, так как он мысленно уже отпустил Ее. Эту отпущенную, данную, тебе не родителями, а Богом, удержи, – данную не для брака, но для сообитания».
Продолжая беседу свою во сне с Иосифом, Ангел как бы говорил ему: «довольно предаваться тебе мрачным мыслям, терзаться и страдать; узнай же истину и возрадуйся: рождшееся, что так смущает тебя – не от человека, а от Духа Свята: родит же Сына и наречеши имя Ему Иисус: Той бо спасет люди Своя от грех их». «Удивительное слово – восклицает святой Иоанн Златоуст – превышающее человеческую мысль и превосходящее законы природы»! «Да! – (как бы так говорил Ангел Иосифу) – жена твоя по обручению, и Дева по обету, произнесенному Ею пред Богом, родит Сына от Духа Святого; и ты, хотя и не отец Его, но будешь иметь честь, по праву отцов, наречь имя Ему Иисус, столь приличное Ему, потому что Он спасет весь род человеческий от греха и смерти вечной»!
«Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа Пророком, глаголющим: се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». Такое указание от Ангела на пророчество Исаии – по мнению святого Иоанна Златоустого – должно было служить руководящей нитью для Иосифа и в том случае, если бы он не удержал в памяти всех подробностей своего теперешнего сновидения». Ангел указывает Иосифу на Исаию на тот случай, чтобы он, если бы забыл о словах, только лишь возвещенных ему, мог восстановить их в памяти, припомнив слова пророческие, известные с древнего времени. С другой стороны, указание на столь древнее пророчество о рождении Мессии от Девы – удобнее могло расположить Иосифа к убеждению в девстве Марии: он слышал от Пророка о предмете знакомом, о котором сам же размышлял долгое время. Слова Ангела не оставляли ни малейшего сомнения в праведном сердце Иосифа; чистая душа его, преисполненная веры в Бога, приняла известие Ангела как несомненную истину, для которой не было нужды в доказательствах. И потому он – по свидетельству Евангелиста – «восстав от сна сотвори, якоже повелел Ему Ангел Господень, и прият жену свой, и не знаяше ее, дóндеже роди Сына своего прервенца» [ «Почему – спрашивает святой Иоанн Златоуст – Евангелист говорит «дондеже роди?» и отвечает: «этот образ речи часто встречается в Писании так что им не означается какое-либо определенное время. «Иначе сказать: частицей дóндеже выражается действие, продолжающееся не до известного только предела, но и за этим пределом. – «Единородный от Отца единороден и от Матери» – замечает святой Ефрем Сирин], т. е. принял Ее снова сердцем; с полной любовью, как свою обрученную, и с глубоким почтением, как Деву, принадлежащую Богу, с благоговейным страхом, как Матерь Божью, и безусловной готовностью служить Ей, как Госпоже своей и Владычице всего мира.
Для Марии и Иосифа – испытанное ими положение имело несомненно благой и великий духовный плод: Пресвятая Дева соделалась теперь в глазах Иосифа из Обручницы – благословенной Матерью Бога Слова; он сам должен был вскоре наречься отцом Его. Такая великая слава для обоих могла бы быть, вместе с этим, и великой опасностью для их смирения, этого истинного основания всех добродетелей; и вот, против этой-то опасности человеческого превозношения, премудрость Божья сочла за нужное воздвигнуть испытание для веры и мужества их.
С этого времени мирно потекли дни Пресвятой Девы, пока не приблизился час преславного исхода Ее благодатного чревоношения.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе