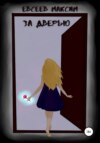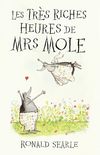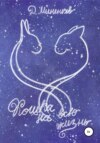Читать книгу: «Новый день», страница 6
Призвание
14.07
В одном я им соврал: в тот день у меня был выходной. Но это же не значит, что я должен был потратить его целиком на разговоры с этими журналюгами. Да и о чём, собственно, говорить?
Чем больше времени проходит после, тем сложнее наполнять смыслом события или их отсутствие.
Мне до сих пор не понято, на кой я им сдался. Хотя, учитывая, что на нашем кладбище, или, как сейчас стало модно говорить, некрополе всего лишь несколько десятков недо- или переумерших (уж сам не знаю) чахликов, из которых только около половины более-менее разговорчивых, рано или поздно я был обязан попасться в лапы к этим недобитым писакам.
Нет, в целом, братья Слизнёвы – неплохие ребята, просто лезут куда попало и выглядят жутковато. Последнее кстати, как видимо и то, что они оказались в числе неупокоенных задохликов, следует из первого.
Во времена своей догробной жизни они были честными журналистами-правдолюбами и разъезжали по провинции, обличая произвол и бесчинство местных власть имущих. Один из регионов они стали посещать особенно часто: уж больно скверные там творили делишки, а инфоповоды в СМИ лишь ненадолго меняли общую картину.
Журналистские расследования в наше время – дело не очень благодарное и крайне опасное, но Слизнёвы, взяв на себя нелёгкий долг служителей народа, продолжали наседать на негодяев, вскрывая всё новые и новые факты. Объясняя журналистам, что так делать не надо, группа ответственных за профилактические беседы людей явно перестаралась. Так братья и оказались здесь, на Воскресенском.
Тела их, а в особенности лица, были далеко не в лучшем состоянии. Но тягу к журналистике выбить из них так и не удалось. Поэтому, как только братья немного освоились и поняли, что к чему, свет увидели первые выпуски их нового самиздат-проекта «По ту сторону», малотиражной газеты о здешних колоритах, личностях и редких событиях.
В общем, каждый развлекается как может. Даже (или скорее особенно) после такой вот неполноценной смерти, которая приключилась с нами.
Никто не знает, как это происходит, да и контингент тут обычно набирается не очень вдохновлённый на поиск новых откровений. Поэтому существует пара-тройка пустых версий и уйма времени, чтобы их пообсуждать и остаться с изначальным ничем. Та ещё забава.
Кстати, я соврал Слизнёвым дважды. Личные записи, которые они предложили мне вести, чтобы потом вставками из них разнообразить интервью, я не забросил после первого же раза. Напротив, эта писанина самому для себя мне даже понравилась. Не назвал бы это дневником, так заметки безутешного, но иногда помогает отвлечься.
Подумываю о том, что, когда закончу эту тетрадку, можно будет подбросить её в одну из книжных кафешек в центре, например, в «Угрюмую улитку». Вот смеха-то будет, когда кто-нибудь из любопытства решит её полистать. А там, глядишь, если попадётся особо впечатлительный читатель (в Улитке таких полно) смогу стать основоположником нового эзотерического учения. Вот это я понимаю жизнь после смерти… Только надо будет этим запискам ручной переплёт заказать и ещё название придумать интересное. Сейчас рабочее «Записки с того света» … не знаю, что-то мне это напоминает, а ничего оригинальнее пока в голову не идёт.
Кажется, светает, скоро на работу…
16.07
Что можно рассказать о “жизни” здесь? В целом она мало чем отличается от моих прежних будней. Да, теперь у меня низкооплачиваемая неофициальная работа, не чета моей прошлой службе, но и ответственности никакой, спрос с тебя минимальный: приходи вовремя, не филонь и старайся честно раздать свою ежедневную пачку листовок, будь полюбезнее с людьми и всё – грошовая зарплата беженца-маргинала тебе гарантирована. Казалось бы, серьёзный повод сетовать на мои новые реалии, но всё уравновешивается снизившимися потребностями. Есть практически не хочется; знаю пару ребят, что высохли почти до костей, пока им не сказали, что они по-прежнему могут есть, а то эти бедолаги, утратив аппетит, уже возомнили себе, что внутри у них всё сгнило и вообще они чуть ли не ожившие мертвецы. Нет, так-то оно, конечно, так, но с зомбаками нас объединяет только “загробная” жизнь. Ни тяги к человеческой плоти, ни безвольных хромоногих шатаний по кладбищу и тёмным городским закоулкам под звуки собственных пугающих стонов – ничего такого среди наших оживших задохликов нет, я ручаюсь. Видок у здешних обитателей, безусловно, потрёпанный: все как один бледные, худые, ссутулившиеся, кто-то вообще очнулся калекой. Но работал я по молодости в одном офисе и там, скажу вам, подборка была не лучше (может, их с Воскресенского и набирали, кто знает…).
Так вот… вернёмся к потребностям. Есть почти не хочется… Хотя признаюсь: у меня осталось пристрастие к сладкому, я, наверное, только потому и работаю целыми днями, как обычный человек, чтобы позволить себе вечером стаканчик кофе и пару пирожных в каком-нибудь тихом, уютном кафе.
К слову, энная часть наших бродяжничают в поисках себя и хоть какого-то смысла, некоторые уходят с головой в книги, не знаю уж, что они рассчитывают там найти. Полноценно к прежней жизни не пытается вернуться никто. Конечно, немногие счастливчики вроде Слизнёвых смогли найти применение своим навыкам и реализовывать свой потенциал даже в нашем посмертном захолустье, но и они скорее культивируют остатки своего прошлого в новых реалиях, не в силах от него отказаться (как, впрочем, и я от сладкого), чем пытаются вернуть былое. Всё потому, что смерть ни для кого не прошла бесследно. И дело даже не в том, что после того, как ты выползаешь из вонючей тины близлежащего болота, в которое с каждым годом утягивает всё новые и новые захоронения, ты похож на пожёванную беззубой коровой пластилиновую версию себя. Нет. Всё гораздо сложнее.
Постоянный спутник того, чья жизни по неизвестной причине продолжилась после того, как его тело в дурацком ящике опустили в заболоченную яму и халтурно присыпали земелькой местные прохиндеи, ПУСТОТА. Радости, смыслы, надежды, цели – всё, что делает нашу нелёгкую жизнь такой притягательной и бесценной, в одно мгновение исчезает, и внутри остаётся лишь нагая беспредельная пустошь. Не существует больше десятков невидимых пут, крепко связывавших тебя с земными идеалами, теперь все они прах, раздуваемый неугомонными ветрами пустоты. Ты ждёшь новых откровений, истин, что заполнят бездну внутри, а вместо этого оказываешься в прежнем мире, неся в себе пустоту, которой ему больше нечего противопоставить.
Не знаю, удалось ли мне передать то состояние, в котором мы вынуждены существовать. Но если по-простому, то нас как будто не пропустили на следующий после жизни уровень и отправили обратно: перепройти можно, даже бонусов всяких насобирать, только ты уже прекрасно знаешь, что в конце всё обнулится. Теперь значение имеет лишь: пустят ли тебя дальше и существует ли оно вообще.
Вот и ломай себе голову в объятьях неизвестности посреди непроглядной пустоты.
Вообще, я собирался описать более материальные стороны нашего существования, но, видимо, придётся отложить это до следующего раза и отправиться на прогулку, утаптывать в землю подступившую к горлу грусть-тоску.
17.07
Так, на чём я там вчера остановился? Ага, печальные занудства… а, вот то, что нужно (так сказать под настроение): пожалуй, стоит озаглавить сегодняшние записи: “Описание уклада и быта Воскресенских умертвий или путь от могилы до общины” и постараться не отходить от темы.
Скажу сразу: несмотря на то, что этаким вторым роддомом для всех нас стало Воскресенское кладбище, никакого вурдалачего быта в склепах (которых тут, к слову, раз, два и обчёлся) и гробах мы не практикуем. За исключением нескольких совсем потерянных, чудаковатых добровольно бездомных, все квартируются в заброшенных домах соседней вымершей деревушки (именно её жители и легли в основу первых линий нашего кладбища).
Моё жилище – маленькая, цвета морской тины, хибарка на самом краю поселения, близ конечной автобусной остановки, с которой я почти каждый день мотаюсь в город и обратно.
Из всех благ цивилизации моя обитель располагает немногим, но, по-моему, самым необходимым для новой жизни, а именно
(давно хотел провести опись своего имущества):
1. Бревенчатые стены – четыре штуки. Широкие щели в них густо замазывали штукатуркой ни одно поколение жильцов. Я же решил эту проблему элегантнее – монтажной пеной. Баллонов я истратил порядочно, но зато моя избушка стала по-настоящему неприступной для ветра крепостью.
2. Обложенная кирпичом буржуйка, оказавшаяся не только чудесным теплогенератором, но и неплохой альтернативой газовой плите. К тому же в деревне обнаружился погреб, доверху забитый углём, так что отпала необходимость ходить за дровами (хоть это пошло в ущерб крестьянской романтике).
3. Умывальник, который по своему устройству напоминает кулер, подвешенный над раковиной с выведенной на улицу сточной трубой. Не центральная канализация, но после пары месяцев эксплуатации он перестаёт казаться таким уж ужасным. Если бы ещё за водой не приходилось таскаться к колонке… ладно, оставим бесплодные мечты на потом.
4. Туалет дачный. И это самый главный удар по концепции «мой дом – моя крепость», потому что жилище с удобствами на улице тянет максимум на статус окопа.
5. Дубовая (судя по жёсткости) кровать. Кажется, её не спасёт даже три матраса (два точно не помогают). Стоит только возлечь на это спартанское ложе и прикрыть глаза, как тебя начинают одолевать сомнения, не в гробу ли ты вновь оказался. Может, поэтому у меня проблемы со сном?
6. Так, остались одни мелочи: тяжеленный деревянный стол и две табуретки под стать ему, очень удобное кресло с засаленной, кое-где расползающейся тёмно-зелёной обивкой, лампа на батарейках, пара криво повешенных полок, кое-какая посуда и почерневший от времени кованый сундук с всякими мелочами.
Всё, вроде справился.
Собственно, подобное благоустройство с небольшими вариациями имеют все здешние жилища, облюбованные нашим братом. Разве что дом-редакция Слизнёвых, развёрнутая в бывшем сельском клубе, устроена иначе.
На первый взгляд форпост местной журналистики такое же заброшенное здание, как и все остальные, только двухэтажное. Но внутри него, по какой-то счастливой случайности, сохранилось электричество, и, как выяснилось, это меняет многое. Особенно, когда в таком месте оказывается не очень-то прихотливый, но очень рукодельный электромонтёр Анатолий.
Дядя Толя (так мы зовём его, потому что среди относительно молодых оживших он один из немногих, кому удалось дотянуть до пенсионного возраста с первого раза), очутившись на Воскресенском несколько лет назад и более-менее разобравшись в том, что здесь происходит, решил, подобно журналистам, не отказываться от своего призвания (которое его, к слову, и сгубило) и продолжить копаться в проводке, электроприборах и тому подобном. Конечно, для такого человека выбор в качестве жилища единственного электрифицированного здания в округе был очевиден. Правда, в то время только дядя Толя знал о том, что часть проводки в клубе уцелела (профессиональное чутьё – не иначе).
В общем, не прошло и пары месяцев, как клуб наполнился пробивающимся через многолетнюю пыль светом люстр, дребезжанием где-то добытого и отремонтированного электрочайника и незатейливыми мелодиями из восстановленного радиоприёмника. Дядя Толя всегда был человеком гостеприимным и здесь этого качества не утратил – вечерние посиделки-чаепития на первом этаже сельского клуба стали обычным делом.
Чуть позже одна из завсегдатаев таких званых вечеров, учитель русского при первой жизни Елизавета Павловна, обнаружила в закромах клуба вполне сносную библиотеку. Местные книголюбы её поддержали и понанесли отовсюду ещё столько же разнообразной литературы. Так первый этаж заброшенного сельского клуба стал походить скорее на литературное ретро-кафе, чем на место досуга нечаянно оживших.
Сам дядя Толя занимал всего одну небольшую, но хорошо освещённую комнатку на втором этаже, в которой, по всей видимости, раньше обитал управляющий. Поэтому, когда к нему пришли отчаявшиеся найти подходящие место для своего ремесла Слизнёвы, он с радостью согласился отдать оставшиеся помещения под их редакцию и помочь с необходимым оборудованием. С того момента дядя Толя, назначенный братьями ответственным за всё электрооборудование в редакции, вновь обрёл постоянную работу, чему был несказанно рад.
Он с удовольствием принялся чинить (а точнее, собирать нечто рабочее из кучи никуда не годного) старые принтеры, маломощные компьютеры, пузатые мониторы, которые несли со свалок все сочувствующие общему делу. Я, кстати, тоже приволок как-то купленный за сущие копейки на радиорынке потёртый увесистый ноутбук – с ним, кажется, дядя Толя периодически возится до сих пор.
Когда требуются чернила, бумага и прочие расходные материалы, не признающим коммерческой деятельности Слизнёвым приходится через посредников брать для дяди Толи заказы на ремонт техники с большой земли. Как бы тягостно ни было братьям признавать это, но даже им иногда нужны деньги.
Вообще Слизнёвская бравада про неработающих Воскресенских идеалистов – конечно же, обычная журналистская утка. Будь ты хоть сотню раз оживший, если тебе понадобится что-то из материальных благ этого мира (а рано или поздно так случится), на “бесплатно” и “задаром” можешь не рассчитывать. И тогда, хочешь не хочешь, придётся идти зарабатывать. Как ты это будешь делать – вопрос другой. Но если уж ты вернулся в социум, этот пункт стороной тебе обойти не удастся.
Что ещё интересного у нас тут организовалось? Ах да! (сказывается мое питание на стороне). Не так давно общинный дух нашей недобитой братии укрепил Гриша, устроивший в одном из домов пекарню, с фактически бесплатным хлебом и сдобой на любой вкус. Этот славный парень оказался здесь по вине нелепого ДТП явно раньше положенного срока. Как и многие, слегка осмыслив случившееся, он решил остаться с подобными ему бедолагами и занял неприметный домик близ колонки. Повар по профессии, Гриша, обнаружив у себя под боком дореволюционную русскую печь, заново обрёл себя.
Поначалу он готовил всё подряд из того, что смогли раздобыть соседи, которые не забыли о том, что даже после формальной смерти есть хоть иногда, но нужно. Затем, понемногу освоившись с печью и имеющимися в нашей загробной деревушке ресурсами, Гриша решил вспомнить свою первую работу в качестве помощника пекаря и перешёл на выпечку (первые и вторые блюда в неизменных кубастых чугунках он теперь делает только по особым поводам). Сдоба у него, кстати, выходит не хуже, чем в городских булочных (а я, признаюсь, захаживал во все наиболее приметные).
Работает Гриша, под стать остальным Воскресенским трудягам, крайне фанатично, а потому неизбежный избыток продукции ежедневно продаёт на городском рынке здешний помазанник Гермеса Андрей. Коммерческие заказы для дяди Толи по просьбе Слизнёвых тоже подыскивает он всё на том же рынке.
Если рассматривать наше неформальное хоррор-объединение нечаянно оживших как некую общину (а именно такого мнения я и придерживаюсь), то Андрюша в ней занимает место главного казначея. И пусть на кладбище Андрей попал по далеко не самой обычной причине, для многих он стал надёжным товарищем, а его предпринимательские таланты явно пошли на пользу здешнему небогатому хозяйству. Что и говорить, с его появлением наша новая жизнь окончательно наладилась. Теперь остаётся только «жить и радоваться!». Да что-то у меня не выходит…
18.07
Хоть я и расписал тут все прелести нашей дружной общины, но, откровенно говоря, я не ощущаю себя её частью. Конечно, мне здесь всегда рады, и, в свою очередь, я всегда готов оказать посильную помощь в каких-то общих делах Воскресенского. Но в целом… нет. Я сам по себе.
Может, до этого признания и пытались докопаться внимательные Слизнёвы, напирая в течение всего интервью на мою нехарактерную для здешних обособленность и индивидуальность?
Так или иначе, я, и правда, предпочитаю своеобразную социальную изоляцию в одной из городских кафешек общению с товарищами по несчастью. Каждый день я провожу среди сотен незнакомых мне обыкновенных людей, которые и не догадываются о том, что порой происходит на Вознесенском. И меня это устраивает.
На улице в толпе прохожих или в чайной в окружении других посетителей я не ищу общения. А просто наблюдаю, размышляя о мелочах, деталях сюжетных линий судьбы, которым уже никогда не суждено сбыться. Как и пристрастие к сладкому это ещё одна вредная привычка из прошлого.
Сколько себя помню, я постоянно планировал, мечтал и фантазировал над всем, что могло бы со мной произойти. План длиною в жизнь. И не в одну. Десяток не меньше…
Сжечь столько времени, чтобы осветить пленительный калейдоскоп событий и пускать на них слюни. Да, это было в моём стиле.
Но больше я ничего не планирую, просто смотрю на людей и даю мыслям полную свободу складываться в какие угодно истории. Скинув с себя ношу пустых амбиций и притязаний, я не спеша плетусь через преграду дней навстречу неизвестно чему. Хотелось бы верить, финалу. На этот раз полноценному.
20.07
По традиции перечитал пару последних записей. Пришла мысль: «А что если все мы в аду?». Я, конечно, не первый, кого посещают такие идеи, ну а чего вы хотели от кучки очнувшихся после смерти людей?
Ведь по логике вещей мы должны были оказаться в одном из полюсов загробного мира (рай/ад, парадиз/геенна огненная, называйте их, как хотите), или, на худой конец, навсегда раствориться в небытие, ну, или хотя бы переродиться в иной оболочке. А что в итоге?
Мы очухались всё на той же земле, где нас намедни прикопали, и продолжаем жить по старым, хорошо знакомым правилам. И никаких тебе сансар и новых миров. Но, может быть, именно такая форма ада уготована самым злостными грешниками.
Быть запертым в нашем мире, не зная, будет ли всему этому конец или мы обречены скитаться здесь вечно, чем не наказание? Хотя, с другой стороны, большинство новожителей Воскресенского не выглядит такими уж горькими страдальцами, а некоторые (те же Слизнёвы, дядя Толя, Гришка) так и вообще, кажется, счастливы…
Тогда, возможно, мы оказались в каком-то промежуточном положении между раем и адом. В лимбо…(хотя нет, это, кажется, какой-то танец) в лимбе (я что-то читал об этом еще в школе).
Что ж, быть избавленным от кипящих котлов, раскалённых кольев и прочих инструментов адских увеселений уже неплохо.
23.07
Если на смертном одре вы сможете с уверенностью сказать, что ничего плохо не делали и, в сущности, были вполне порядочным человеком, разве это сможет вас успокоить? Лично мне не помогло.
Жизнь заканчивается так же неожиданно, как начинается, абсолютно без нашего участия. Твоё мнение никто не учитывает. Можешь завещать оставить его на своём надгробии. На большее оно не сгодится. Ты был, и тебя не стало. Стоит просто принять это и не сопротивляться.
Я не упорствовал. Не успел. Но было до жути обидно расставаться с этим миром, раз и навсегда лишиться непостижимого чуда жизни. В конце концов, было попросту жалко самого себя.
Вообще, мне кажется, что именно сожаления обо всём, что мы когда-то совершили или, наоборот, не смогли, делают нас людьми.
Могла ли запредельная доза жалости, принятая мной в ту роковую ночь, стать причиной того, что я продолжаю существовать по-прежнему, по-человечески, и не смог перейти в какое-то качественно иное состояние?
***
А, может, моя смерть не удалась, потому что я умер уже давно?
Интересно, когда это могло произойти? В пятнадцать или даже в тринадцать лет, когда я впервые пренебрёг бесценными дарами жизни. Видимо, она такого не терпит и немедленно, без всякого предупреждения расстаётся с наглецами. А они, ничего не заметив, продолжают очернять и поносить то, что им уже никогда не будет доступно. Отныне их удел – по инерции существовать на самых задворках, в тени отбрасываемой настоящей жизнью. Высокая цена за неискоренимую человеческую глупость.
С чем бы сравнить такое безрассудное наше поведение?
Не знаю, приемлема ли моя схема для женщин, но уж больно она мне нравится.
Жизнь – это роскошная красавица, роман с которой мы закрутили с самого рождения. И именно в этом кроется вся наша беда. К моменту, когда мы возмужаем и окончательно окрепнем, она, какой бы привлекательной и обворожительной ни была, входит в привычку, приедается и, в конечном счете, утомляет. Мы перестаём смотреть на красотку, подпустившую нас к себе так близко, и всё больше заглядываемся на обольстительных незнакомок: смерть, философию, новую жизнь.
Только вот, растрачивая себя на пустые заигрывания с другими, мы неизбежно отдаляемся от нашей первой самой преданной и честной возлюбленной, и редко кому из людей удаётся спасти эту первую любовь.
Грустно, конечно, но вряд ли нам когда-нибудь удастся поменять эту закономерность.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе