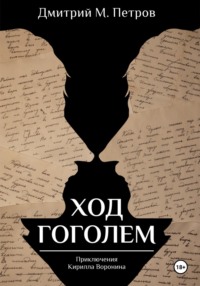Читать книгу: «Ход Гоголем»
Пролог
Ранним морозным утром 9 февраля 1852 года, когда ни один луч солнца ещё не показался из-за горизонта, по центру Москвы шёл человек.
Несмотря на сильную вьюгу, одет он был в лёгкий осенний плащ. Голова была не покрыта, так что чёрные волосы развевались на сильном ветру. Человек не боялся замёрзнуть – он знал, что не простуда убьёт его, а болезнь гораздо более тяжёлая, которая к тому же уже давно набрала силу и теперь только и ждала своего часа, чтобы нанести решающий удар.
Сгорбленная фигура передвигалась медленно, опираясь на тонкую трость, – идти по рыхлому снегу было тяжело, каждый шаг давался с трудом. Ледяной ветер пронизывал до костей, но человек не замечал холода – ему нужно было дойти, непременно дойти до цели!
Хотя путь был коротким, он отнял слишком много сил – человек с трудом поднялся на крыльцо и заколотил набалдашником трости в деревянную дверь церкви.
Вскоре дверь отворилась, и ранний визитёр ступил внутрь храма.
– Николай Васильевич! В такую рань! – ахнул открывший дверь священник.
– Времени нет, отче, – прохрипел человек, смахнув иней с отросших и неухоженных усов. – Я прошу вас сохранить этот свёрток.
С этими словами он достал из-под плаща туго перемотанный бечёвкой бумажный пакет.
– Это то, о чём вы говорили, Николай Васильевич? Рукопись?
Гость зашёлся в кашле и, отдышавшись, произнёс:
– Кто-нибудь придёт за свёртком. Пока не знаю, кто: Толстой, Аксаков, может быть, Шевырёв. Только, ради Бога, не отдавайте её отцу Матвею! Он уничтожит её, не позволит напечатать!
Священник вздохнул:
– Он так ничего и не понял? Такой светлый ум, но такой ограниченный…
– Кто бы ни пришёл за свёртком с желанием напечатать рукопись, скажите ему: печатать без правок, сколько бы времени ни понадобилось, чтобы книгу одобрили. В этом весь смысл! Народ поймёт, что я хотел сказать. – Он опять закашлялся. – Запомните: печатать без правок! Так завещал Гоголь.
Глава 1
Кирилл Воронин сидел покачиваясь в вагоне метро и активно злился на самого себя.
«Чёрт меня дёрнул открыть рот! Ну чего не сиделось молча, как обычно? Нет же, надо было выступить… Как будто у меня и без этого доклада дел мало…»
До пункта назначения оставалось ещё несколько станций, поэтому Кирилл продолжил предаваться мысленному самобичеванию и раз за разом прокручивал в голове события того утра.
А утро в тот день, 8 ноября 2021 года, выдалось необычным – Кирилл проснулся непривычно рано. Он уже и забыл, каково это, – просыпаться по будильнику, но сегодня иначе было нельзя, ведь естественный ход вещей должен был в очередной раз измениться. Но тогда Кирилл даже представить себе не мог, насколько.
Обычно он неплохо высыпался на своей старой скрипучей кровати в комнате студенческого общежития, но не в этот раз. Взглянув на часы на экране телефона, он поморщился, лениво потянулся, повалялся ещё пару минут, борясь со сном, но в конце концов встал.
Его взгляд упал на рабочий стол: в центре стоял выключенный старенький ноутбук, вокруг которого валялись в хаотичном беспорядке десятки документов, не считая ручек, карандашей и его драгоценного блокнота в кожаной обложке – подарка родителей перед отъездом в Москву. «Опять уснул прямо за работой – мне бы учёбой с таким усердием заниматься, – укорил себя Кирилл. – Надо быть осторожнее – нельзя, чтобы кто-то увидел мои бумаги». Он бросил короткий взгляд на кровать соседа по комнате – как и последние несколько недель, она была пуста. Прекрасно понимая, что причиной отсутствия приятеля стал очередной загул, Кирилл ухмыльнулся – то ли от злорадства, то ли он неприязни. Одобрить поведение соседа он никак не мог.
Воронин захлопнул крышку ноутбука и аккуратно сложил бумаги в стопку, особенно осторожно обращаясь с одним пожелтевшим от времени листом – его он сначала положил в отдельный файл, а затем ещё и в пластиковую папку-уголок. Всю стопку он положил в старую картонную папку со стандартной надписью «Дело №» и зашнуровал. Коротко полюбовавшись наклейкой с изображением старинного герба, который он сам нарисовал и раскрасил разноцветной тушью, парень убрал документы в потайное отделение в ящике стола.
Взглянув в окно без штор, Кирилл увидел хмурую темноту раннего ноябрьского утра без всякого намёка на рассвет. Несмотря на деревенское детство и ежедневные подъёмы с петухами, почти два года дистанционного обучения в университете без необходимости вставать на пары ни свет ни заря сделали своё дело – он уже отвык просыпаться так рано.
«Теперь всё будет по-другому», – подумал Кирилл и стал морально готовиться к предстоящему дню.
Жизнь большинства людей уже давно вернулась в привычное русло – почти нигде не требовались прививки и анализы, в кафе можно было попасть без предъявления непонятных кодов, а наличие на лице медицинской маски уже вызывало больше вопросов, чем её отсутствие.
И лишь студенты до этого самого дня, как и полтора предыдущих года, продолжали учиться дистанционно, за исключением редких очных занятий. Кирилла, впрочем, такая учёба вполне устраивала: он не слишком хорошо умел общаться с людьми, тушевался перед преподавателями, не любил находиться в большом коллективе и вообще в центре внимания. А без этого в учёбе никуда.
Так что дистанционное обучение вполне ему подходило. Самостоятельное изучение методических материалов вместо лекций, видеоконференции вместо ответов у доски, онлайн-экзамены, списать на которых было проще простого, – всё это прочно вошло в студенческую жизнь и сейчас собиралось наконец покинуть её.
– Теперь всё будет по-другому, – повторил Кирилл, с неохотой натянул шорты и майку и вышел из комнаты.
Коридор общежития был непривычно оживлённым – все студенты в кои-то веки встали одновременно, к первой паре. Повсюду сновали полуголые молодые люди, с кухни доносился запах жареных яиц, а в туалет – вот удивительно! – была очередь, в конец которой и встал Кирилл.
– Ну что, Кирюха, готов к настоящей учёбе? – подмигнул ему старшекурсник Артём Соколов – звезда исторического факультета.
Его извечное хорошее настроение Кирилла немного раздражало. Артём был весел всегда, независимо от того, о чём шёл разговор и сколько он выпил накануне на очередной студенческой вечеринке. Никто не понимал, как ему удаётся успешно совмещать совершенно разгильдяйский образ жизни и блестящую учёбу – ещё на четвёртом курсе Артём успел сделать себе имя, найдя саркофаг с захороненным в нём знатным аланским воином во время археологической практики на Кавказе. Казалось, ему – высокому и спортивному любимцу девушек – место на страницах приключенческого романа, а не на «скучном» историческом факультете.
– Тём, хорош, и без тебя тошно, – поморщился Кирилл. – Я лёг три часа назад. Представь, как я себя чувствую, и сам ответь на свой вопрос.
– Опять за своими книгами сидел?
– Угу.
– Вот объясни мне, как так получается, что ты любишь книги больше всех, кого я знаю, но с учёбой у тебя не очень?
– Не люблю читать, когда заставляют. И зубрить не люблю, и отвечать по прочитанному. Да и что у нас за программа такая? Разве это интересно? Проходили бы мы фантастику, детективы или какие-нибудь приключения…
– Послушай, дружище. – Он положил руку Кириллу на плечо. – Книги – это, конечно, здорово, и без них в нашем деле никуда. Но и отдыхать же надо уметь!
– Я умею отдыхать, – проворчал Кирилл.
– За чтением книг? – Артём расхохотался. – Эх, что за пропащее поколение!
– То же, что и у тебя, – ты всего на два года старше меня. Заходи давай, не задерживай очередь.
Спустя минуту подошла и очередь Кирилла. Взглянув в заляпанное следами брызг зеркало, он оценил свой видок. Растянутая майка прикрывала худощавое тело – плечи вроде бы широкие, но вот было бы на них хоть немного мышц! Кирилл в очередной раз подумал, что стоило бы заняться хоть каким-нибудь спортом, а то совсем нездоровый вид получается. А если прибавить сюда худое бледное лицо с острым подбородком, мешками под глазами и взъерошенными тёмными волосами, то можно представить, что в зеркале Кирилл увидел то ли зомби, то ли вампира из фильмов ужасов, которые он так не любил. Даже обычно синие глаза потускнели и стали почти серыми. «Надо начинать ложиться пораньше, – промелькнуло в голове. – Теперь спать до обеда уже не получится».
Приведя себя в порядок, насколько это вообще было возможно, Кирилл вернулся в комнату и начал собираться. «История русской литературы, правоведение, синтаксис, – прочитал он расписание на экране смартфона. – Ну и скукота! Особенно правоведение – зачем оно мне? Где хоть что-нибудь интересное?»
Кирилл был студентом третьего курса филологического факультета МГУ. Не то чтобы он всю жизнь мечтал учиться именно здесь: несмотря на то, что он с самого детства любил книги и зачитывался ими с того самого момента, как только научился читать, сама наука филология казалась ему чем-то непонятным, несовременным и ненужным. Зачем учить свой язык, если все и так на нём разговаривают? И тем более, зачем учить историю своего языка? Все эти яти, еры, ижицы и юсы? Все книги, написанные с их использованием, уже давно переведены на современный язык, значит, никому знание этих букв, а тем более какой-то там «исторической грамматики русского языка» больше не нужны! Конечно, какие-то предметы Кириллу были всё-таки интересны, например, этимология – наука о происхождении слов, или компьютерная лингвистика – одна из основ невероятного прорыва в разработке нейросетей, случившегося в последние годы. Но не вся филология в целом, это уж точно.
Однако обстоятельства сложились так, что поступать Кириллу пришлось именно на филфак. Обстоятельства, которые теперь занимали все его мысли: пожелтевший листок, спрятанный в столе, и днём и ночью не давал ему покоя. Когда-нибудь он обязательно разгадает его тайну, но это будет ещё не скоро – для начала нужно изучить массу материалов, а самое главное – получить доступ в такие места, куда просто так не попасть. «И тогда потраченное на учёбу время окупится сторицей», – удовлетворённо улыбнулся Кирилл и тут же задумался. Подойдя к столу, он написал в своём блокноте: «Узнать, что такое “сторица”». Он часто записывал мысли, которые считал важными. Вечером у него будет время, чтобы изучить значение этого фразеологизма, но не сейчас – сейчас третьекурсник постарался сосредоточиться на предстоящей учёбе и выкинуть все посторонние мысли из головы, ведь для решения задачи ему нужно было учиться не просто хорошо, а отлично. А это не очень просто, когда учёба тебе не интересна.
Кирилл бросил шорты и майку на спинку стула, на которой уже возвышалась гора другой одежды, после чего натянул мятую футболку, потёртые джинсы и серую толстовку с капюшоном. Надев видавшее виды пальто, будущий филолог закинул на плечо сумку на длинном ремне, провёл рукой по непослушным волосам, делая вид, что причёсывается, и покинул комнату.
Выйдя из подъезда общежития, он окунулся в мерзкое ноябрьское утро. «Ну хоть дождя пока нет», – подумал Кирилл и зашагал по мрачной улице. В запасе оставалось минут десять, можно было сделать небольшой крюк через смотровую площадку на Воробьёвых горах. Он любил приходить сюда, особенно утром, когда смотровая не занята ни туристами, ни свадебными фотосессиями, ни наглыми стритрейсерами. Раннее утро – отличное время для любования Москвой, на которую только-только начинает падать солнечный свет, пусть и сквозь облака, выхватывая из темноты северной части неба силуэты зданий.
Москва Кириллу не нравилась. Кроме Воробьёвых гор и ещё пары мест, всё здесь было ему не по душе. Этот город – шумный, переполненный людьми и машинами, живущий в вечной спешке и никогда не спящий – не принимал его. В первое время он пробовал гулять по Москве, исследовать её, знакомиться с достопримечательностями, но быстро сдался – это был точно не его город. Поэтому и знал столицу Кирилл не очень хорошо. Конечно, отчасти виной тому карантинное время, проведённое практически взаперти, но основная причина – природная Кириллова лень и привычка откладывать всё на потом.
«Что она, куда-то денется, Москва эта? – часто отвечал Кирилл, когда немногочисленные приятели звали его погулять по центру. – Успею ещё». И оставался в общежитии или ехал один в одно из немногих любимых им мест в городе.
Вот и сейчас он в одиночестве стоял в точке с самым лучшим видом на Москву и смотрел на приходящий в себя после ночи город. Небо было затянуто серыми облаками, и лишь где-то на востоке виднелся просвет, через который пробивались первые лучи солнца. Окинув взглядом сталинские высотки по ту сторону Москвы-реки, он обернулся и посмотрел на самую знаменитую из них.
«Главное здание МГУ, моя альма-матер».
За два с лишним года Кирилл не перестал испытывать чувство восхищения. Здание Московского Государственного университета вызывало у него трепет с тех самых пор, как он впервые его увидел. Не считая Останкинской башни и монструозного стеклянного оазиса Москва-сити, оно было самым высоким в Москве.
Кирилл двинулся к высотке, не в силах отвести взгляд от колоссального сооружения. Контраст между освещёнными утренним солнцем участками фасада и участками, остававшимися в тени, создавал величественное и немного жуткое ощущение. Огромное здание, казалось, обнимало прилегающую площадь своими восемнадцатиэтажными крыльями.
Студент бросил взгляд на башню правого крыла: стрелка расположенного там термометра с механическим циферблатом показала плюс пять градусов.
– Ощущается как минус пять, – пробормотал он, передразнивая ведущего прогноза погоды, и поёжился. Переведя взгляд на симметричные термометру часы на левой башне, он с грустью осознал, что пора идти на учёбу.
Нехотя он двинулся в сторону главного здания МГУ, но, подойдя практически вплотную, свернул налево и пошёл на соседнюю улицу. Да, Кирилл мечтал о том, чтобы учиться в главном корпусе, и часто представлял, как прямо на лекциях смотрит в окно, любуясь Москвой с высоты птичьего полёта. Но его факультет – филологический – располагался совсем в другом строении.
– Ну здравствуй, страшилище, – уныло поприветствовал Кирилл здание Первого гуманитарного корпуса.
Оно было построено уже после принятия знаменитого хрущёвского Постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», поэтому представляло собой типичный для постсталинской архитектуры уродливый серый параллелепипед. Здание считалось самым некрасивым учебным корпусом МГУ, причём, как считал Кирилл, совершенно заслуженно.
У входа в корпус он задержался, поднял глаза на бетонное панно над дверьми. «Удивительно, что никто так до сих пор и не понимает, что же тут изображено!»
Входную группу украшали примитивные изображения четырёх мужчин атлетического телосложения в окружении самых разных предметов и необычных символов. Тут были и египетские иероглифы, и славянские буквы, и космонавт, и совсем уж неуместная голая женщина, и многое другое. Студенты уже пятьдесят лет ломали голову над значением этого барельефа, строя самые невероятные догадки: от тайного послания архитектора до инопланетного следа.
«Да уж, одна из загадок человечества, над которой так любят ломать голову студенты вместо учёбы. И находят же время заниматься такой ерундой?» – подумал Кирилл и зашёл в учебный корпус.
С громким вздохом он окинул взглядом знакомые интерьеры: серые колонны тянулись от серого пола до серого потолка. Ровные ряды квадратных светильников тускло освещали помещение – всё в нём было строгим, геометрически выверенным и непременно серым. Выделялась из общего тоскливого антуража разве что изогнутая лестница на второй этаж. Каждая её ступенька опиралась на одну-единственную узкую дугообразную опору, а по краям поддерживалась тянущимися к потолку блестящими трубками, отчего казалось, что вся конструкция парит в воздухе.
Внутри царило необычайное оживление. Студенты разбились по кучкам и общались в ожидании первой пары. Кто-то давно не виделся, кто-то – первокурсники – вообще впервые встретились в университете, а кто-то успел обзавестись ребёнком и теперь получал поздравления от подруг или подколки от друзей – жизнь возвращалась в привычное русло.
Кирилл знакомых лиц не увидел, поэтому сразу направился к аудитории. «История русской литературы XIX века», – вздохнул он – этот предмет уж точно не относился к числу любимых. В иных обстоятельствах Кирилл приготовился бы полтора часа бороться со сном, но сейчас, к счастью, делать этого не пришлось – преподаватель завладел вниманием аудитории, едва войдя в помещение.
Николай Васильевич Решетников был настоящим знатоком русской литературы. Казалось, он мог выудить уместную цитату из абсолютно любого произведения, а ориентировался в бесконечном потоке фамилий, исторических фактов, тем и идей так, будто сам жил в те времена. И при всех этих знаниях его никак нельзя было назвать занудным – он умел увлечь своей лекцией студентов, распаляя в них интерес к книгам, которые раньше казались им скучными. А с каким энтузиазмом, с каким рвением рассказывал он о своём предмете!
Решетникову было слегка за пятьдесят, хотя его энергии позавидовал бы и тридцатилетний – о возрасте говорили лишь проблески седины в аккуратно уложенных волосах, старомодные усы и очки в толстой оправе. Одет он был как типичный профессор – чёрная водолазка и пиджак, застёгнутый на обе пуговицы. Впрочем, в отличие от одежды многих преподавателей старшего поколения, его пиджак выглядел довольно стильно, хоть и был маловат в плечах, отчего сидел не слишком удачно.
Кириллу Решетников нравился. Под его руководством он уже прошёл дистанционно курсы русской литературы с XI до XVIII века. Теперь же наступил черёд века XIX.
– Доброе утро! – бодро воскликнул Решетников, заходя в аудиторию. – Тратить время на перекличку и составление списка мёртвых душ не будем – на мою оценку в конце семестра присутствие на лекциях никак не повлияет. Поэтому если кто-то считает, что прогулка в парке или чашка кофе в кафетерии важнее, чем один из ключевых предметов вашей специальности, я спорить не буду. Итак…
Решетников окинул взглядом аудиторию, в которой присутствовала лишь горстка студентов, – даже на профильном предмете посещаемость была не на высоте. Он равнодушно пожал плечами, наверняка подумав: «Ну что ж, дело ваше – экзамен вам сдавать». Расстроенным профессор не выглядел – все знали, что он предпочитал, чтобы на пары ходили только заинтересованные студенты. Тогда для всех – и для преподавателя, и для самих студентов – лекция протекала с интересом и пользой.
Тут взгляд Решетникова задержался на девушке, сидящей на задней парте отдельно от всех. Она увлечённо жевала жвачку, но в то же время её внимание было полностью направлено на профессора.
– А вы, девушка, кто? – спросил он. – Не помню вас на дистанционных занятиях.
Студентка встала, и в её следующих словах послышалась некоторая дерзость – большая, чем требовалась для ответа на такой простой вопрос:
– Алиса Сенкевич. Я с исторического.
Кирилл удивлённо оглянулся на неё: редко когда студенты посещали не свои занятия, тем более по предмету, традиционно считающемуся скучным. А тут – студент-историк! У них же и своих неинтересных занятий хватает, разве нет?
– И что же привело вас на урок истории литературы, Алиса Сенкевич? – добродушно поинтересовался Решетников. – У нас тут немного не та история.
Девушка без раздумий парировала:
– Хочу понять, как жили люди в XIX веке. Я считаю, что совместное изучение истории и литературы может быть очень полезно.
– Совершенно согласен, – кивнул преподаватель. – Но обычно, когда так говорят, имеют в виду изучение литературы на фоне исторического контекста. То есть это литературоведам необходимо знать историю, а не наоборот.
Алиса готова была ответить и на это:
– Да. Но и историкам бывает полезно художественные книжки почитать. Там же всё совсем не так, как в энциклопедиях и справочниках. Это как Пугачёв у Пушкина – он же его описывает совсем иначе, чем учебники истории. А если ещё и исторические книги разных эпох почитать… то в каждом из них своя правда. Мне интереснее знакомиться с оценками исторических событий не от историков и учёных, которые – ну, вы знаете – часто пишут то, что выгодно нынешним правителям, а простого народа: от крестьян до писателей. Так что я бы послушала ваш курс. Если вы, конечно, не против, – с вызовом добавила она.
– Что ж, раз так, – Решетников засмеялся, – я не против. Пытливым умам мы всегда рады. Только жвачку уберите, пожалуйста, – не люблю, когда жуют на парах. Итак, Золотой век русской литературы. С кого начнём?
И началось занятие. Дискуссия, которая в ином случае могла бы быть вялой, сейчас протекала на удивление оживлённо – в том, что на паре присутствуют только те студенты, которым интересен предмет, есть своё преимущество, в этом Решетников был прав.
Кирилл, к сожалению, к таким студентам не относился – он-то на паре находился как раз вынужденно. Хоть читать он и любил, русская литература XIX века к его интересам никак не относилась. Ну как можно читать о будничных похождениях Онегина, Печорина или какого-нибудь Чацкого с бесконечными балами, приёмами и разговорами, когда в это же самое время жили и творили такие авторы, как Роберт Льюис Стивенсон, Джеймс Фенимор Купер или Жюль Верн со всеми своими пиратами, индейцами и фантастическими путешествиями? Нет, этого Кирилл понять не мог. А с познавательной точки зрения… Ну что такого могли поведать ему о жизни помещиков, дворян и офицеров Пушкин с Лермонтовым, чего бы он не смог узнать из семейных преданий и мемуаров своих предков? Так что русская литература Золотого Века практически не интересовала Кирилла. Поэтому и обязательную школьную программу он осилил далеко не полностью, рассчитывая, что в университете сможет наверстать упущенное – изучали здесь, в общем-то, те же самые книги, только намного глубже, да ещё и с научной, литературоведческой точки зрения. Но и учёба в вузе не смогла заразить Кирилла интересом.
Говорили на первом очном занятии не о каком-то конкретном произведении, а о литературе XIX века в целом – пытались найти в героях разных произведений некие общие черты, характеризующие этот период времени. Звучали фамилии персонажей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского и других выдающихся писателей и поэтов.
Кирилл молча слушал все эти разговоры, лениво пытаясь выудить из памяти смутные обрывки знаний, оставшихся со школы. Нет, вступать в дискуссию он не планировал, потому что очень слабо разбирался в её предмете, но нужно было быть готовым к тому, что преподаватель может обратить своё внимание на него и задать внезапный вопрос. Он очень не хотел попасть в немилость к Решетникову, поэтому судорожно вспоминал героев различных произведений. Фамилии и образы вереницей проносились в его голове, смешиваясь и путаясь друг с другом, как и события, участниками которых становились эти герои. В какой-то момент Кирилл, увлечённый размышлениями, неожиданно для самого себя пробормотал:
– Да что тут обсуждать: сволочи они все…
Он тут же понял, что высказал свою мысль вслух, и прикусил язык. Но было уже поздно: внимание всей аудитории, в которой резко наступила тишина, мгновенно переместилось на него.
– Что вы сказали, молодой человек? – удивлённо поднял бровь Решетников. – Воронин, если не ошибаюсь? Поделитесь и с нами своим мнением.
Кирилл мысленно выругался на себя за то, что привлёк нежелательное внимание к своей персоне, и встал.
– Я… я сказал: «Сволочи они все», – робко произнёс он. – Я имел в виду, что во всей русской классической литературе вряд ли найдёшь положительных персонажей. Как минимум, все они спорные, а в большинстве своём – отрицательные. Лентяи, лжецы, снобы, мошенники и убийцы.
– Кого конкретно вы имеете в виду?
– Да если подумать… – неуверенно проговорил Кирилл, – то кого угодно. Кого ни возьми – идеальных нет!
– А в жизни вы много идеальных видели? – с лукавой улыбкой допытывался Решетников.
Кирилл запнулся:
– Не много. Но литература на то и художественная, чтобы отличаться от жизни. Нужно же показывать хорошие примеры, чтобы читатель видел, к чему можно стремиться.
– А в нашей литературе хороших примеров, получается, нет?
– Ну… если и есть, то очень мало и я их сходу не назову. Ведь у нас как? Даже если персонаж на первый взгляд ничего, то рано или поздно он делает что-то такое, что ясно показывает его натуру. – Увлечённый, Кирилл незаметно для себя начал говорить громче. – Онегин, Печорин, Чацкий…
– Чацкий? – В голосе Решетникова слышалось неподдельное удивление.
– Чацкий, – без заминки подтвердил Кирилл. – Сноб, хам и глупец – какое уж тут горе от ума?
– Поясните.
– Три года не писать возлюбленной и ожидать, что она встретит его с распростёртыми объятьями? Глупец. Высмеять и разнести в пух и прах все устои человека, воспитавшего его и заменившего отца? Хам. Забыть, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, и начать критиковать и пытаться унизить членов окружающего общества, давя своим мнимым интеллектом? Высокомерный сноб. В современном значении, конечно же.
– Продолжайте. – Профессор с неподдельным интересом смотрел на студента, не отводя взгляда.
– Так вот, Онегин, Печорин, Чацкий, Обломов, Чичиков… Продолжать можно долго. И это я ещё не говорю о персонажах второго плана и антагонистах! Все сплошь мерзавцы и негодяи, причём законченные.
– То есть…
– То есть без возможности исправления.
– Без возможности исправления… – задумчиво повторил Решетников и поднял глаза на Кирилла. – И Чичиков тоже?
– А он чем лучше?
Решетников сделал паузу и, расправив плечи, неторопливо продолжил:
– Знаете, Кирилл Александрович, а ведь я свою докторскую защищал по «Мёртвым душам». Готовы подискутировать со специалистом по Гоголю?
Кирилл замялся – ему совсем не нравилось внимание, которое он привлёк. Но, чёрт возьми, ему нужно было произвести впечатление на Решетникова, ведь тот вёл один из основных предметов на факультете! Тем более, он уже ввязался – не идти же теперь на попятную? Нет, надо было выкручиваться, поэтому спустя несколько секунд Кирилл промямлил:
– Давайте попробуем. Только я ведь совсем не специалист по Гоголю, Николай Васильевич.
– Это как раз не страшно – специалистом никто не рождается, всему нужно учиться. А ваши какие годы? Сколько вам, двадцать?
– Да. То есть… почти.
– Ну вот, видите – у вас всё впереди. Я здесь затем и нужен: чтобы вас обучить, да и самому от вас чему-нибудь научиться – кто знает, какая истина родится в нашем споре? Ну а ваши товарищи нас, я надеюсь, рассудят – такие дебаты очень полезны для всех присутствующих.
Он пробежался глазами по аудитории – все молчали в ожидании интересной дискуссии.
– Ну так что, вы считаете, что Чичиков не заслуживает прощения и искупления?
– Конечно, нет! И не только я – какой-то писатель вроде бы называл Чичикова воплощением чёрта, – с удивлением для самого себя озвучил Кирилл мысль, всплывшую откуда-то из глубин подсознания. – Только я не помню кто.
– Дмитрий Мережковский, – кивнул Решетников.
– Впервые слышу. – Кирилл пожал плечами. – В любом случае чёрт – это же синоним дьявола, олицетворение зла.
– Ну, Кирилл Александрович, какой же это дьявол? Чёрт – это так, мелкая сошка. К тому же он скорее не злой, а лукавый – вспомните «Ночь перед Рождеством» того же Гоголя. Позволил бы дьявол вот так оседлать себя?
– Но он же в любом случае отрицательный персонаж? Он не заслуживает прощения и искупления. Значит, и Чичиков – такой же лукавый, такой же хитрый – тоже.
– Неужели? И вы так в этом уверены? Впрочем, насчёт чёрта Мережковский, конечно же, ошибался. Думаю, он не знал изначальной задумки Гоголя насчёт Чичикова и его дальнейших похождений. Да и что за аргументация была у Мережковского? «Лицо чёрта у Гоголя страшно не своей необычайностью, а своей обыкновенностью, близостью и знакомостью»? Детский лепет, ей-богу.
Решетников вышел из-за своего стола и присел на него, скрестив руки на груди.
– Если вы спросите меня, Кирилл Александрович, – продолжил он, – то я своего тёзку считаю вообще величайшим русским писателем. Что там Пушкин! Нет, простите, не так выразился. Александр Сергеевич бесспорно велик, но вот Николай Васильевич! Вот кто показал настоящую жизнь России!
– И в страшных сказках тоже?
– Ещё бы! «Страшные сказки», как вы их назвали, ничем не уступают по своему значению реалистическим произведениям, если заглянуть вглубь. А уж если говорить о «Мёртвых душах»… Это magnum opus Гоголя. Жаль, он не довёл работу до конца.
– Вы про сожжённый второй том? – спросил Кирилл.
– Конечно. Про второй и про третий.
– Про третий? – Настал черёд Кирилла удивляться. – Был ещё и третий?
– Был в планах, – пояснил Решетников. – Гоголь активно собирал для него материалы о Сибири: брал у друзей карты, справочники, атласы. В третьей книге Чичиков – обыкновенный мошенник, между прочим, а не какое-то там воплощение библейского зла – должен был оказаться на каторге в Сибири и там получить своё искупление. То самое, в котором вы, Кирилл Александрович, ему отказали, назвав законченным негодяем. Но сюжет третьего тома известен лишь примерно, в отличие от второго, содержание которого мы практически полностью можем узнать из черновиков и писем Гоголя к друзьям.
– И много таких писем?
– Достаточно, чтобы какой-нибудь грамотный специалист, – Решетников подмигнул, – мог создать реконструкцию книги и даже издать её.
– Вы написали второй том «Мёртвых душ»? – с недоверием спросил Кирилл.
– Я написал реконструкцию второго тома «Мёртвых душ», – поправил профессор, – это не то же самое. Написать второй том мог только сам Гоголь, таким, каким он его видел. А я всего лишь собрал воедино отрывки из черновиков и писем и восполнил недостающие фрагменты. На обложке даже моё имя написано гораздо мельче, чем имя Николая Васильевича. – Решетников сделал паузу. – Вот с третьим томом было поинтереснее.
– Вы и третий том написали?! – удивился Кирилл, и на этот раз его удивление разделили все студенты в аудитории.
– Написал, – коротко ответил Решетников. – Это уже больше моя работа, чем Гоголя. Но целиком и полностью основанная на его идее. Без ложной скромности скажу, что тут уже нужно быть отличным специалистом по Николаю Васильевичу, знать его характер и подробности последних лет его жизни, его планы и идеи.
– И что же там за идеи? Что за подробности последних лет жизни?
– А вот это, Кирилл Александрович, уже вы нам расскажете на следующей неделе в виде небольшого доклада. Изучите вопрос, почитайте письма Гоголя – все они есть в интернете, попытайтесь ответить на вопрос, как мог измениться Чичиков во втором и третьем томах – правда ли он достоин лишь порицания и не достоин прощения? Если сумеете меня удивить, то обещаю вам дополнительный балл на экзамене. И, Кирилл Александрович, раз уж у нас дебаты, прошу вас выразить именно свои мысли по этому поводу. Так что у меня будет только одно требование: пользуйтесь любыми источниками, но, пока не сдадите доклад, не читайте мои книги-реконструкции. Хотя они, конечно, доступны в любом книжном магазине, – Решетников обвёл взглядом аудиторию, сияя своей обаятельной улыбкой.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе