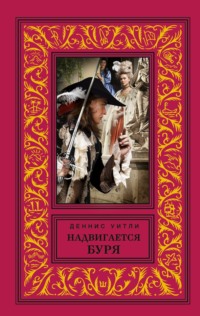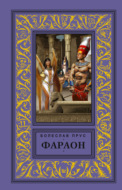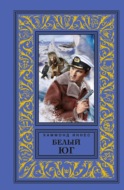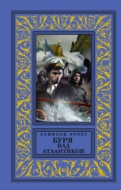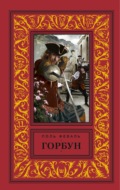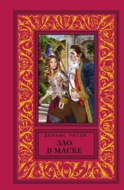Читать книгу: «Надвигается буря», страница 3
Глава 3
Семейный договор
Взбираясь в седло, Роджер подумал о побеге, но сразу же отказался от этой мысли. Наемная кляча годилась для прогулки, но силенок у нее было маловато, а у де Водрея и де Куаньи были прекрасные лошади, обе еще сравнительно свежие, несмотря на недавний галоп. Его кобыла, возможно, продержалась бы какое-то время, но он был уверен, что преследователи в конце концов совсем загнали бы ее и, не имея форы, он не успел бы отдалиться от них настолько, чтобы спрятаться за деревьями и валунами, пока они будут проезжать мимо, как это, по-видимому, сделал де Рубек.
Если что-то могло еще усилить его горькое разочарование от злой шутки, которую сыграла с ним судьба, так это мысль о том, что если бы спутники королевы не оказались близкими друзьями господина де Рошамбо и если бы они находились чуть ближе, когда она призвала их на помощь, то сейчас в качестве пленника в Фонтенбло ехал бы де Рубек, а отнюдь не он сам.
О том, что он – пленник, ему весьма недвусмысленно напомнили оба дворянина, поместившись по обе стороны от него, как только карета двинулась в путь. Вспышка гнева у него уже прошла, и от природы он не был склонен к унынию, но с каждым ярдом пути позади кареты он все яснее сознавал серьезность своего положения.
У него были все основания полагать, что дело де Келюса давно забыто; но, по-видимому, рука мертвого графа протянулась из могилы, чтобы стащить туда Роджера, и, даже если удастся избежать ее зловещей хватки, это можно будет сделать лишь ценой длительного тюремного заключения.
Когда они проехали уже более полумили, де Куаньи нарушил его мрачное раздумье:
– Сударь, то, что ее величеству было угодно поместить вас под арест, не отменяет некий обмен репликами, недавно произошедший между нами. Я имею в виду вашу угрозу вызвать меня на дуэль.
– Вы совершенно правы, господин герцог, – отвечал Роджер ледяным тоном. Его совсем не радовало, что вдобавок ко всем прочим своим неприятностям он еще навлек на себя дуэль, но у него не было и мысли о возможности какого-либо другого исхода, кроме как стоять на своем до конца, поэтому он добавил: – Когда наши пути пересеклись в прошлый раз, я служил секретарем у господина Рошамбо, и вы, возможно, считаете, что мое положение не позволяет мне драться с вами; но позвольте уверить вас, что я имею полное право носить звание шевалье, потому что моим дедом был граф Килдонен, а сейчас этот титул принадлежит моему дяде. Поэтому, если и когда я получу свободу, буду счастлив дать сатисфакцию вашей светлости в любое время и в любом месте, любым оружием по вашему выбору.
– После того, что вы рассказали о своем происхождении, я также готов сразиться с вами, если таково ваше желание, – отвечал герцог неожиданно мягким тоном. – Но я готов признать, что говорил необдуманно. Вы бежали в Англию вскоре после того, как убили де Келюса, и, конечно, не можете знать, что ваша дуэль и последовавшее за нею бегство мадемуазель де Рошамбо вызвали громкий скандал. Весь Париж был полон слухами об этой истории. И так как вы, по-видимому, сражались из-за этой дамы, наибольшее распространение получила версия о том, что вы, злоупотребив своим положением секретаря у ее отца, сделались ее любовником. Я, как и многие другие, принял на веру расхожую сплетню и впоследствии, если изредка и вспоминал о вас, то только как о соблазнителе. Но у меня нет никаких доказательств, и, если бы ваше неожиданное появление в обществе ее величества не удивило меня до полного забвения приличий, я, безусловно, не стал бы обвинять вас.
Роджер с уважением смотрел на красивого мужчину средних лет, ехавшего рядом. Почти два столетия короли Франции издавали указ за указом, грозя все более суровым наказанием в попытках искоренить дуэли, но это очень мало изменило отношение аристократии к вопросам чести. Дворянин не мог позволить себе стерпеть публичную обиду или неуважение, не потребовав сатисфакции: его неизбежно подвергли бы остракизму. Более того, в тех случаях, когда подобные поединки происходили с достаточным основанием и в соответствии с установленными правилами, даже королевские министры по молчаливому согласию помогали замять дело и спасти участников от наказания, полагающегося по закону. Поэтому, чтобы извиниться, требовалось куда больше мужества, чем для поединка, и господин де Куаньи, взяв свои слова назад, вызвал справедливое восхищение Роджера.
– Сударь, я глубоко тронут вашим откровенным признанием и с величайшим удовольствием готов забыть наш спор, ставший причиной этого недоразумения. Могу ли я добавить, что особенно чувствую великодушие вашего поведения, находясь в столь плачевном положении. Именно в такие трудные моменты рыцарский жест со стороны другого больше всего согревает сердце.
Помолчав минуту, он продолжал:
– Я, со своей стороны, прекрасно сознаю, что из моих действий в защиту мадемуазель де Рошамбо можно при желании сделать самые порочащие выводы. Но, если припомните, господин де ла Тур д’Овернь до этого уже вызвал де Келюса, дрался с ним и был ранен, так что только моя шпага стояла между нею и ненавистным браком, который затеял ее отец без согласия дочери. Господин де ла Тур д’Овернь был в то время моим лучшим другом. Ради него, не в силах допустить, чтобы его возлюбленная была отдана другому, я дрался с де Келюсом и убил его.
– Если дело обстояло так, то ваше поведение представляется весьма благородным, сударь, – вежливо заметил де Водрей. – И если бы поединок проводился по общепринятым правилам, вам сейчас угрожало бы в крайнем случае строгое предупреждение со стороны его величества да изгнание на небольшой срок куда-нибудь в сельскую местность. Но вы устроили де Келюсу засаду, навязали ему дуэль и сражались без секундантов, которые могли бы следить за тем, чтобы вы дрались честно. Это – убийство, и, боюсь, вам придется плохо.
– Господин граф, даю вам слово, что у меня не было преимуществ перед моим противником. Несколько раз мне даже грозила серьезная опасность получить от него смертельную рану.
– Этому мы готовы поверить, – вмешался де Куаньи. – Де Келюсу по крайней мере раз двадцать приходилось драться на дуэли, его считали одним из лучших фехтовальщиков во всей Франции. Победить столь прославленного дуэлянта – настоящий подвиг, и, с вашего позволения, нам было бы весьма интересно услышать от вас, что же в действительности произошло во время той встречи.
При всей своей природной самоуверенности Роджер всегда смущался, когда приходилось рассказывать о собственных достоинствах, поэтому хотя он охотно выполнил просьбу, но постарался ограничиться техническими подробностями схватки и представить окончательную победу скорее случайной удачей, чем блестяще выполненным coup de grace2. Такая скромность завоевала уважение его старших спутников, и последние несколько миль пути все трое дружески беседовали об искусстве фехтования с его бесконечными вариациями терций, финтов и выпадов.
Когда маленький кортеж выехал на мощенную булыжником главную улицу Фонтенбло, де Водрей не без колебания сказал Роджеру:
– Прошу меня простить, сударь, но уже несколько минут мне не дает покоя одна мысль. Когда вы бежали из страны после дуэли, помнится, за вашу поимку была назначена большая награда. При этом, кажется, упоминалась некая бумага государственного характера, которую вы увезли с собой. Есть ли здесь доля истины?
Этого обвинения Роджер страшился уже целый час или даже больше, но форма, в какой был задан вопрос, немного успокоила его. Очевидно, маркиз де Рошамбо не открыл своим друзьям, какова была природа похищенного документа и насколько он был важен. В данных обстоятельствах Роджеру очень не хотелось лгать, но выбора, очевидно, не было, если он хотел спасти свою шею; а при необходимости он умел солгать столь убедительно, как никто. Ни минуты не колеблясь, Роджер ответил:
– Действительно, господин граф, при своем поспешном отъезде я нечаянно захватил с собой один из документов господина де Рошамбо. Много дней спустя я обнаружил эту бумагу у себя в кармане. Сочтя документ в высшей степени конфиденциальным, я не решился доверить его почте и уничтожил.
К огромному облегчению Роджера, де Водрей был, по-видимому, вполне удовлетворен этим объяснением, и через минуту, когда они свернули в узкий проезд между Двором Генриха IV и Двором принцев, граф снова обратился к нему:
– Господин де Брюк, приятность нашей беседы делает крайне тяжелым для меня поручение ее величества; единственное, что я могу, так это предложить вам самому выбрать свою тюрьму. Полагалось бы отвести вас в подземелье и там поместить под стражу, но, если вы предпочитаете дать мне слово чести, что не попытаетесь бежать, я буду счастлив предложить вам комнату в моих апартаментах.
Роджер почти не колебался. Не говоря уж о неудобствах заточения в тюремной камере, шансов бежать оттуда, очевидно, будет немного; и, если бы даже все удалось, все равно это означало бы конец попыткам успешно выполнить свою миссию, ведь после этого он не мог бы и мечтать быть принятым при дворе. В то же самое время дружелюбное и сочувственное отношение его спутников приободряло и вселяло надежду на примирение с королевой, если бы только удалось уговорить ее выслушать его. Он ответил с поклоном:
– Я глубоко благодарен вам, господин граф. Охотно даю вам слово чести и буду весьма польщен, приняв ваше гостеприимное приглашение.
Теперь они повернули направо, через Ворота дофина в Овальный двор, и карета остановилась у входа справа, совсем рядом с воротами. Де Куаньи помог королеве выйти из экипажа и проводил к ее апартаментам; де Водрей вошел с Роджером в здание вслед за ними, но дальше повел его по коридору на первом этаже, затем вверх по лестнице в дальнем конце коридора, в центральной, самой древней части дворца, где у него были апартаменты, как раз за углом Галереи Франциска I.
Показав Роджеру предназначенную для него небольшую, но уютную спальню, граф сообщил, что скоро ему принесут обед в расположенную по соседству гостиную и что тем временем кого-нибудь пошлют отвести его лошадь обратно в гостиницу и забрать оттуда его одежду. Затем граф оставил его одного.
Глядя в высокое окно, выходящее на Фонтанный двор со статуей Улисса и прудом, где водились карпы, Роджер снова стал раздумывать, какой бы трюк изобрести, чтобы выбраться из этой передряги. Но ему не дали долго предаваться унылым размышлениям о своей злосчастной судьбе, потому что явился слуга графа, невероятно болтливый уроженец Бордо, который, по-видимому, считал, что в его обязанности входит развлекать хозяйских гостей светской беседой. Он стал накрывать на стол.
Вечером Роджеру также не представилось возможности погоревать о своем тяжелом положении – не успел он закончить обед, как вернулся де Водрей и привел с собой еще нескольких господ. Как выяснилось, у ее величества началась небольшая мигрень, и она решила отменить назначенный на сегодня музыкальный вечер. Де Куаньи, чья очередь была сегодня прислуживать королеве, единственный из близких друзей, остался при ней.
Роджера представили новоприбывшим, среди которых были герцог де Полиньяк, муж прекрасной Габриели, ближайшей подруги королевы и гувернантки королевских детей, герцог де Бирон и барон де Бретей, – всем им случалось вести с ним дела, когда он был секретарем маркиза де Рошамбо, а еще некоторых из присутствующих он знал в лицо или слыхал о них. В их числе были принц де Линь – солдат, поэт и знаменитый садовод, чьи таланты и обаяние сделали его персоной грата при половине европейских дворов; граф Валентин Эстергази, богатый венгерский дворянин, которого особо рекомендовала королеве ее мать, императрица Мария Терезия; барон де Безанваль, пожилой жизнерадостный швейцарец, командующий швейцарскими гвардейцами короля; и Август-Мария, принц Аранберг, известный во Франции как граф де ла Марк, сын самого блестящего генерала Марии Терезии.
Компания была благородная и привлекательная, по ней можно было судить о тех веселых и умных людях, которых Мадам Мария Антуанетта так любила собирать вокруг себя в более счастливые дни; теперь же они, ее самые давние и верные друзья, принимавшие близко к сердцу истинные интересы монархии, остались рядом с нею, в то время как сотни придворных временщиков, когда-то наводнявших дворец, разъехались по провинциям для участия в выборах.
Все они прекрасно помнили гибель де Келюса, бегство Атенаис де Рошамбо и ее замужество без отцовского благословения, и всем им не терпелось услышать эту историю из первых уст. Дневной свет угасал, задернули занавеси и принесли свечи, откупорили несколько бутылок вина, все разместились за большим столом и пригласили Роджера повторить рассказ о знаменитой дуэли.
Он вновь попытался преуменьшить свою роль в этом деле, но, когда закончил, все принялись громко восхвалять его поступок, искренне сочувствуя его нынешнему бедственному положению. Это укрепило надежду Роджера, что друзья королевы используют свое влияние и постараются добиться ее снисхождения.
Потом разговор стал общим и, естественно, много говорилось о неспокойном состоянии Франции; так Роджеру представилась возможность, еще утром казавшаяся почти недостижимой, узнать мнение об этом людей, приближенных к трону.
С некоторым удивлением он обнаружил, что их взгляды никак нельзя назвать реакционными. Напротив, многие из них были настроены весьма либерально, особенно де Линь и де Водрей. Последний, посетовав на искусственность придворной жизни, заявил, что давно оставил бы двор, если бы не был так привязан к королеве.
Во все время беседы вино ходило по кругу. Во Франции обычно пили меньше, чем в Англии, и вино – прекрасное анжуйское – было значительно менее крепким, чем привычный для Роджера портвейн. И все же к тому времени, когда друзья де Водрея удалились, Роджер успел основательно нагрузиться и, улегшись в постель, совершенно забыл о своих тревогах. Через несколько минут после того, как его голова коснулась подушки, он крепко спал.
Но, проснувшись утром, он с новой силой осознал грозящую ему опасность и, завтракая в постели шоколадом и свежими булочками с хрустящей корочкой, попытался взвесить свои шансы избежать королевского гнева.
Он начинал понимать, насколько неосмотрительно с его стороны было вернуться во Францию, не убедившись, что с него, как он полагал, снято обвинение в связи со смертью де Келюса. Вскоре после его бегства в Англию, в конце лета 1787 года, его дорогой друг, леди Джорджи-на Этередж, взялась уладить это дело. В числе поклонников прелестной Джорджины был в то время недавно назначенный французский посланник, граф д’Адемар, и она говорила, что, представив ему истинные факты, с легкостью добьется отмены обвинения в убийстве, после чего Роджеру можно будет предъявить лишь значительно менее тяжкое обвинение в дуэлянтстве.
Роджер с радостью принял ее предложение и написал длинное изложение событий для передачи посланнику. Зная, что разбирательство дел личного характера всегда сильно затягивается, он не стал добиваться скорого ответа, удовлетворившись полученным через Джорджину уверением д’Адемара, прочитавшего его отчет, что, если его изложение соответствует действительности, король в крайнем случае приговорит его на год к изгнанию. Так как с тех пор прошло уже почти два года, у Роджера были все основания полагать, что он может не опасаться дальнейших неприятностей по этому поводу.
Все обдумав, он предположил, что королева теперь передаст его в руки полиции, чтобы он предстал перед судом. Если это произойдет, он сможет потребовать, чтобы суду были представлены все бумаги, относящиеся к делу. Если повезет, среди них найдется рекомендация д’Адемара или, если Фортуна снова решит ему улыбнуться, может обнаружиться помилование, подписанное королем. С другой стороны, существовала опасность, что доклад посланника так и не дошел до его величества, а в этом случае только милость королевы могла спасти его от суда по обвинению в убийстве.
Мысли Роджера обратились к другому судебному разбирательству по поводу убийства, которое было еще живо в памяти. Всего шесть недель назад он и Джорджина едва не заплатили петлей на шее за свой роман, продолжавшийся в течение года. Отвратительная огласка в связи с судом заставила ее поспешно отправиться за границу, и сейчас она находилась в Вене со своим мудрым и снисходительным отцом.
Роджеру хотелось бы узнать, как ее дела, но он не сомневался, что отличное здоровье и удивительная жизненная сила с триумфом проведут ее через бесконечную череду светских приемов. Он был уверен, что эта распутница, какой сделала ее горячая, наполовину цыганская кровь, уж конечно, прибавила нового любовника к длинному ряду галантных красавцев, побывавших ее возлюбленными с тех пор, как ее впервые соблазнил пригожий разбойник с большой дороги. Кому бы ни позволяла она сейчас в городе на Дунае ласкать свои смуглые прелести – австрийцу, немцу, венгру или чеху, – по мнению Роджера, можно было считать, что этому парню крупно повезло. Ему самому случалось осаждать и покорять немало прекрасных дам, но ни одна из них не могла в качестве любовницы предложить столько редкостных и разнообразных соблазнов, как Джорджина.
Но для Роджера она значила гораздо больше, чем просто любовница. Оба они были единственными детьми, и, когда были подростками, Джорджина заменила ему не только сестру, но даже в каком-то смысле и брата. А когда ему больше всего не хватало уверенности в себе, она позволила ему думать, будто он посвящает ее в таинства любви, хотя на самом деле она посвящала его, так как ему, младшему из двоих, еще не было и шестнадцати. Это она подарила ему драгоценности, позже украденные де Рубеком, и, какие бы любовные связи ни переживали они поодиночке, в конце концов всегда возвращались друг к другу лучшими и надежными друзьями.
Мысли Роджера снова приняли другое направление, обратившись на этот раз к его последней беседе с мистером Питтом, и мысленно он заново пережил эту сцену.
Как и в двух предыдущих случаях, премьер-министр пригласил Роджера на воскресенье в Холвуд, свою резиденцию близ Бромли, чтобы конфиденциально, не торопясь дать ему необходимые инструкции. Там были два давних покровителя Роджера, которых он прежде знал как сэра Джеймса Харриса и маркиза Кармартена; первый в прошлом году стал пэром, получив титул барона Мальмсбери, а второй, в качестве министра иностранных дел всегда снабжавший Роджера деньгами на его секретную деятельность, всего лишь на прошлой неделе унаследовал от своего отца титул герцога Лидского. Была там и тень Питта – холодный и непреклонный, но честный и неутомимый Уильям Гренвилл, чья надменная неприступность резко контрастировала с чарующей любезностью новоявленного герцога и жизнерадостным дружелюбием недавнего пэра.
От таких близких друзей мистер Питт никогда не скрывал истинной цели путешествий Роджера, так что после обеда они продолжили беседу о положении во Франции и состоянии дел в Европе вообще.
Все присутствующие были убеждены, что французская монархия в форме абсолютизма доживает последние дни, но никто не думал, что политические волнения во Франции могут привести к великому восстанию наподобие того, которое стоило головы королю Карлу I и на время сделало Британию республикой сто сорок лет назад.
Они говорили о том, что в то время, как в Англии коммерческие классы получили поддержку большой части свободного и могущественного дворянства против короля, во Франции дворянство находится в состоянии упадка и не способно склонить чаши весов в ту или иную сторону; что даже буржуазия, хотя и требует для себя политических представителей, в душе сохраняет приверженность к монархии и никогда не выступит против своего сюзерена с оружием в руках; а крестьянство разобщено, ему не хватает лидера, оно способно лишь на местные жакерии, уже некоторое время вспыхивающие в разных частях страны в связи с нехваткой зерна.
Все также были согласны в том, что Францию по-прежнему следует рассматривать как угрозу интересам Британии. Все они пережили Семилетнюю войну, когда отец Питта, великий Чатем, вел Британию от виктории к виктории, так что в конце концов Франция была побеждена и присмирела, навсегда потеряв надежду создать свою империю в Индии и Канаде. Флот ее был уничтожен, торговля разрушена. Но они видели и поразительное возрождение Франции, пережили тревожные годы, когда Британия, пытаясь подавить восстание колонистов в обеих Америках, оказалась под угрозой французского вторжения и вынуждена была в одиночку противостоять всему миру, вооружившемуся против нее под предводительством Франции.
Все они были англичане, воспитанники суровой, практической школы, вынуждавшей считать интересы всех остальных наций второстепенными, лишь бы их родина ничего не потеряла. Питт единственный среди них провидел рассвет нового века, когда процветание Британии станет зависеть от благополучия ее соседей за неширокими морями.
Во время беседы о тех мрачных днях, когда половина невероятно ценных британских владений в Вест-Индии отошла Франции и когда длительную осаду Гибралтара удалось снять лишь ценой ухода основной части британского флота из американских вод, так что из-за нехватки боеприпасов и подкрепления британской армии пришлось сдаться в битве при Йорке, Гренвилл сказал:
– Во сколько бы ни обошлась нам недавняя война с Францией, им она обошлась еще дороже; потратив столько миллионов на поддержку американцев, они оказались теперь на грани банкротства.
– Я всегда слышал, сэр, – довольно робко вставил Роджер, – будто тяжелое финансовое положение Франции вызвано тем, что король Людовик Четырнадцатый истратил огромные суммы на дворцовое строительство, а король Людовик Пятнадцатый промотал чуть ли не такие же несметные богатства на своих любовниц, Помпадур и Дюбарри.
– Нет, – важно ответствовал Гренвилл, качая головой. – Тут вы ошибаетесь, мистер Брук. Действительно, несколько поколений французских королей растрачивали большую часть национального дохода на собственные развлечения и на придание себе как можно большей пышности; тем не менее финансовое положение Франции еще можно было поправить, когда Людовик Шестнадцатый взошел на престол около четверти века тому назад.
– Верно, – согласился Питт, – и, хотя король во многих отношениях слаб, он всегда самым серьезным образом стремился к экономии. Он доказал это, постепенно сократив количество своих придворных и распустив целых два полка королевской гвардии. Полагаю, мистер Гренвилл совершенно справедливо считает, что королевская казна могла бы снова наполниться, если бы ей дали возможность оправиться от огромных затрат на помощь американцам.
– Их вмешательство в наши дела дорого нам стоило, – ввернул герцог Лидский, – но теперь их глупость должна пойти нам на пользу. Как бы они ни изменяли свою систему управления, бедность еще долго не позволит им снова бросить нам вызов.
Мальмсбери провел половину своей жизни в качестве британского дипломата в Мадриде, Берлине, Санкт-Петербурге и Гааге, не раз безо всякой поддержки, одной лишь ловкостью, напором и личной популярностью при иностранных дворах разрушая замыслы Франции. Он считал Францию единственной серьезной соперницей Британии в борьбе за мировое владычество и был убежден, что его родина не будет в безопасности, пока ее главный противник не окажется в полной изоляции и в состоянии полного бессилия. Роджер вспомнил об этом, когда дипломат сказал:
– Ваша светлость принимает желаемое за действительное. Если французская казна пуста, это не меняет того факта, что население Франции вдвое больше нашего или что борьба за возвращение власти над Индией и Северной Америкой затрагивает их национальную гордость. То, что король Людовик имел глупость распустить своих мушкетеров, отнюдь не доказывает его мирных намерений. У него по-прежнему самая большая армия в Европе, он тратит на строительство военных кораблей каждое су, отнятое от дворянских пенсионов, он даже готов отказать своей жене в бриллиантовом ожерелье ради постройки еще одного корабля. Он гораздо больше истратил на строительство громадной новой военно-морской базы в Шербуре, которая не может иметь иного назначения, чем установление господства в проливе и угроза нашим берегам, нежели его отец выбросил на Дюбарри. Я рискнул бы последним фартингом, чтобы доказать: какая бы форма правления ни появилась во Франции в связи с нынешним тяжелым положением, они сумеют тем или иным способом найти средства при первой же возможности снова попытаться разрушить нас до основания.
Герцог только рассмеялся:
– Вы преувеличиваете опасность, милорд. Но если вы и правы, мы сейчас в большой мере благодаря вашим усилиям гораздо эффективнее можем обуздать возможную французскую агрессию. После прошлого конфликта в 1783-м только искусная дипломатия на мирных переговорах в Париже помогла не лишиться нам последней рубашки, но мы остались без единого союзника. А сейчас, после заключения Тройственного союза, если вдруг нам придется выступить против Франции, с нами пойдут Пруссия и голландские Нидерланды.
Мальмсбери наклонил вперед львиную голову, сверкая голубыми глазами, и ударил кулаком по столу:
– Этого мало, ваша светлость! Британия не будет в полной и окончательной безопасности, пока существует Семейный договор.
– Согласен, – подтвердил Питт. – Все вы знаете, что я не питаю вражды к Франции. Напротив, когда две осени тому назад нам удалось заключить с французами Торговый договор, исполнилось одно из моих заветнейших желаний, ведь этот договор обладает реальной силой и, значит, позволит осуществить мою мечту построить мост, что поможет предать забвению вековую распрю между нашими странами. Вы знаете также, что я стараюсь избегать заключения новых военных союзов, кроме тех случаев, когда это необходимо для нашей защиты. Если бы все придерживались моей политики, мы были бы дружны с другими государствами, но не имели обязательств ни перед кем. Увы, это невозможно, пока существуют союзы иностранных государств, которые могут выступить с оружием против нас.
Он умолк, чтобы налить себе еще бокал портвейна, затем продолжал:
– Из-за таких союзов и возникают войны, и лучшей иллюстрацией этого может служить Семейный договор, только что упомянутый милордом Мальмсбери. Наши недавние договоренности с Пруссией и Голландией обеспечивают нам их помощь в случае прямого нападения со стороны Франции, и это с учетом ее нынешних внутренних сложностей позволяет надеяться, что можно не опасаться новых попыток французов расширить свои владения за наш счет. Но, к несчастью, Семейный договор Бурбонов все еще связывает Французский двор с Испанией.
Наши отношения с этой страной давно уже оставляют желать лучшего. Не вижу, как можно было бы их поправить, пока в южноамериканских водах сохраняется существующее положение вещей. Испания всегда ревниво оберегала свои богатейшие владения за океаном, в то время как мы, нация торговцев, всеми правдами и неправдами старались пробраться на южный континент. Невзирая на многочисленные формальные запреты, мы закрывали глаза на часто незаконные действия предприимчивых судовладельцев в Вест-Индии. Контрабандный вывоз товаров с испанского материка на наши острова достиг чудовищных размеров, и между нашими моряками и судами испанской береговой охраны давно уже регулярно происходят стычки. Естественно, надменных донов это возмущает, и мы едва ли не каждый месяц получаем протесты из Мадрида, а губернаторы наших островов горько сетуют, что британских моряков, занимающихся своим законным делом, хватают, берут в плен, подвергают жестокому обращению и без суда заключают в тюрьму.
На красивом лице герцога Лидского появилось выражение досады.
– Это мне хорошо известно, у меня в министерстве иностранных дел целый ящик стола забит подобными бумагами. Но Испания не станет затевать войну по такому поводу.
– Я не стал бы утверждать этого, – возразил Питт. – Всегда находится последняя соломинка, которая ломает хребет верблюда.
– Нет. Хоть доны и шумят, дни испанского величия миновали. Если бы не финансовая поддержка из Америки, Испания была бы совершенно разорена. Посмей она открыто выступить против Британии, наш флот мигом отрежет испанцев от этого Эльдорадо и, возможно, навсегда лишит их заокеанских владений.
– С этим я согласен, если бы Испания отважилась объявить нам войну в одиночку, – отвечал Питт. – Но ваша светлость в своих рассуждениях упустили из виду Семейный договор. В 1779-м, когда мы воевали с Францией, Версальский двор призвал Мадрид выполнить это соглашение, и король Карлос Третий принял участие в войне против нас. Где гарантии, что его наследник, если сочтет наши действия чересчур нежелательными, не вспомнит в свою очередь о договоре и что король Людовик, хотя и неохотно, не будет вынужден также выполнить свои обязательства? На мой взгляд, любая война прискорбна, и, хотя исход войны с Испанией мог бы не вызывать у нас большого беспокойства, если нам будут противостоять Испания и Франция, вместе взятые, Британии может прийтись довольно туго.
Герцог пожал плечами:
– На мой взгляд, у Испании очень мало шансов раздуть пожар войны из своих обид по поводу набегов наших каперов. Так что подобная ситуация весьма маловероятна.
– Но если бы это случилось, – настаивал Мальмсбери, – ваша светлость не может не признать, что дела наши были бы плохи. Не следует забывать, что французская королева – из Габсбургов. Ее влияние позволило за короткий период значительно сблизить Версальский и Венский дворы, и в случае войны она вполне могла бы убедить своих братьев прийти на помощь Франции. Тогда Испания, Франция, Австрия, Тоскана и Королевство Обеих Сицилий объединили бы свои усилия нам на погибель.
– Милорд Мальмсбери совершенно прав, – объявил Питт. – Нарисованная им ужасная перспектива слишком легко может воплотиться в действительность, если Испания извлечет на свет этот проклятый Семейный договор. К счастью, непосредственной опасности пока нет; но эту возможность лучше всего полностью исключить.
Тут он обратился к Роджеру:
– Надеюсь, мистер Брук, вы не забудете этого разговора. Прежде ваша миссия требовала от вас всего лишь выступления в роли наблюдателя, но теперь я поручаю вам, кроме этого, если вам удастся стать персоной грата при французском дворе, обращать особое внимание на все, что касается франко-испанских отношений, и, если представится случай, приложить все возможные усилия к тому, чтобы ослабить дружественные чувства, существующие в настоящий момент между этими двумя странами. Разумеется, было бы слишком ожидать, что ваши единоличные действия смогут привести к отмене Семейного договора, но в прошлом вы не раз проявляли исключительную проницательность. Вы не могли бы оказать большей услуги своей стране, чем если бы подсказали мне, придерживаясь какой политики я мог бы впоследствии окончательно разрушить его.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе